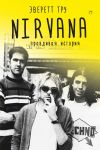Читать книгу "Человек как iPhone"

Автор книги: Оганес Мартиросян
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Член – это хобот мамонта, а не слона.
– Куда мы идем?
– Пойдем для начала в парк.
– Давай, – согласилась Кортни.
Они минивали оживленную улицу, повернули налево и погрузились в зеленое, основное, конкретное, плотное, загружая в мозги и скачивая в них увиденное: лавочки, семечки, девочек, бегунов и собак.
– Присядем.
– Пожалуй, можно.
– Главное – чтобы менты не докопались.
– Да на фиг мы им нужны.
Курт допил оранжевый блейзер, выкинул банку в урну или мимо нее, глотнул тишины и восторга, летающих мыслей Ницше и взял за руку Кортни.
– Что с тобой, Курт?
– Захотелось поцеловаться.
– Ты пугаешь меня.
– После всего, что уже между нами было?
– Между нами не было ничего. Я девочка.
– Разве?
– Это я хотела у тебя спросить. Может, ты порождаешь во мне страх для того, чтобы я превратилась в камеру и поглотила тебя?
– Наверно. Точная мысль. Камеры заглатывают действительность. Сажают ее в себя. Это два целых мира. Наш и виртуальный. Скоро реальность станет делать минет видеокамере, чтобы та кончила и выплеснула из себя всё то, что поглотила. К примеру, живых людей.
Он засуетился, как курица перед кладкой яйца, и поцеловал Кортни в губы. В тот же миг над ними загорелась лампа или звезда.
– Видно, уже темно, хоть светло и пронзительно, вздорно и хорошо.
– Нет, – возразила Кортни, – просто мы влюблены друг в друга.
– Тогда надо кричать об этом, вопить, бить бутылки об головы, в конце концов.
– Я не люблю кричать. А если бы и любила, то не стала бы. Потому что тогда нашу любовь может схватить прохожий, какой-нибудь дядька, сунуть в рюкзак и унести. И тогда ищи-свищи его по всему городу.
– По стране.
– По квартире. Хороший ты парень, крутой, вламываешь такую музыку, что коленки трясутся, дома пританцовывают, а машины совокупляются.
– Конечно, вполне очевидно, что Камаз родил из себя Оку. Маленького ребенка, в панталонах, в бантах и в туфельках. Блистающего на балу. Едущего по деревне Косые. Абсолютно в грязи.
– Ты хочешь ребенка?
– Ты угадала, шагающего по миру и устанавливающего мировой порядок сапогом, обитым сталью и мраком, космосом из огня.
Отсел немного подальше, залюбовался собакой, сотканной из предложений Толстого, из его повести Отец Сергий, и закурил. Дымок обозначил небо.
"Печально ходить по вечерним улицам Стокгольма, но так поэтично: капает дождь, прохладно, прохожие спешат домой, а ты идешь, а после стоишь возле подъезда, сунув руки в карманы, и ждешь, когда дождь превратится в снег, то есть вернет тебя в детство, в космос, точнее если, в бесконечность, в полет, кончающийся фейерверком в доме номер один по улице Евстигнеева на границе Судана и сна".
Посмотрел на часы, скоро в клуб, только не понятно, пойдет с ним Кортни или нет, но он не думал об этом, какая разница, все равно будет хорошо, тепло и уютно, выпивка и музон, черные парни, грудастые женщины, долгое мочеиспускание в туалете и прочее, похожее на Афган в тысяча девятьсот семьдесят девятом году.
– Сегодня довольно тепло, хочется даже на пляж, покупаться, посохнуть.
– Это же не для нас, наше – кавычки и скобки, чтоб их разрывать и нестись вперед.
– Хочется иногда человеческого, житейского, будешь смеяться – мещанского.
– Так мы и так мещане, – не согласился Курт, – максимум наркота и разбитые гитары, выпивка, сигареты, грусть и тоска, свинец. К чему это я? Да к тому, что в Катар пора, в Доху, ловить жемчуг, снимать баб и на телефон, жить в шикарном отеле, потягивать кальвадос и курить кальян.
– Снимать? Ты забыл меня.
– Ну хочется же свободы, взрыва в сознании и познании, которое – автомобиль, танк, поезд, лодка, пароход, дирижабль и самолет.
– Танк. Познавать – стрелять и давить живые тела.
– Сидя в комнате Фридриха Ницше, в очках и в туфлях, боясь высунуться на улицу, ведь там на голову могут сесть бабочка или жук.
Перешагнули через себя, валяющихся на земле, и пошли в сторону консерватории, потерялись и разошлись, чтобы тянуло сильнее друг к другу. Но сперва Кортни села в такси, а Курт отдал деньги водителю, велев везти его подругу через ухабы, клочья, разрывы, Лос-Анджелес, Вашингтон, израильские кочки и запятые, тире и вопросы, витамины и здравствуйте.
"Чуть-чуть Австралии в стакане с сиропом, немного голубых сигарет, чтобы время стекало с губ, а пространство втекало в желудок, возведенный из кирпичей".
Добрался до клуба, сел за столик, взяв текилы себе. Начал листать айфон, сообщения, строчки.
– Замечательно просто.
Выложил фото из библиотеки, где он выступал месяц назад, раскрыл себя, словно раковину, в которую он блевал, когда ему было плохо, когда исходило нутро, как из Египта евреи, нация, создающая и строящая облако всю свою жизнь.
"Здесь восхитительно, только не хочется драк, потому я и не выступаю, а то местные озвереют от того, что я иностранец, а сам пою о захвате земли, почек, листьев, воздуха и сосен нерусскими, лавиною с гор, хоть я сам полет. Ведь русские захватывали Кавказ, как самолет разгоняется и взлетает в небо, туда, где растут горох, говядина и паштет".
Скоро в проеме показалась фигура Криста, она застыла, а потом села за соседний с Куртом столик.
– Извини, я не узнал тебя, – сказал Крист, повернувшись к Курту и не двинувшись с места.
– Так теперь-то узнал.
– Наверно. Думаю, да.
– Так и будем сидеть?
– Сядь ко мне.
– Хорошо.
Курт взял бутылку и пересел к другу, который вел себя иначе, не как всегда, чудил и произрастал из неизданных композиций Queen.
"Сейчас мы сидим, а завтра наши кости найдут в Алеппо, откопают из недр, в голоде и в пыли, в интервенции, вторжении Турции в мозг".
Крист тоже взял себе выпить, сделал большой глоток, выходящий за пределы разумного, и посмотрел на Курта.
– Молодеешь.
– Не думаю, просто сгораю, летаю над солнцем, вокруг него и внутри, упираюсь в стенки, пытаюсь вылезти, выбраться, стучусь, зову на помощь себя наружного.
– Тебя двое? – не понял Крист.
– Пока что да, но в дальнейшем я могу обустроиться в пекле, соединившись с собой наружним, или остаться таким, из двух частей и ломтей, хлебом из Ленинграда, окутанным легендами и сажей, голодом миллионов желудков, скомканных и скукоженных, просящих кирпич, чтобы он лежал внутри них и кормил их тысячи лет.
– Чтобы обсасывали его. Конечно, надо искать такое питание, которого бы хватало надолго, на столетия и на всё.
Курт совсем опьянел, каждый глоток давался с трудом, с восхожлением на Эверест, на вершины, на пики, являющие собою карточную масть.
"Пьян, но ведь так нельзя, нужно быть трезвым, вдруг кончится музыка, и люди захотят стихов, то есть тела без кожи, интимного, вскрытого, не облаченного в ритмы и грохот, лишенного сопровождения, рукопашного, а не пуль и снарядов, ядер. Так и должно быть, стихи – это голое, порнография, самое то, огонь и проникновение, пенисы и вагины, груди, соски, овалы, только такое, не латы и не броня".
Зазвучала музыка, вышла местная группа Карбованцы, загремела салютом, его звуком, освобожденным от тела. Курт сходил в туалет, взял бутылку портвейна, разлил его по стаканам, начал слушать звучащее.
– Это теперь легко, но каждую секунду с того света может ворваться Дудаев и устроить войну в любой точке земного шара.
– Брось, Курт, нам ли бояться его? Мы и сами Чечня кругом.
– Я просто чувствую и слышу дагестанскую польку и мазурку. Что-то такое зверское. Аккуратное и нарезанное на Афганистан и Пакистан. Войну черных и белых, взятую за шиворот и корчущую ужасные рожицы, пищащую, как мышонок, которому тоже хочется жить.
– Ерунда, не надо думать о смерти, всё равно ее не избежать. А того, чего не избежать, попросту нет.
– Надо думать о ней, мышление – таран и орудие, ты ломаешь ее, насилуешь, вгоняешь в долги, гонишь голой на улицу, не иначе, никак.
– Мышление то, что в твоей голове, и не более.
– Оно блюёт наружу мыслями и предложениями. А вообще – есть океаны мыслей, сильная голова захватывает их, уводит в плен, то есть в себя, и пожирает. Пожирание есть мышление.
– О, что-то новое, в пьяном и наркотическом состоянии особое мышление, особый захват. Понятно. И трупы нейронов – просто шлак, то, что не переработалось, не стало сознанием, вышло наружу и отправилось спать.
– Спать, чтоб потом проснуться, мозг выходит с мочой и продолжает битву с другими мозгами.
– Тяжело. Соглашусь.
Выпили по одной, захотели еще. Крист разлил по стаканам портвейн.
– Три семерки.
– А то. Ерунду не беру.
– Молодец, – похвалил Курта Крист. – Как там дела у Кортни?
– Хорошо, отдыхает.
– Не бухает?
– Да нет. Пьет иногда – со мной.
– Ты ж постоянно пьяный.
– Не всегда. Не гони.
Курт закрыл глаза, и в тот же миг тысячи железных птиц залетели в зал, начали кружить, заглатывать лампочки и откладывать их в виде яиц.
"Ясновидение, рост железа из тела, нарастание напряжения, новые таблетки, родом из Америки, палеонтологии, нового рассказа Горького, который он написал на бумаге, сделанной из его гроба".
Открыл глаза, сделал глоток, захотел чипсов, потому пошел к опустевшей сцене, взял в руки микрофон и начал читать стихи из айфона, вламывать начистоту, с обеих рук, с обеих ног, лежа на спине, как черепаха, которую жарят в собственном панцире. После чтения поклонился и под авации и мат пошел к Кристу.
– Как тебе?
– Ничего, только не надо было отвешивать поклон.
– Так-то да.
– Слишком жирно, тебе должны говорить спасибо.
– Обязаны, я не спорю.
– Черный лук, квадратный картофель. Нет, ты понял меня?
– Как не понять? Ты об этике.
– Именно, о самом твердом на свете, то есть о Марксе в Мазде CX 500.
– Что за тачка?
– Шикарная.
– Я не слышал о ней.
– Скоро по всей стране.
– Думаешь?
– Да.
– Окей, – вырвался в небо Курт.
Они вышли на улицу покурить, задымили, зажглись, разошлись, раскумарились, как и должно было быть, ведь иначе поезд побежит по дороге, крича и вопя обратное себе и истории государства Российского, которая равна вдоху и выдоху сигареты Мальборо, того, что не здесь, а там, в Калифорнии, где поезд едет внутри самолета, от хвоста к голове, по-шпаликовски, по-данелиевски, как и должно быть, потому что в ином случае мексиканец разрежет планету Сатурн на две части, одну половину наденет на голову себе, а другую – на голову своей жене. Так и будут ходить.
"Ничего не говорить, молчать, только смотреть телевизор, даже выключенный, даже выброшенный на помойку, даже разобранный, но не отрывать от него своих глаз и вламываться в провинцию, струящуюся и стекающую в гигантский экран, стоящий в Москве, в голове и в центре, который обещает стать сексом, пеплом и тишиной".
Так и стояли, облаченные в звезды, заезды, наезды, правя будущие века и калифорнийское небо, которое заскочило сюда, в Россию, в твердые времена, иссушенные страсти, абстрактные позывы и призывы в армию ровно в сорок семь лет.
5. Солнце Калимантан
Вернулись, решили потанцевать, стали двигаться, держа в руках выпивку и прикладываясь к ней, выдумывать новые обороты и постановки ног, пахнущие шашлыком на улице Антонова и Астраханская, где прошла молодость всего мира и где голуби и воробьи свили себе одно общее гнездо, чтобы выращивать в нем кофе, прохладу и чай.
– Вот так хорошо, стабильно, не слишком жарко, – отметил свой танец Курт.
– Пробежка, нехватка ног.
– Это тебе не ломать гитару об головы фанатов ЦСКА и Спартака.
– Они не такое любят.
– Бегают, кричат и вопят.
– Гол, нужен гол!
– Кони, повсюду кони!
– Мясо, повсюду мясо!
– О, повсюду конина!
– Братство, навек, всегда!
Сели за столик, взяв водки, русской пшеничной водки, выпили, вызвали шлюх, сели в такси и помчались к Кристу, на его холостяцкую хату в центре Саратова, в городе, нагороженном месте, огороженном от всего человечества, дышащем самой большой высотой, самыми крупными звездами и самой синей мечтой.
– Чудо.
– А что такое? Что здесь такого, Курт?
– Да ничего, но жизнь просто бьет ключом.
– Девочки просто классные.
– Нужен хороший секс.
– Так сейчас им займемся.
Четверо тел слились, разделившись попарно, двое начали вбивать сваи, чтобы построить дом, в котором поселятся тысячи человек.
– Свая, какая свая!
– Не хватает насвая!
Девочки вскоре ушли, а Курт оделся и пошел купить сигарет. На улице к нему подошел молодой человек и посветил ему фонариком в лицо.
– Ё, это же тот самый тип, который пел в клубе Завод песни о захвате нашего массива черными! – закричал он. – Вот это да! Черные – даги, чехи и ары – захватят нашу спокойную жизнь, где драки, работа, аборты, семки, пиво, разборки, семьи, русские, мы. Парни, ребята, эй!
Из подворотен, от стен, от углов начали отделяться тени, при свете превращаясь в конкретных людей. Они все устремились к Курту, началась драка, жесткая, не похожая ни на что.
– Бей в лицо и под дых!
Вскоре Курт упал, его попинали недолго и ушли, бросив, что этого они так не оставят, то есть так будет везде, с каждым черным, возомнившим себя горой Арарат.
– Я не черный, не черный, – шептал Курт, вытирая разбитые губы. – Нет, я черный. Уже.
Сломался, как автозавод, но встал, побрел за сигами, взял пару пачек, не глядя в испуганное лицо продавца.
– Спасибо, не надо сдачи.
– Возьмите.
– Уговорили.
Дома у Криста снова упал, лежал, приходил в себя.
– Э, чувак, да ты ранен.
– Да, пришлось нелегко.
– А меня не позвал.
– Слишком люблю тебя и ценю.
– Не хотел, чтобы меня разукрасили?
– Зачем тебе?
– Заодно.
Присели за стол, начали пить водку, которая щипала разбитые губы Курту, курили, даже смеялись.
– Эта война только началась, скоро она охватит всю Россию. Весь мир.
– Верно. Но ты уверен?
– Да, – утвердился Курт.
– Самая незаметная в мире война, когда автоматы, пулеметы и танки будут сдавать в металлолом, громоздя гигантсаие горы, вдвое, втрое, вчетверо выше Эвереста.
– И на вершине будет стоять маленький ребенок.
– С игрушечным пистолетом в руках.
– Стреляя им в солнце.
– И попадая в него.
Разлили остатки водки, поставили пустую бутылку под стол, закурили табак. Вытянули ноги в ботинках.
– Ничего не поделаешь, здесь доверяют рукам и ногам, бьют, молотят, гнетут.
– То ли дело читать Достоевского. Достоверного, – залыбился Курт. – Ровная трасса, по которой мчится машина, Гелендваген, забитый под завязку Раскольниковым, напичканный им.
– Когда открываешь окно – Раскольников, открываешь багажник – Раскольников, хочешь заправиться, но в бензобаке тоже Раскольников.
– Конечно, хоть ночь подходит к концу. Кортни, скорей всего, спит.
– С каким-нибудь мужиком.
– Э, не говори так, братан.
– Ладно, ладно, шучу.
Легли вдвоем на диван, уснули и увидели одинаковый сон: площадь, а на ней казнь тысяч людей на глазах Пугачева, руководящего этим процессом, смеющегося, хохочущего и пьяного миллионами звезд.
– Это моя вам месть, – кричал Пугачев, – вы злые, косные, страшные, вам по пятьсот миллионов лет. Не меньше. Убью, раздавлю и съем.
При этих словах Пугачев начал расти, пока не уперся головой в черепа Курта и Криста. Они встали, посмотрели друг на друга и усмехнулись: всё поняли сами. Умылись, побрились и искупались. По отдельности даже.
– Вот и ништяк, – произнес Курт. – Поеду домой и буду писать мелодию.
– Музыку?
– Иногда. В целом – куражиться и звонить Кортни.
Курт вышел на улицу, усмехнулся на солнце и сел в трамвай. Затрясся в нем. Смотрел из окна, сидя на двойном сиденье, пока рядом не почувствовал человека. Он повернул голову и увидел бородача. Тот смотрел на него.
– Были проблемы?
– Так, помахался влегкую.
– Из-за нас?
– Из-за нас. Ты-то откуда знаешь?
– Волны докатывались. Мы не успели.
– Били толпой.
– Знаю, такое время. Мы, чеченцы, танцуем лезгинку на его кончике. Миллион человек на конце иголки, шприца с галоперидолом.
Чех замолчал, продолжая иногда смотреть на Курта, оценивая его.
– Почему именно с ним?
– Планета у нас такая. Третья. Звонок в 03.
– Настолько цифры имеют значение?
– Всё имеет значение, вопрос только в степени, – чех кинул в рот жвачку.
Они проехали пару остановок, после чего опять заговорили.
– Сталин страшен во сне, а в реальности страшно его отражение в зеркале, откуда двойник может выйти и убить того, кто смотрит на себя, не понимая, что в зеркале невозможно увидеть себя – только другого человека, из другого мира, планеты.
– Чеченцы вообще редко философствуют.
– Наша философия не в словах и буквах, а в поступках. Философия выстрела. Взгляда, удара, льва.
– Так говорят все кавказцы, – сделал поправку Курт.
– Ну, почти. Я приехал. Дай мне свой телефон.
Они обменялись номерами и расстались, чеченец сошел, а Курт покатился дальше, в тепло, в Ватикан, в обман.
"Хороший мужчина – чех, здоровый и сильный духом, такого не сломать, таким только ломать, брать его дух и мочить им врагов, стреляя в изнанку плоти".
На выходе он отдал водителю деньги, после чего сделал усилие воли и очутился дома, пока его тело шагало по дороге и торопилось к себе. Курт встретил себя, свое инобытие, открыл дверь, пожал ему руку и слился с ним, стал одним. Разбился на миллион частиц, собрался, поставил сковороду на огонь, разбил над ней яйца, позавтракал, выпил кофе и набрал Кортни.
– Я тебе изменил.
– В презервативе?
– Да.
– Пустяки, не измена. Вот без него – это всё, конец, неприятности, головная боль и удаление всех зубов. Плавание в Ла-Манше.
– Встретимся этим днем?
– Нет, давай в другой раз. Я занята.
– Идет.
Выключил телефон, закурил на балконе и стряхнул пальцем пепел.
"Печальное будет длиться вечно, до разврата, до Содома, Гоморры, впечатывания себя в века, издания звезд в виде книг, продаж капсул со временем, глотания их и омолаживания себя или старения, смотря какое лекарство, плюс или минус, что будет доступно всем, в ближайшем конкретном будущем, поскольку иначе нельзя".
Нисколько не свесился вниз, не заорал, не забил себя в грудь – просто наслаждался покоем, голубями, клюющими зерно, и воробьями, едящими хлеб.
"Сигарета приближается к губам, как поцелуй Мэрилин Монро, спустя время, наплевав на гибель в самом расцвете лет, поскольку эта женщина всегда молода и красива, не ушла, никуда не делась, не разложилась и не стала прахом и пеплом, в котором дети запекают картошку и едят ее, обмазанными и впитавшими в себя почки, печень и сердце голливудской красавицы, коей семнадцать лет – всюду или всегда".
Тут зазвонил айфон, высветился номер чеченца. Курт ответил на вызов.
– Вечер, вечер и вечер. Драка, драка и драка.
– Я не спорю, окей.
– Будет большое небо, пахнущее звездой.
– Да, а как вас зовут?
– Я Муса.
– А я Курт.
– Редкое имя.
– Очень.
– Но нельзя говорить простое и целенаправленное, слова обостряют жизнь, намеченное внутри, то самое, что везде: я говорю тогда, когда мои слова неизбежны, когда люди вокруг ждут этого.
– Слова вылетают изо рта и увлекают за собой стадо бизонов или волков.
– Или кусок свинины, или щепотку соли, или само ничто.
– Его лучше не ждать: оно все равно не придет. Желательнее макать в ничто указательный палец и засовывать его себе в рот.
– Вот и поговорили.
– Ладно, давай, пока.
Перестал говорить, начал смотреть в айфон, заставка которого заклубилась и потекла дымом, превращающимся во время, едущее назад.
6. Греция в голове
Проспав целый день, вечером сидел на кухне и ломал грецкие орехи.
– Это яйца – мой мозг.
Ел, жевал и творил указательным пальцем легкое и волшебное, таврическое.
"Печать Каина на челе, Денница встает вокруг, Белаз едет по улице и въезжает в айфон, маленькое устройство, способное поглотить весь мир, не жуя, не дробя, только кидая в желудок, чтобы растворить и сделать собой, а не получится – так блевануть, выдать весь мир обратно, но в другом уже виде".
Надоели орехи, хруст которых вызывал внутри него боль. Курт открыл банку ветчины и начал ее медленно есть, смакуя каждый кусок, самое сильное и простое, с жирком, холодцом, желтым и белым, очень приятным и вкусным, так как вокруг ислам.
"Столько лет четвертовать свою душу, чтобы добиться наконец бессмертия, сделать его подушкой, одеялом и простыней, так как иначе не будет вообще ничего: человечество зависло между аннигиляцией и вечностью, если оно не освоит весь космос, то его попросту не станет. Так повисли здесь мы".
Часы показали одиннадцать и кусок колбасы по-докторски. Телевизор выключился сам собой. Курт открыл дверь после звонка. На пороге стояла соседка. Лет семнадцати-двадцати. Он точнее не помнил и не знал ее имени.
– Здравствуйте, я услышала музыку и пришла на концерт.
– Здесь неспешная музыка.
– Ну а что? Я войду?
– Заходи, я не против.
– Можно пива попить.
– Пожалуй.
– У меня две бутылки есть.
– Хорошо. Или я куплю.
– Нет, не надо. Я принесу.
– Вы Евгения?
– Я Борис, – она рассмеялась. – Я шучу. Меня звать Мариной.
Она ушла и через пару минут вернулась с пивом и чипсами. Сели за стол, но не напротив друг друга, а рядом.
"Только не секс, я его не переживу, не хватит мозгов на секс, еще эти орехи, не успел унести, теперь она будет их грызть и выглядеть, как Голливуд в девятнадцатом веке".
Решили разлить по стаканам пиво. Курт взял их с полки, дунул в них и поставил на стол.
– Не будем пить из горла?
– Думаю, что не стоит.
– Ну тогда всё пучком. Вы музыкант? Я слышала.
– В общем и целом – да.
– У меня в уме такое творится, когда вы играете: всё опускается вниз, мои поцелуи, прокладки и месячные, первый секс и аборт, а потом это всё ударяет вверх, в самую высшую точку. А оттуда взлетает, уводит к Останкинской башне, вещает на целый мир.
– Давай на ты.
– Хорошо. Курт, как ты так делаешь?
– Просто живу и дышу.
– Как Окуджава в тысяча девятьсот девяносто восьмом году?
– Нет, как Галич в тысяча девятьсот семнадцатом.
– До рождения?
– Да.
Сделали по глотку.
– Где у тебя здесь тарелки?
Он показал. Марина взяла одну и высыпала чипсы на нее.
"Какие красивые бедра, ничто их не спрячет, не уведет, только если концлагерь, но там будет наоборот: исчезнут кости, а мясо будет торчать, зиять и вопить".
Марина коснулась ногой его ноги и отодвинулась.
"Вот и агрессия началась, еще немного, и она набросится на меня, будет пихать мне в рот розовые соски, начиненные творогом, сметаной, ряженкой и молоком. Нет, не так: набитые говядиной, бараниной и свининой".
Он врубил радио, самую далекую в мире волну или войну, как подумал сначала он.
– Ты красивая в целом.
– Да, мне парни говорили и говорят об этом, но им нужен только секс и галочка.
– Так они жрут витамины. А вообще, хотят утвердиться за счет женского, отдать свою часть женщине, чтобы она ходила везде и рекламировала их.
– Понятное дело, это же не моя мечта.
– А какая она у тебя?
– Раздвинуть ноги и лежать на балконе, чтобы в моей вагине свили гнездо.
– Муравьи?
– Можно птицы. Муравейник хорош, но сейчас не по мне. Разве не классно: ты лежишь, а в тебе птицы.
– Думаю, нет.
– Почему?
– Потому что вагина – шахта. В нее погружаются рабочие и добывают руду.
Пиво кончилось, и они ударились в разговоры и в музыку.
– Как ты играешь так?
– Да обычно играю.
– Но я слышу такое: колумбийцы в России, в каждом огромном городе, в каждой скромной деревне.
– Вроде про них не пою.
– Но ты вламываешь конкретно: сначала взрыв, в середине – взрыв, в конце – тоже взрыв. Рёв раскалённого металла. Во всех твоих композициях, в каждой их секунде в них гибнет Терминатор Т-1000.
– Да, мне близок Т-800.
– В первой части? Второй?
– Думаю, что в обеих.
– Классно. Поставлю кофе.
Марина встала, не с первой попытки включила кофемолку, сполоснула две чашки и поставила турку.
"Эх, это молодость, жалко, что мне не в кайф, пули летят в затылок, пепел сыпется вниз, ноги ведут в магаз, там хорошо, светло, можно брать в руки алкогольные напитки, щупать их, получать удовольствие, рвущееся из уст всего человечества".
Вскоре Марина ушла, обещав заглядывать к нему, когда он один, что она чувствует сердцем, а не глазом в глазке.
"Сухие ветки цепляются за одежду, не дают мне пройти, напоминают о коньяке, его силе, когда ты совсем один, не признан и далёк от победы, которая – форточка, открытая в зимний день, столкновение холода улицы и тепла батареи, их в сём мире двоих".
Курт поискал еще выпивки, но ничего не нашел, загрустил, подумал о герыче, но откинул такую мысль.
"Дуэйн "Скала" Джонсон никогда не сдается, он поднимает Фаларийского быка, разламывает его на две части и ест его содержимое. Он бьет по лицу прохожих перчаткой, начиненной свинцом. Он побеждает в одиночку все армии мира. Он может убить гусеницу своим взглядом. Женщины беременеют от мыслей его, летающих в воздухе. Его ноги образуют Триумфальную арку с висящим меж них колоколом мира, в который бьют только раз в сто лет, возвещая о великой победе духа над плотью, о победе, в которой никто никогда не умрет, а Дуэйн "Скала" Джонсон заберется на самого себя и оттуда возвестит мир о боге, новом явленном чуде из-под ресниц Христа".
Курт лег на диван и начал просто курить, как Ван Гог перед смертью, одну за одной, ведь табак – такое приятное дело.
"Но я не рисую, нет, стихи создаю и музыку, которых на свете нет, поскольку нет самого света, а есть мрак, смешанный с ним, жилы и сухожилия, мышцы, кости и кожа, вот такое вот дело, пересечение, женщины с толстыми грудями и худющими ножками, меж которых клокочет Марианская впадина, засасывая в себя весь мир, выплевывая иногда детей, чтоб их не убивать, не душить пуповинами, коих в каждой женщине – миллион".
Открыл форточку, чтобы дым сочился из комнаты, исходил, был течкой из суки, только не вниз, а вверх.
"Печатные издания скоро вытеснят электронные, книги превратятся в сосны, станут пронизывать десятиэтажные дома, Достоевский будет начинаться в подвале, а кончаться на чердаке и крыше, уходить в небеса".
В дверь раздался звонок, Курт пошел к выходу, спросил "кто?", но ответа не последовало, потому он кинул бычок в урну, дождался возгорания бумаг в ней, потушил их водой и начал собираться на улицу, обнаженную, как Monica Santhiago в две тысячи третьем году.
"Погуляю немного, отвлекусь, развлекусь, стану большевистским событием, конурой красных, в которой прячется и живет белая собака, питающаяся мыслями разных людей".
Спустился пешком, топоча черными ботинками, обитыми обложками книг Толстого, Войною и миром, если быть точнее, которая есть биография бога.
"Граф Дракула вышит на стекле каждой машины, на лбу каждого человека, он проходит сквозь кожу и стекло, он не останавливается, спешит и торопится, плачет по убиенным фашистам и коммунистам, чьи тела на крестах восходят с утра вместо солнца, освещают и греют мир, а после, в конце, заходят, оставляя людей хрустеть их костями, пока не затихнет ночь".
Пересек дорогу и пошел по площадке, на которой пацаны играли в футбол, тёрлись, смеялись, были, пуская в перерывах дымок, дошедший до наших дней из Месопотамии и Вавилонии, где шкуры животных летали по небу, а люди стреляли в них и подбирали их трупы, чтобы надеть и скрыть наготу, являющуюся автомобилями Вольво, Маз и Камаз.
"Нет, не думать, не петь, только восходить и раскрываться в небе большим гнойником, сочащимся желтым мокрым песком, водой, лейкоцитами, кровью, крупицами анаши, ночующей в легких Цоя и бодрствующей во рту Шевчука".
Дойдя до магазина, купил аджапсандали и пластиковую вилку, начал на лавочке есть. Рядом присела старуха.
– Мяса, хочу еще.
– Да я овощи ем, – удивился Курт.
– А ты сходи на базар, там шашлык.
– И почем?
– Шпажка – сто пятьдесят.
– Сколько там мяса?
– Много. Сытного и любовного.
– Из любовных романов?
– Нет, из души людей.
– Говядина и свинина – души?
– Массы психической жизни.
– Интересно.
– Конечно. Дай пятьдесят рублей.
Курт пошарил в карманах, нашел мелочь и протянул ее женщине.
– Мало, – сказала та.
– Больше дать не могу.
– Я хочу купить кофе.
– Хватит и тридцати рублей.
– Ладно, уговорил.
Она ушла, а Курт всерьез задумался о шашлыке, потому встал с места и двинулся вправо. Шел, приближаясь к мясу, к духу и к полноте. Через несколько десятков метров его ноздри откопали в окружающем воздухе запах и вкус шашлыка. Он будто ел его, а не двигался и молчал. Перейдя дорогу, он заметил кафешку с мангалом и армянином-грузином.
– Здравствуй, армяно-грузин, – сказал он.
– Мяса?
– Сто пятьдесят.
– Ладно, садись за стол.
Так Курт, купив пива и мяса, коротал свой век, кончившийся в МГУ, на развалинах кафедр и обломках аспирантур. Шашлык был горячим, но с хлебом, луком и кетчупом.
– Вкусно и хорошо.
Пиво было желаемым, горьким и основным.
– Это армянское пиво?
– Да.
– Я и смотрю – Котайк.
– Жесткое и конкретное.
– Будьте добры еще.
Курт взял бутылку, выкинул за собой мусор или взгромоздил его в небеса и пошел на автобус.
7. Руки, ноги и мозг
Автобус вез его к Кортни, он ей не позвонил, решив сделать сюрприз. За окном качались деревья, поднимая с земли тяжелые черные гири, то есть ворон.
"Езда, ничего нет прекрасней, желтей и светлей, всякая поездка желтого цвета, что тут и говорить, мчусь, сидя на месте, куря внутреннюю сигарету, которую держит в руках желудок и накачивается дымом, ментолом, рвется объять весь мир, чтобы переварить его, сделать моим, до конца и до дна".
Дорога до дома подруги заняла сорок минут, плюс-минус беспечность. Он прошел в подъезд вместе с женщиной, поднялся на лифте и столкнулся с парнем, который выходил из квартиры Кортни. Они обменялись взглядами, похожими на Гоби и Сахару, и разошлись. Курт вошел в дверь, парень спустился вниз.
"Странно, кто это, что происходит, какие внеземные разумы послали этого отрока сюда, хорошо, что он не застегивал ширинку, молнию, бьющую наповал".
Кортни лежала голой на кровати, она смотрела в потолок и потягивалась.
– Курт, это ты? А я только что трахалась.
– И ты мне так спокойно об этом говоришь?
– А как иначе? Не знаю.
– Значит, у тебя есть другой?
– Нет, я все так же буду есть картошку каждый день. Извини меня за лук или за чеснок.
– Что ты хочешь сказать?
– Секс – это еда. У нас что, блокада, война?
– Нет.
– Тогда все пучком.
– А не боишься, что я побегу за этим луком или чесноком и съем его? Выдавлю в тарелку с макаронами?
– У тебя изо рта будет вонять.
– Блин, не подумал, черт.
– Так вот, мой милый друг. Помоги мне одеться.
– Что тебе дать?
– Халат.
Стали пить чай, он – хмуриться, она – улыбаться. Закусывали лимоном.
– Приятный, однако, сок. Во рту вызывает бурю.
– И топит корабли Колумба, плывущие в гортань, – отметила Кортни.
– Ладно, я пойду, не хочу вторгаться в твою память о сексе.
– Ну, как хочешь, давай, пока.
Курт отодвинул от себя стакан и вышел на улицу, зашагал по ней, столкнувшись через десять минут девушкой, смотрящейся в телефон.
– Оу, простите, парень.
– Как вас зовут?
– Зачем вам?
– Вы понравились мне.
– Перейдем же на ты. Я ни с кем не знакомлюсь.
– Как тебя звать?