Текст книги "Рана"
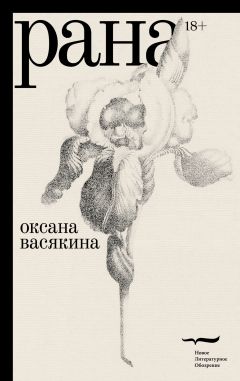
Автор книги: Оксана Васякина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Мы вместе ждали ее смерти. Я хотела снять отдельное жилье, чтобы мне было не так тяжело. Мама несколько лет назад продала квартиру в Усть-Илимске и купила микроскопическую квартиру в малосемейном общежитии на окраине города Волжский. Там она жила с Андреем. У них было два телевизора, в кухне и комнате. Оба телевизора орали и перебивали друг друга. По одному мама смотрела сериалы про ментов, по второму Андрей круглыми сутками смотрел телеканал «Россия-24». Я не стала снимать отдельное жилье, потому что боялась признаться ей и себе, что мне очень больно смотреть на нее. Поэтому мы жили втроем в двадцатиметровой квартире. Андрей спал в кухне, упершись ногами в стиральную машину, а головой – в дверь шкафа. Его храп иногда перебивал кричащий телевизор, который работал даже ночью. Мы с мамой спали на одном диване валетом, потому что я боялась ее дыхания.
Во мне проснулось что-то средневековое, и я всем телом ждала проникновения болезненных миазмов в собственный организм. Но я не могла лечь на полу, это было бы знаком того, что я брезгую или боюсь умирающей матери.
Я по-настоящему боялась, но пять ночей спала рядом с ней на полутораспальном диване. Мама не спала, лежа в полубреду, который она тщательно скрывала за тяжелым выражением лица. На самом деле она уже практически не могла говорить. По ночам ее донимал кашель, переходивший в рвоту. После того как ее рвало, я подхватывала таз, стоявший рядом с диваном, и несла его в ванную, чтобы тщательно вымыть. Мама в него и писала, и блевала, и сплевывала, иногда выливала в него недопитую воду. Я каждый раз меняла таз, чтобы в квартире не пахло. С детства я была уверена в том, что там, где есть горе и мучения, стоит тяжелый запах. Когда я вошла в мамину квартиру, я почувствовала, что в ней нет никакого специфического запаха. Обычная квартира, не очень опрятная, потому что последний месяц в ней хозяйничал Андрей, он плохо умел протирать пыль и мыть полы. Само мамино присутствие делало эту квартиру обычной маленькой квартирой. Через несколько месяцев после ее смерти я приехала за документами, и квартира пахла мужчиной. В ней как будто бы изменился свет, как будто бы все сменило химический состав, и квартира с той же мебелью и посудой превратилась в страшную нору вдовца.
Я приехала и привезла цветы. Это были пышные белые хризантемы, мама любила хризантемы. И в квартире пахло цветами, но не умиранием и горем. Только сейчас я думаю о том, что запах цветов таит в себе не только аромат благоухания, но и знак умирания.
…
Мы спали валетом, а она умирала.
Я знала, что она умирает, и Андрей знал, что она умирает, и мама знала, что она умирает.
Все понимали, что она умирает.
Единственный запах, который я помню очень ярко, – это запах маминой мочи в день моего отъезда. Мама уже не могла вставать, она писала, свесившись с дивана, а потом звала меня, я забирала таз и промывала его с чистящим средством. Ее моча пахла так, как будто это была моча, простоявшая несколько суток на солнце. Но она только что пописала, и это значило, что все внутри нее уже не работает, уже очень старое и ядовитое, оно убивает ее изнутри. Эта моча была как яд. Меня сильно замутило, и я постаралась как можно скорее выплеснуть мочу в унитаз и залить красный исцарапанный таз «Доместосом».
…
Мы спали валетом, а она умирала.
Я мысленно возвращаюсь в те ночи, я пытаюсь написать о том, как это – спать на одном диване с умирающей матерью, но сбиваюсь на квартиру, на ее запах, на телевизор. Похоже, это петляние связано с тем, что невозможно в этом темном тесном пространстве высветить письмо. Можно сказать, что это было тяжелое чувство немоты. Да, именно немоты. Я ложилась у стены и напрягала все тело так, чтобы лишний раз не задеть ее тела. Я ложилась и впадала в оцепенение. Какие мутные ночи в феврале. Я никогда не любила февраль за его мутное, затянутое светлой пеленой небо.
Я ложилась и пыталась думать. Я говорила себе: думай о том, что она умирает. Осознавай это, проживай это сейчас. Но у меня не получалось, я чувствовала тупое бестолковое время, которое длилось и ползло. Я знала об этом времени. Я думала, что чувствую его, но на самом деле просто догадывалась о нем.
…
Мы спали валетом, а она умирала.
Мне не было легко, но и тяжело мне не было. Мне было никак. Я ничего не чувствовала, как десна под анестезией, я мысленно трогала себя и сама себе откликалась, как сквозь толстое выкрашенное молочной краской стекло.
…
Мы спали валетом, а она умирала.
Я все думала и думала о себе, заставляла себя осознать происходящее. Я хотела почувствовать то, что чувствовала она. Но мама не говорила со мной ни о чем, кроме бытовых вещей, – она просила, чтобы я помогла ей встать, говорила о еде, просила принести чай.
И все смотрела эти сериалы. Она лежала на правом боку, практически не моргая, и смотрела один за другим сериалы про ментов. Ее глаза застыли, в них играли блики телевизора, желтое лицо освещалось то розовым, то голубым светом.
Я спрашивала, следит ли она за сюжетом, потому что видела, что ее глаза не двигаются и выражение лица не меняется. Она ответила, что что-то понимает.
…
Время перед смертью – исключительное время. Мне было стыдно за себя и за нее, мы тратили это время на сериалы про ментов. Но возможно ли было другое время, кроме этого? Нет, думаю, это было лучшее время из возможных.
В один из вечеров я сидела на полу у дивана. Мы смотрели какой-то сериал. В комнате был холодный серо-голубой свет от телевизора. Я следила за сюжетом – полицейские искали виновного в смерти сына бизнесмена – и одновременно читала ленту своего фейсбука. Мы тихо переговаривались о чем-то с мамой. Иногда мне казалось, что она задремала, тогда я тянулась к пульту, чтобы выключить телевизор. Но как только телевизор гас, она открывала глаза и говорила, что не спит.
Она лежала тихо, а потом вдруг вздрогнула, и ей стало резко не хватать воздуха. Я обернулась и спросила, в чем дело. Мама выдохнула и призналась, что ей показалось, что над ней летит большая салатового цвета саранча. Летит и трещит. Мама показала рукой, из какого угла выпрыгнуло насекомое и в каком углу оно исчезло. Но тут же сказала, что нет, конечно, никакой саранчи. Это полудрема или галлюцинация.
Похоже, это были первые галлюцинации или уже не первые, – но эту саранчу она никак не могла скрыть, настолько резким было движение огромного насекомого. Уже несколько дней она не вставала и ей кололи трамадол, он-то и вызывал галлюцинации. Сейчас я думаю о том, что она стеснялась своих галлюцинаций и осознавала то, что видела, как нереальное, как то, что дает ей затуманенное препаратом и болезнью сознание.
Я думаю, что, умирая в маленькой квартире от рака серой зимой, видеть яркую стрекочущую саранчу – это не так уж и плохо. Есть что-то радостное в полете насекомого. Может быть, в своем галлюцинаторном сне она лежала в высокой теплой траве.
Тетка сказала, чтобы я нашла все документы на квартиру и сразу подала на наследство. За неделю до смерти мама попросила меня достать все фотоальбомы и перебрать фотографии. Она попросила выбросить те, на которых есть люди, чьих лиц я не знаю. Еще она попросила собрать все ее неудачные фотографии и сжечь. Зачем, спросила я ее, затем, сказала она, чтобы они не оказались на помойке и никто не смог над ними надругаться.
Я достала три пухлых советских фотоальбома в бордовых синтетических обложках и перебрала фотографии. Выбросить мне было нечего. Я знала все лица и ситуации, запечатленные на них. Еще я нашла одну фотографию из девяностых: на ней очень стройная мама лет тридцати в джинсовом сарафане поверх полосатой трикотажной футболки. Она стоит в белых кожаных босоножках на длинной коряге, лежащей на берегу усть-илимского водохранилища. Мама на этой фотографии легкая девушка. Не та, которой я знала ее. Я забрала эту фотографию себе как знак того, что у мамы когда-то была легкая радостная жизнь.
После ее смерти я искала в стопке с бумагами документы на квартиру и нашла порножурналы. Меня удивил их потрепанный вид. Неужели мама смотрела порножурналы? Если бы я их нашла еще при ее жизни, как бы она отреагировала на это? Смутилась бы или строго посмотрела на меня? И почему она, зная о том, что умирает, не выбросила их? У нее было достаточно времени, чтобы скрыть все следы своей личной жизни от меня. Но она этого не сделала. Для того ли, чтобы я их нашла? Хотела ли она подразнить меня после собственной смерти? Или она хотела показать мне то, что она – обыкновенная женщина? Хотя, скорее всего, она просто забыла о них, и не было ничего, что она хотела мне сообщить.
Я знаю, что она не собиралась ничего мне сообщать. Маленький нелинованный блокнотик, который я купила и положила ей под подушку, чтобы она оставила мне свое неформальное завещание, остался пуст.
Когда я уезжала за несколько дней до ее смерти, она буднично сказала мне, чтобы я ее обняла. И я прошла в комнату в уличной обуви, она приподнялась и обняла меня. Я поцеловала ее в ухо. Она сказала мне «все, езжай» – так, как говорила мне много раз в жизни, когда я уезжала. И я уехала. Через несколько дней ее сердце остановилось в волгоградском хосписе. Последними словами, сказанными ею мне по телефону, была фраза: «Мне очень плохо».
Мама ничего не хотела мне сообщить, а я была тотальным сообщением ей о самой себе. Когда в подростковом возрасте я начала писать стихи и вести дневник, я подбрасывала его в разные места квартиры, чтобы она прочла их. Я хотела быть отраженной в глазах матери, которые никогда меня не замечали.
Она читала мой дневник и читала мои стихи, но ничего не говорила. Уже спустя много лет она как-то походя сказала, что читала мои первые стихи и ничего в них не поняла. Стихи были в рифму, в них я писала о времени и несчастной любви. Разбирая ее бумаги, в одной стопке с порножурналами я обнаружила подборку своих стихотворений времен поступления в Литературный институт. Стихотворения были дурацкие, в них я подражала одновременно Федору Сваровскому и Елене Фанайловой. Я совершенно не помню, как эти тексты попали в материны руки. Листы были посеревшими, на некоторых из них уголки были смяты. Мама перекладывала их с места на место. Может быть, она много раз перечитывала их. Может быть, она перечитывала их, чтобы понять и вообразить себе меня. Но я об этом ничего не знаю.
Мама любила отдыхать на воде. После работы она брала пиво или коктейль и шла на водохранилище или на реку. Летом в выходные дни она брала бутылку воды, бутерброды, жесткое белесое покрывало и шла загорать. Она лежала под палящим сибирским солнцем часами, следила за его движением и медленно поворачивала свое тело так, чтобы быть ногами к нему. Мама была озабочена тем, чтобы ноги загорели лучше всего. С ног быстрее всего слетал загар и очень сложно на них ложился.
Обычно она шла загорать с подругами, иногда брала с собой меня, но от меня были только одни неудобства: я то загораживала ей солнце, то укладывалась рядом с ее раскаленным телом и раздражала своими ледяными мокрыми ногами. Маленькую меня всегда нужно было контролировать – время пребывания в воде, панамку на голове, чтобы та всегда была на месте. Я вечно была голодной и постоянно клянчила еду. Я съедала дневной запас бутербродов за первые полчаса, а потом канючила, что хочу мороженое или сладкую вату. От меня всегда было одно беспокойство. Я хотела внимания, а мама хотела покоя, тишины или размеренной беседы с подругами о сплетнях или рецептах огуречных масок на глаза.
Чтобы отвлечь меня от себя, она звала с собой подруг с детьми. Женщины молча лежали с футболками на лицах; возможно, они дремали. Я резвилась в воде и на каменистом пляже, заваленном корягами и топляками, со своими однодневными подругами. Так просто дружить в детстве, достаточно просто быть ребенком. В один из таких дней мама пригласила на пляж свою дальнюю подругу, лица и имени которой я совсем не помню. Я не помню, какого цвета у нее был купальник, но могу предположить, что на рынке Усть-Илимска выбор невелик, и значит, это был раздельный купальник с поролоновыми чашечками, лямки которого женщина прятала, чтобы на плечах не оставалось уродливых полос градиента от белой к золотистой коже. Купальник мог быть черно-синим или фиолетово-красным. Но не так важна была сама женщина, как была важна ее дочь. Лица девочки я не помню, грудь ее еще не начала расти, поэтому она бегала в выцветших розовых плавках. Одного маминого пледа для всех четверых нам не хватало, поэтому женщины лежали на мамином сером, а нам они отдали клетчатое вытертое бело-голубое детское одеяльце.
Мы плескались в воде, собирали камешки, а когда игры затягивались, мама строго просила нас выходить на солнце и греться. Мы сидели бок о бок с синими от холода губами, и жаркое сибирское солнце пекло наши спины. Мы болтали о чем-то. Девочка была старше меня на год.
Девочка была другая. Она была вся другая и отдельная, как если бы мы были существами разного порядка. Моя кожа была мраморно-белая, и на ней то тут, то там проступали малиновые пятна солнечных ожогов. Кожа девочки была толстой, упругой и золотистой. Ее кости были длинные и аккуратные, а движения плавные, я была угловатой, скованной и очень стыдилась своего неловкого в материном строгом взгляде тела.
Женщины вытащили нас из воды и настояли на том, чтобы мы легли и хотя бы десять минут полежали спокойно, нужно было обсохнуть и прогреться. Я первой бросилась на одеяльце. Одеяльце все было в мелких камушках и песчинках, небольшие щепочки от топляков вонзились в мою раздраженную солнцем спину. Мама настояла на том, чтобы я лежала на спине, мой живот по-прежнему был бесконечно бел – в то время как спина пылала. Я лежала на одеяльце, а девочка сидела передо мной на коленях. Ее мама тоже прикрикнула, чтобы она угомонилась и легла. Тогда девочка опустила руки и согнула их в локтях, пристраивая торс на теплом одеяле. В воздухе остался ее оттопыренный узкий таз. Пристроившись грудью на одеяло, она опустила и его.
Однажды по телевизору я смотрела передачу о детенышах косуль или оленей, они были маленькими, неуклюжими, и их скелет как будто был сделан из тончайших спиц. Эти животные укладывались на траву. Сначала они опускали переднюю часть тела, затем заднюю. Я подумала тогда, что эта девочка – как олененок. И сказала ей, что она в своем движении похожа на олененка. Я любовалась ею, как своей любовью. Мне ужасно нравилось ее тело. Все оно было как нежный леденец, который мне хотелось положить в рот.
Блеск ее кожи на солнце и ямочки на пояснице до сих пор стоят у меня перед глазами. Осознала ли я тогда, что то, что я испытываю к этой девочке, – эротическое возбуждение? Знала ли я, что оно существует? Я не помню, но помню, что это чувство меня нисколько не напугало, оно меня возвысило, сделало чем-то очень большим. Я хотела умереть за нее.
Что такое написать стихотворение? Для меня поэзией всегда было то, как я мыслю мир и себя в нем. Это были темные тяжелые стихи, они были похожи на пропитанный водой, грязью, кровью кусок рыхлой ткани. Так я видела и чувствовала мир, я хотела его показать другим, хотела, чтобы все, нет, не все, а все знали о том, что я хочу рассказать. Все на деле оказывались парой холодных маминых глаз. Я хотела показать себя матери. Я ждала ее одобрения, нет, не одобрения, но сожаления и сочувствия, а еще – раскаяния. После ее смерти стихи для меня стали абсолютно бессмысленным занятием. Некому было больше их показать или желать показать. Мама не читала моих стихов, я одновременно желала того, чтобы она их прочла, и стыдилась того, что она их увидит, поймет, что они обращены только к ней. После ее смерти мои стихи захлопнулись, как дверь на сквозняке, и у меня совсем не стало стихов. Могу ли я после этого называть себя поэтессой? И что такое поэзия вообще? Может ли поэзия существовать без надежды на направленный на нее взгляд?
Я мыслю этот потенциальный взгляд как пространство возможности письма и разворачивания интерпретации мира. Взгляд, материн взгляд – это место. Местом матери была маленькая квартира на окраине города Волжский. Моим местом был ее взгляд, длящийся за пределы видимого мной мира. Этот взгляд был гарантией моего присутствия здесь и вместе с тем всеми возможными способами стремился меня не заметить, превратить в место пустоты, в камень, в речной бежевый камушек, влажный, но на солнце теряющий свой резной узор.
Когда я стояла над гробом, я смотрела на ее спокойное лицо, на ее губах была загадочная улыбка. Андрей называл ее улыбкой Джоконды, я не понимала почему, ведь мама улыбалась не уголками губ, но полным ртом, оголяя зубы. Похоже, Андрею была известна другая улыбка, которую я не могла увидеть, но теперь я видела ее. Я хотела успокоить его и сказать, что эта улыбка – заслуга не ее упокоившейся мускулатуры, но ловкая работа похоронных визажисток, которые вводят специальные препараты в мертвую мышечную ткань. Я не стала этого делать. Андрею нужна была эта естественная улыбка. И у него она была.
У меня были только закрытые глаза. Когда начальник похоронной бригады демонстрировал мне развязанные руки и ноги, я смотрела на ее лицо. Рассматривала полумесяц века, покрытый коротенькими густыми ресницами, подкрашенными визажистками. Я ждала, что они откроются, а взгляд продлится хотя бы еще на немного. Я даже подумала о том, что смогу открыть ее глаза самостоятельно. Это очень просто – надавить пальцем на веко и потянуть за него вверх. Но я знала, что там взгляд мертв.
Я ощущала мать как пространство. Как матрицу. Место. После ее смерти место исчезло. Мир не исчез, но исчезла сложная символическая сетка, которая давала возможность ориентироваться на местности. Матрица – это постоянная интерпретация получаемого опыта. После ее смерти я должна была приноровиться к обессмысленному пространству и стать матрицей самой себе. Но я подвисла в пустом мире без имен и значений.
Мир без имен и значений прозрачен и прост. В нем нет места метафоре, и поэзия стала здесь неуместна.
Мир без имен и значений очень простой. Я смотрю на пухлую вазу тонкого стекла, в ней стоят вялые распахнутые пионы ядовито-розового цвета. Их нутро не сложное, оно твердое и простое.
Умела ли моя мама любить? Нет, тут дело не в навыке и даже не в привычке, но в возможности. Сложно выработать навык, если у тебя нет предрасположенности к чему-либо: к любви, труду или рыбалке, какая разница. Просто не хочется этого делать, нет интереса, а ведь любовь – это повседневная практика, которая требует желания и предрасположенности.
Но дело не в этом. Дело во мне. Она не любила именно меня. А я ее обожала, обожала до судорог. Но со временем обожание переплавилось в тихую, глубокую корневую обиду и боль. Еще и потому, что она хотела и умела любить мужчин, а меня не хотела и не умела.
Мы говорили с ней за несколько дней до ее смерти. Она смотрела сквозь меня, но ее взгляд как будто бы не был рассредоточен, он схватывал общий план, словно я – часть домашнего обустройства, табурет или тумба от телевизора. Я сказала ей, что сделаю все так, как она скажет, чтобы она не волновалась. И она сказала. Сказала, как и в чем ее похоронить. И еще она сказала, что Андрей должен десять лет после ее смерти жить в моей квартире. Я могла скрыть от всех эти ее слова, они не были записаны, но я передала их Андрею и всем остальным. Я исполнила ее устное завещание. Такая дурацкая и одновременно серьезная вещь – двадцатиметровая квартира на окраине провинциального городка предназначалась не мне, но ему в пользование на ближайшие десять лет.
Ей было очевидно, что я, как сорная трава, выживу где угодно. Но ее беспомощный мужчина без ее посмертной заботы не обошелся бы. В этом была вся моя мать. Она выбирала мужчин, но не меня. А я завороженно наблюдала за ее выбором и горько, огненно, зло ревновала. Она была моя, но принадлежала не мне, не принадлежала мне и ее тихая загадочная улыбка. Мне оставался только холодный взгляд, скользящий по пространству, смотрящий сквозь меня.
Вечное нарциссическое кружение моего внимания вокруг меня самой есть не что иное, как попытка найти и утвердить себя здесь, в холодной пустой матрице. Из пустого места указать на пустое место, чтобы там все сгустилось хотя бы чуть-чуть. Чтобы я смогла увидеть себя саму и двинуть пальцем. Двинуть пальцем и признать, что это сделала я сама.
Сегодня я ехала в трамвае и видела женщину, отдаленно похожую на маму за пару лет до смерти. Я резко обернулась и пыталась рассмотреть ее из окна. Женщина стояла вполоборота, у нее была такая же прическа, что и у мамы до болезни. Но она была на голову ниже матери. В ней меня зацепила царственная материна осанка и гордо поднятый подбородок. Она могла стоять, поднявши голову и смотря на все немного сверху: на остановке в Усть-Илимске, в магазинной очереди, в ожидании подруги на пересечении улицы Мечтателей и проспекта Мира. Она была королевой, царицей. Ей было не важно, кто она и где живет, кем работает и насколько тяжела ее доля. Она была гордой женщиной, очень сильной и настолько же несчастной. Как и эта женщина у трамвайных путей. Вдруг все внутри меня стиснулось. А потом резко расслабилось. Я почувствовала тепло скорби и нереализованной любви.
Коробка с маминым прахом лежала в грубой джинсовой сумке. Туда же я уложила свои вещи, которые брала в поездку на три дня – их было достаточно, чтобы сделать все похоронные дела.
Я спустилась к остановке и села на маршрутку до Волгограда. Мама отправлялась в большое обратное путешествие. Конечной точкой этого путешествия была наша Сибирь, город Усть-Илимск. Я сидела на заднем сиденье, сумку с вещами и прахом устроила рядом с собой. Я пыталась понять, что сейчас происходит. Я видела Родину-мать, она медленно выныривала из-за сопки и плыла над ней своей каменной грудью. Видела скудный, растянувшийся на несколько десятков километров город, он был серый, больной. Я поглаживала сумку так, как если бы она была переноской с тихим животным. Я хотела передать материному праху тепло, сообщение, любовь, значимость момента. Но это было бестолковое занятие.
Я знала, что S7 перевозит прах с помощью специальной грузовой компании, и приехала в аэропорт раньше, чтобы успеть сдать груз.
Сложно представить, как можно сдать груз, который твоя мать, но я была готова разлучиться с урной на пару часов, чтобы встретить ее и отвезти в московскую квартиру. У меня впереди были два тяжелых месяца работы в государственной галерее. Дальше – несколько перелетов и четырнадцатичасовая поездка на автобусе по тайге. Я ежечасно прокручивала этот путь у себя в голове. Представляла себе не будничную дорогу, но дорогу торжественную. Дорогу вглубь тайги. Мне казалось, что всюду надо мной будут торжественно звучать литавры. Я представляла себя Хароном, представляла себя Прозерпиной, представляла себя вопленицей. Я ехала в ад.
Но это была простая дорога.
Я приехала в аэропорт и обратилась к сотруднику авиакомпании, который сказал, что грузовой блок уже сформировали и я не успеваю подать груз. Мне стало тревожно. Неужели я не смогу полететь? А как же моя работа? Я была готова лететь под гул торжественной музыки, но теперь я не смогу полететь. И я вот так пошло буду сидеть в зале ожидания, пока не смогу сесть на следующий московский рейс? Я обратилась к сотруднику S7 еще раз, объяснила ситуацию. Тот с безразличием рассматривал меня и дергал галстук салатового цвета. Он молча снял трубку стационарного телефона, поговорил с кем-то о чем-то, чего мне не было слышно из-за пластиковой перегородки. Очевидно, он говорил что-то в духе «девушка везет прах в урне, в карго не успела, пускаем ее в салон с грузом?». Он положил трубку и сказал, что я могу идти на посадку.
Внутри себя я ликовала. Мне не пришлось сдавать маму в грузовой отсек, она полетит вместе со мной. Женщина на досмотре затревожилась и подняла на меня глаза. Я сказала, что в сумке у меня урна с прахом, у меня есть все документы, и полезла в свой кожаный рюкзак за папкой с бумагами. Она вышла из-за своего компьютера и сказала мне, что я не имею права везти прах в салоне. На что я ответила, что и сама знаю, но сотрудник авиакомпании дал мне зеленый свет. Она вернулась на свое рабочее место за металлоискателем. Очередь нервно ждала у рамки. Женщина попросила вскрыть сумку и бережно, извиняясь за каждое свое движение, стала ощупывать коробку с мамой металлоискателем. Затем она рассмотрела документы, сначала мои, потом мамины. Кивнула мне и пожелала хорошей дороги.
В салоне я пыталась запихнуть сумку в верхний отсек для ручной клади.
Все было так, как если бы я везла не прах собственной матери, а большой неказистый полый предмет, в котором не было ни силы, ни смысла, ни пользы.
В маленьком внутреннем кармашке сумки с прахом я везла горсточку маминого золота. Мама любила золото. Она берегла его, собирала в маленький шелковый кисет, в нем лежали ее цепочки, кольца, перстни с рубинами, доставшиеся ей от моей бабки и ее тетки по отцовской линии. В пакетике лежал бесформенный почерневший двухграммовый слиток, некогда бывший ее коронкой, и другие кусочки золотого лома, который она собиралась переплавить в кольца и серьги. В нулевые мама часто закладывала свое золото, чтобы дотянуть до зарплаты, а на все праздники ждала подарков в виде денег. На эти деньги она покупала давно присмотренные в ювелирном магазине украшения. С золотом у нее были отношения особенные. Когда она видела много золота, у нее начинали трястись руки. Она носила несколько цепочек и перстней одновременно. Она шутила, что похожа на новогоднюю елку в этих украшениях, вся сияет и блестит, только елка сияет раз в году, а она, как настоящая женщина, должна быть красивой ежедневно.
Когда ее увозили в хоспис, Андрей снял с нее золотые украшения, которые она не снимала никогда, – тонкую цепочку с маленьким крестиком, знак ее тридцатипятилетнего крещения, и крохотное золотое колечко из уха. Второе колечко из левого уха не поддавалось его крупным неумелым рукам. В морге и хосписе нам его не вернули. Такая дань Харону.
Я не знала, зачем мне может пригодиться мамино золото. Но это было мое наследство. Она заботилась о нем даже при смерти. Узнав, что к ней будет ходить соседка снизу, она попросила спрятать золото подальше. Андрей спрятал кисет в коробку с запасными столовыми приборами.
На следующий после ее смерти день он вручил мне пакетик с золотом со словами, что теперь оно принадлежит мне.
Позже я разобрала эти украшения. Я примерила серьги, цепочки. Все они казались тяжелыми и холодными. Я перебрала ее золото и оставила себе только то, что отчетливо напоминает мне о ней. Пару сережек, цепочку и «фамильные» перстни. Остальное отдала ювелиру, чтобы он сделал обручальные кольца для меня и моей жены. Эта символическая петля казалась мне самой правильной и справедливой.
Я не могла ни читать, ни слушать музыку. Мужчина, сидевший рядом, постоянно засыпал, и его расслабленная шея опрокидывала голову мне на плечо. Голова была тяжела и пахла сладковатым одеколоном. Несколько раз я пыталась разбудить его. Он смущенно оглядывался, пытался держать себя в руках, но потом снова засыпал и наваливался на меня всем телом.
Я летела в Москву. Надо мной в шкафчике для ручной клади лежала урна с маминым прахом. Перед глазами на спинке впередистоящего сиденья была приклеена эвакуационная схема и инструкция на случай авиакатастрофы. Я летела и рассматривала эту инструкцию. А что, если мы упадем? Что, если что-то не так с самолетом? Как я поступлю? Полезу ли я в суматохе за сумкой с маминым прахом, чтобы спасти ее? Или буду спасаться сама? Я почувствовала жжение вины внутри себя. Я лечу в торжественное время и думаю о такой чепухе.
Вдруг меня накрыло тревогой. А что, если мою сумку с маминым прахом украли? Что, если там, надо мной, ее нет? Что я скажу родным? Вдруг кто-то забрал мою маму себе в то время, когда я ходила в туалет и за водой к бортпроводнице? Чувство, что мама ускользает, жило во мне даже тогда, когда мама превратилась в небольшой объект. Мне казалось, что сумка с урной растворилась. Она исчезла. Какая-то магия, что-то еще такое, что теперь окончательно забрало у меня мать.
Я не выдерживала этой тревоги. Неужели, думала, я уже полчаса сижу под пустым отсеком для ручной клади и просто так смотрю в пустоту перед собой, в то время как прах моей матери удаляется от меня? Но куда? Как его спрятать в самолете? Куда можно деть металлическую урну размером с яйцо доисторического ящера, упакованную в картон, несколько слоев прозрачного скотча и плотную черную ткань? Я была уверена в том, что она растворилась в воздухе.
Я покрылась потом. Я была готова перевернуть салон самолета. Я была намерена искать урну. Я была уверена в том, что она исчезла.
Сердце забилось. Я потрясла за плечо спящего на мне мужчину. Он снова очнулся – лицо у него было заспанное – и уже в пятый раз извинился за то, что уснул на моем плече. Я извинилась, что тревожу его, и попросила выпустить меня.
Сначала я пошла в туалет. Я хотела как можно дольше оттянуть это момент. Я боялась, что открою отсек, а там пустота, которую я не хотела видеть.
В туалет была очередь.
Когда я вошла в кабинку, то сразу же ополоснула руки и лицо. Решила, что уж если я пришла сюда, то нужно и пописать: разместилась над унитазом, выдавила из себя тонкую струйку мочи и осталась висеть над ним, размышляя о том, что я буду делать, если урны не окажется на месте. Я не знаю, сколько времени я провела в этом неудобном положении со спущенными штанами, но за дверью послышались голоса, кто-то постучал в дверь. Стук заставил меня очнуться от моих мыслей, я воспользовалась салфеткой, спешно натянула джинсы и посмотрела на себя в зеркало. Свет делал меня старше, тяжелее. Я была осунувшаяся и одутловатая, словно утопленница или тяжелобольная. Уже выходя, я почувствовала, что ноги болят от напряженного стояния в полуприседе, а на ляжках горят места, в которые я упиралась собственными локтями.
Я вышла из туалета и извинилась перед женщиной, которая держала за руку маленького мальчика со скрещенными ногами. Я плыла по проходу к своему месту. Я плыла к месту, в котором не было маминого праха. Мужчина уже не спал, он рассматривал бортовой журнал на странице с рекламой нового BMW.
Я должна была решиться и, решившись, рывком открыла дверцу отсека.
Моя сумка стояла там, где я ее и оставила. Это была обычная, ничем не примечательная сумка болотного цвета. Правый ее угол оттопыривался из-за упершегося в него угла коробки от маминой урны. Чтобы убедиться в том, что это не обман, я прощупала всю сумку. Вещи были на месте, все было на месте. Под руку попалась сложенная в карман и упакованная в полиэтиленовый пакет горсть маминого золота.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































