Текст книги "Записки любителя городской природы"
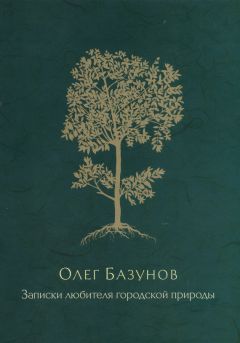
Автор книги: Олег Базунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Несколько выше я хотел первоначально написать, что ах, мол, так и так, я чуть, мол, не забыл всерьез обратиться к кошке, к кошачьей сути, сказать здесь о ней несколько добрых и теплых слов… И это было бы ложью. Почти – я подчеркиваю, – почти с самого начала, хотя очень смутно, как в малых, так и в больших деталях, я представлял себе, как я буду писать этот рассказ или повествование, третья часть моего триптиха сама собою предназначалась для нашей кошки. Иное дело вопрос, почему, мол, пес и кошка – самые близкие человеку друзья – пришлись на боковые створки этого моего триптиха, тогда как центр его во всем своем огненно-петушином великолепии занял мой Петел. Вопрос этот сложен, он может завести нас опять же в такие тонкости или в такие дебри теперь уже творческого процесса, в которых мы – я, во всяком случае, – можем заблудиться и совсем потеряться.
В начале этого лета, как уже говорилось, я наконец-то сделал те самые выводы, стал более или менее последовательно проводить их в жизнь, за что все эти коровы, бараны, куры и петухи стали относиться ко мне несколько иначе, чем относились до этого, стали относиться безбоязненнее и доверчивее. На подлинности этого факта я никак не настаиваю. Вполне возможно – это моя чистейшая и на этот раз уже прямая фантазия, так сказать, положительная мнительность и самовнушение, но, с другой стороны, если задуматься, то почему и действительно не могло произойти подобного? Почему нельзя предположить, что животные и птицы какими-то неузнанными пока что путями чувствуют, узнают, что мною наконец-то сделаны некоторые важные выводы и что я более или менее последовательно провожу их в жизнь? Почему я не могу всерьез предположить это, учитывая уже вполне реальные изменения, происшедшие в характере и течении моей домашней жизни приблизительно за последние полгода, то есть вскоре после того, как… Ну и т. д.
Дело в том, что с некоторых пор темпы роста количества живых существ в нашей квартире приняли если пока что не угрожающие, то во всяком случае останавливающие на себе внимание размеры. Короче говоря, в данное время с нами проживают семь хомяков и одна белка. Но несмотря на это и несмотря на предложение и серьезные советы доброжелательного знакомого – любителя животных – достать нам живого ужа; и несмотря на то, что в начале года мой ребенок вполне серьезно подумывал о взятии временно на воспитание из зоосада детеныша льва или тигра; и несмотря на то, что мой ребенок, в этом случае уже с полным сознанием реальности и законности своей просьбы, периодически и настойчиво просит завести у нас в доме какую-нибудь птичку или две птички и какую-нибудь собаку, уж если не большую, то хотя бы маленькую; и несмотря на то, что Юлия Андреевна недавно всерьез предлагала нам взять на зиму петуха, – несмотря на все это, настоящая угроза не во внешних перечисленных мною факторах, не в растущих пожеланиях моего ребенка, а в той внутренней неустойчивости моего состояния, когда я не могу с твердой уверенностью сказать, что при благоприятных изменениях в наших жилищных условиях у нас не появятся еще и уж, и петух, и львенок, и маленькая и самая большая собачки, и т. д. Дело в том, что рост моих симпатий к животному миру с некоторых пор не идет ни в какое сравнение с реальными темпами заселения нашей жилплощади живыми существами и моя внутренняя неустойчивость, существование которой я всячески скрываю, стала за последнее время поистине катастрофической.
Все это, конечно, шутка, хотя в этой шутке есть все же какая-то незначительная доля, какая-то крупица истины: я не против, например, какой-нибудь птички, даже двух птичек, лишь бы они не очень громко чирикали; я также не против того, чтобы у нашей белки появились муж и дети, так как эта семья поистине была бы веселящим душу зрелищем; само собой разумеется, я всячески за то, чтобы наша кошка, некогда изгнанная по настоянию наших соседей и проживающая теперь у Юлии Андреевны, была возвращена наконец из своего вынужденного изгнания, ну и конечно же, я ничего не имею против хорошей собаки – не маленькой какой– нибудь суетливой собачки, а большого уравновешенного животного вроде дога или мохнатой кавказской овчарки, похожей на сенбернара (о самом сенбернаре, конечно, и говорить уже нечего). Хотя, что касается заведения в домашних условиях такой крупной собаки, это вызывает у меня некоторые серьезные сомнения.
Такая собака – это, конечно, хорошо, это друг, это новый и полноправный член семьи. Но что будет делать эта собака почти весь круглый год? Лежать где-нибудь под столом, или слоняться по комнате, или величественно и послушно прогуливаться два раза в день, на цепочке, у моей правой ноги под восхищенными, льстящими моему самолюбию взглядами прохожих и под настороженными взглядами дворников? Приспособить ее к охоте? Но я никогда не занимался охотой, а теперь и подавно не буду ею заниматься. На трамвае ездить с этой собакой на какой-нибудь окраинный стадион и там вопить «пиль», «ко мне», «от меня», гонять ее туда-сюда по буму и в результате гордо вышагивать с нею рядом на собачьем параде, а потом, в лучшем случае, навешивать ей на грудь очередную бляшку? Во всем этом присутствует какая-то фальшь от нашего века, – у каждого века есть своя фальшь, маленькая или большая, – какое-то глубоко скрытое или запрятанное издевательство над природой, над благородным животным. Другое дело подобный пес где-нибудь на границах нашей Родины, или на севере в собачьей упряжке, или где-нибудь на юге на альпийских пастбищах и на снежных перевалах, где у него может сложиться достойная его суровая жизнь, где у него есть работа и где ему в жизни сопутствует чувство исполненного долга. Итак, если в городских условиях и заводить собаку, то собака эта должна быть не больше пуделя.
Но если быть уж до конца искренним, то что касается меня лично – дело даже не в собаке.
Я хочу иметь коня.
Я сказал эту фразу с улыбкой, пошутил так, идя с кем-то недавно по улице мимо стоящей лошади, и тут же сразу почувствовал, что фраза сказалась неспроста, что я действительно всегда хотел иметь коня, что это давнее, очень давнее и сокровенное мое желание, и даже вспомнил о том, что и раньше, бывало, время от времени я более или менее определенно вспоминал об этом своем желании и каждый раз вновь забывал о нем. Но теперь, после этого последнего случая с лошадью на улице, оно уже почти не покидает меня.
Я хочу иметь коня. Ведь я не говорю, что мне точно так же хочется иметь собаку. Хочется, но не так. Ведь что такое желание иметь в городе собаку, так же как желание иметь птицу, ежа, или белку, или герань на окошке? Это, видимо, желание оторвать и перетянуть в городскую квартиру кусочек природного естества, природной сути, как бы попытка заполучить, пленить у себя в каменной ячейке живого посланника природы. Но уже желание иметь в городе большую собаку, при здравом размышлении, как я попытался доказать выше, – сомнительное желание.
Желание же иметь коня уже не просто сомнительно, оно – желание это – в некотором роде даже фантастично.
С появлением коня на сцене пахнет уже не перетягиванием природы в город, а перетягиванием меня из города в природу. Куда я, прирожденный горожанин, живущий на третьем этаже пятиэтажного каменного здания, можно сказать в самом центре любимого города, дену коня? Дача, на которой я общался с Петелом, – не моя дача, собственной дачи или хотя бы теплой конюшни у меня нет и, вернее всего, никогда не будет, да и на приобретение самого коня нужна солидная сумма, которой у меня тоже, вернее всего, никогда не будет. Бросить город, переехать куда-нибудь в степи, поближе к какому-нибудь конскому заводу? Почешешься прежде, чем переедешь куда-нибудь в степи, к какому-нибудь конскому заводу А может, при определенном стечении жизненных обстоятельств и переедешь? Или при возросшей внутренней тяге, при всесокрушающем желании иметь коня?
И когда это мне в сердце запало фантастически-бредовое желание иметь коня? В те давние довоенные времена, когда в городе было еще полным-полно всяческих коней – лошадей, коняг и лошадок, ломовых и извозчичьих? Когда они – все эти коняги и лошади – если не цокали по мостовым, то стояли где-нибудь в сторонке от движения, у тротуара, у гранитной тумбы, чаще всего уткнувшись мордами в свои слепые мешки, дремали, подрагивали время от времени шкурой на боках или так же грустно и понуро жевали что-то, с глазами, запорошенными густыми ресницами, и длинной челкой, с задней ногой, вольно уткнутой для отдыха и время от времени сменяемой на другую ногу? Когда они стояли вот так и когда в облике их, грустно-понуро дремлющем и грустно-понуро жующем, оставались бодрствующими лишь торчащие на макушке и независимо друг от друга то туда, то сюда повертывающиеся уши, – уши, чутко ловящие разнообразные шумы улицы и возможное приближение хозяина?
Или желание это – иметь коня – запало мне в сердце тогда, когда приблизительно в то же время на самых худых, высоких и костлявых из всего табуна лошадях мы с братом, с родимым, любимым братом моим, с некоторым холодом в груди и под грудью, но и с гордостью одновременно неслись на полном аллюре и правда в белый свет, как в копеечку, тряслись, съезжая то влево, то вправо от каменных конских хребтов, еле удерживаясь на высоте, увлекаемые стремительным и все ускоряемым – специально для нас – движением, с селезенкой, горько екающей не у коней, у которых, если бы ухитриться как-нибудь заглянуть им в морды, наверняка можно было бы прочесть крайнее и искреннее удивление своей вдруг проснувшейся резвостью, – с селезенкой, горько екающей не у коней (может быть, и у коней, конечно), а у нас горько екающей селезенкой. Когда тряслись с уже сбитыми в кровь тощими мальчишечьими задами и когда возвращались потом с гордым сознанием, но с несколько кривыми улыбками, когда нам нестерпимо саднило все в тех же местах, возвращались с глухой ко всему уверенностью, что завтра к вечеру, в это же время, ближе к закату солнца, мы снова будем нестись по этой же самой дороге, биясь и елозя вконец измученными задами о гранитные лошадиные хребты.
Или тоже в давние уже времена, в самый разгар войны, когда я в одиночестве осваивал верховую езду и ночную пастьбу коней в горных ущельях и долинах, в геологической экспедиции?
Нет, ни тогда, ни тогда и ни тогда запало мне в сердце это желание: все эти пустые, полемические вопросы заданы здесь мною в чисто художественных целях. В действительности я давно знаю, когда запало мне в сердце это желание, но отдал я себе отчет в этом уже после того, как, проходя как-то по улице, я сказал идущему рядом со мной, что хочу иметь коня.
Итак, уже не предупреждая о новом отступлении, я снова перенесусь на время в детство и вспомню одну из книжек, которая стояла среди других книг у нас на полке в детском книжном шкафу Это была книжка небольшая, серая и невзрачная, в простом картонном переплете; видимо, что-то вроде хрестоматийного приложения к какой-нибудь гимназической географии или истории для приготовительного класса. Она, эта книжка, имела, наверное, отношение к гимназии, потому что, как мне кажется теперь, перед каждым заголовком небольших (если память не изменяет, в страницу, в две, а то и в полстраницы) содержащихся в ней рассказов или историй стоял двойной сплетающийся знак и номер параграфа. В книжке этой, как водится, некоторые страницы отсутствовали, некоторые же были как-то хаотично разукрашены разноцветными карандашными линиями, а встречающиеся в ней на серых невзрачных картинках – если опять же мне не изменяет память – эскимосы, белые медведи, пустынные пески и морские воды были теми же зелеными, красными, синими и желтыми карандашными линиями частично зачирканы-подцвечены, но подцвечены так, что белые медведи неожиданно заявлялись зелеными, льды – красными, а морская вода, например, желтоватой. Словом, книжечка эта, видимо, неоднократно побывала в детских руках возраста значительно более младшего, чем возраст, подходящий для первых и приготовительных классов гимназии.
Встречаются в детстве вот такие скромные, невзрачные книжечки, вслух читанные нам, когда мы сами еще не умели читать, каким-нибудь родным дядей или родной тетей, – с замазанными страницами и серенькими картинками, замусоленные, перечитанные и пересмотренные так, эдак и наоборот, и в порядке, и в беспорядке раз по сто или раз по триста тридцать, а то и по тысяче, и наконец надоевшие все в том же детстве хуже всякой-то горькой скуки, хуже беспросветно длинного будня. Бывают в детстве такие удивительно скромные и терпеливые книжечки, похожие чем-то, если задуматься, на какую-нибудь старую и ободранную, повидавшую разные виды подзорную трубу или какой-нибудь тоже старый и ободранный форточный любительский телескоп, постоянно раздражающие своим наводящим скуку ободранным видом и настолько вошедшие в обиход, что и невдомек их забывчивым хозяевам, что именно с помощью этих ободранных оптических приспособлений открываются для них, для хозяев, иначе и недоступные им удивительно прекрасные виды и отдаленности. Бывают такие вот книжечки, что, подобно волшебной форточке или таким вот оптическим устройствам, открывают нам в детстве (или, может, напоминают?) скромные, но прекрасные истории и события, которые в том же детстве целиком переселяются вовнутрь нас и для восстановления которых в детском сознании достаточно взять в руки в триста тридцатый раз эту самую серую и нудную книжечку и посмотреть на ее картинку, параграф или серые строчки, а то и на затейливые цветные карандашные иероглифы, порой даже не читая заново ее текста. Бывают такие книжечки, отдавшие всех себя, книжечки, которые, если суждено им выжить в нашей превратной жизни, становятся уж бесполезными, но дорогими и трогательными реликвиями лишь много-много спустя, и уже не из-за своих волшебных, чаще всего безвозвратно утерянных свойств, а из-за тех воспоминаний, что влекут за собой, подобно потрепанным и ободранным подзорным трубам и телескопам, чудом сохранившимся от прежних времен и событий, но утратившим вместе со своими линзами, разбитыми или утерянными, все свои оптические свойства и возможности приближать удивительные земные или звездные отдаленности.
Вот именно в такой десятилетия назад затерявшейся книжечке, содержание которой почти начисто выветрилось из памяти, я и читал эту единственно из всей книги полностью сохранившуюся в сознании историю. В этой истории рассказывалось о каком-то кочевнике-бедуине и о его удивительном друге – коне. Кочевник-бедуин этот был схвачен своими врагами, англичанами или людьми враждебного племени, и, жестоко скрученный по рукам и ногам, лежал ночью где-то на песке у вражеского лагеря, готовясь к неминуемой гибели: на рассвете этого кочевника-бедуина должны были казнить. И вот ночью его разыскал верный конь и, ухватив зубами за ремни или веревки – ничего другого он, конечно, сделать не мог, – конь этот ускакал с ним в родные и безопасные места, но верное и могучее сердце коня не выдержало такой необычной и бешеной скачки и разорвалось: принеся хозяина домой, верный конь тут же пал и издох. И хотя, как часто бывает в детстве, я был решительно несогласен с таким печальным концом, но, прежде чем воскрешать коня, я помню, как представлял себе рассвет над пустыней и представлял стойкого, обычно такого бесстрастного и невозмутимого кочевника-бедуина горько плачущим теперь над еще теплой мордой своего любимого друга коня.
Была вроде бы к этому рассказу и картинка, такая же серенькая и невзрачная, как и все другие картинки в той книжке. На ней среди каких-то пустынных пейзажей фигурировал, кажется, и конь бедуина: как и должно быть арабскому скакуну в моем представлении – белый, с длинным телом, маленькой головой и длинным хвостом. Но картинка эта имела, конечно, лишь вспомогательное значение, потому что и без этой картинки я отлично представлял себе тогда и аравийскую пустыню, и мертвые скалистые горы, и раскаленные солнцем пески, и холмы, и барханы, и какие-то красные, мертвые или мраморные моря, – моря эти долгое время как-то странно смещались, перемещались, наслаивались и путались у меня в неотчетливом моем географическом сознании, – и темные ночи над пустыней, когда к остывающему песку приближалось сверкающее звездное небо, где звезды эти были величиной с ладонь. И конечно, представлял я себе и белого жеребца скачущим с раздувающимися ноздрями и развевающимся хвостом вверх и вниз с холма и на холм или с бархана и на бархан. Скачущего одного, вольно и одиноко, или со всадником-бедуином на своей спине, со всадником-бедуином, приникшим к седлу и в развевающемся за его плечами бурнусе; или, чаще всего, скачущего со мной самим, пригнувшимся и в бурнусе, со звездами, с копыта лошади, над головой, и, чаще всего, вверх по склону холма, так как при таком подъеме я сильнее всего приникал к шее коня и мощнее всего перекатывались и сокращались мышцы под шкурой могучего конского крупа; чаще всего вверх по склону холма, потому что и далее, и прекраснее открывался потом вид с одоленной нами вершины и яснее было оттуда перемещение наших врагов, если мы имели дело с врагами. И потом, конечно, где-нибудь в укромном скалистом ущелье, у небольшого ручья, я чистил и холил своего верного друга, своего любимого коня, и прижимался щекой к его теплой и доверчивой, в крупных упругих жилах, морде, и гладил нежные с торчащими волосинками губы, и заглядывал ему в глаза, о которых и сказать, собственно говоря, нечего, потому что в них, в этих конских глазах, как сказал один восточный поэт, – целый мир.
Но вот в чем вопрос, – правда ли, что все мои аравийские скачки и прекрасная дружба с белым конем запали мне в сердце лишь после знакомства с той книжкой, а не гораздо, гораздо ранее? Уж слишком все это в моем сознании и памяти выглядит пережитым и бывшим. Почему бы действительно так уж запасть в сердце одному лишь из всей книжки рассказу, когда в ней наверняка было еще много разных трогательных историй, происходящих где-нибудь в тундре, в джунглях или где-нибудь среди морских котиков, на льдине Ледовитого океана; почему бы быть у меня в коленях, как себя помню, вроде бы уже не раз испытанному радостному ощущению верховой езды?
Вот в чем вопрос и вот что поистине странно.
Но так или иначе, белый легкий скакун этот с некоторых пор и время от времени, совсем как на близких или далеких вершинах настоящих холмов – то ближе, то дальше, появляется на эфирных холмах моей памяти и то ясней, то туманней маячит там в отдалении своим чутким, призывным силуэтом, развевая по ветру свой длинный хвост и гриву
В свете всего этого, может, не так уж бредово и фантастично мое желание иметь коня?
Ну вот, отдав дань лошадиной сути, – можно ли было обойтись без нее, без этой сути, в подобном исследовании, особенно если учесть, какую важную роль с раннего детства она играет в моей внутренней жизни? – отдав дань лошадиной сути и вписав какую-нибудь большую и тяжелую фразу, которая бы постепенно могла свести на нет и окончательно затормозить инерцию снова вдруг набравшего ход моего повествования, я мог бы теперь с чистой совестью поставить конечную точку Мог бы ее поставить, но не поставлю. А потому не поставлю, что не хочу до поры до времени ее ставить. Не хочу давать лишнюю возможность критически настроенному читателю придраться к одному из примененных мною терминов или к одной из сделанных мною характеристик. Я имею в виду то, что в данном тексте неоднократно называл свое повествование триптихом.
Совсем недавно мне пришлось слышать, как один молодой и талантливый человек, высказывая свое мнение о написанном с некоторой симметрией литературном произведении другого молодого и талантливого человека, заявил, что произведение не должно создаваться по законам симметрии, что оно, произведение это, наоборот, все, как шкаф на трех ножках, должно валиться и плыть в неопределенное. Приводя это высказывание, я никоим образом не хочу утверждать, что не может быть такого произведения, которое бы валилось и плыло, как шкаф на трех ножках, – с некоторых пор я даже сочувственно отношусь к подобным произведениям, – но в то же время я хочу заявить с полной определенностью о своей убежденности в том, что если имеет право на существование валящееся и плывущее произведение, то имеет право на существование и произведение симметричное.
Симметричность произведения, по моему глубокому убеждению, никогда не может и не должна быть симметричностью мертвенно-математической; она должна быть, если можно так выразиться, симметричностью асимметрической, какова в конечном итоге симметричность почти всего живого, а также и так называемого мертвого – от древесного листа, от мухи какой-нибудь до звездно-планетного и галактического образования и до самого человека, до всего симметрично-асимметричного лица его. Притом, если задуматься, то и весь «мир» в самом что ни на есть беспредельном значении этого слова можно принять как нечто симметрическое, постоянно и периодически соскальзывающее в асимметрию и постоянно и периодически вновь восстанавливающее свое равновесие.
Но здесь, именно в этом месте, заходя, так сказать, уже с иной стороны, могут сказать мне, что, мол, и человеческое лицо может так поплыть и повалиться, что в результате превращается уже не в лицо, а в расквашенную личину, лишенную начисто всякой симметрии и гармонии, и не преминут тут же сравнить с подобной личиной мой несколько кривобокий и впрямь съехавший немного на сторону и по этой причине почти нескладный уже складень-триптих. Я сознаю некоторую справедливость этого последнего замечания и все же продолжаю отстаивать свою позицию. Пускай мой складень несколько кривобок и нескладен, но и некоторые лица почти от самого своего рождения бывают несколько больше обычной нормы смещены и сдвинуты по отношению к своей центральной оси, хотя и остаются все же при этом сдвиге и смещении – вот-вот, но все же не перейдя роковой черты, – остаются нормальными, а не безумными лицами.
И тут критик мой наконец воскликнет, что, мол, твердишь ты о симметрии, когда само средоточие твоей системы – глава о Петеле, центральная створка триптиха не симметрична, а кривобока. Не знаю, может быть, но я стремился к симметрии и попытаюсь наглядно представить, как сам я мыслю распределение основных пластических масс в моем триптихе.
Итак – левая створка. Почти во всю эту створку изображена охристая собака с большой головой и с устремленным на вас скорбно-человеческим и в одно и то же время немым собачьим взглядом, а вокруг собаки по неяркому и даже несколько матовому ультрамариновому фону как бы уходящего вдаль северного озера там и сям разбросаны как бы процарапанные до грунта рыбьн остовы и полуобглоданные скелеты, а внизу, слева, например, – можно в три четверти, можно и в профиль – изображен более четко маленький стол и маленький человек, глодающий жареную рыбу, – это я, – а перед столом, передо мной – еще одна, уже маленькая, та же самая, что и крупным планом, собачка, которая смотрит во все глаза мне в рот.
Центр триптиха мне, пожалуй, труднее всего представить зрительно. Здесь, видимо, на блекло-осеннем фоне, но тоже с оттенками ультрамарина что-то и как-то должно находить и наслаиваться друг на друга, а именно: Петел – отчасти царский генерал и отчасти лицо старика-соседа, но главным и здесь остается, конечно, сам Петел, глаз Петела и лицо и глаз старика, мое же лицо… А меня можно сосредоточить, например, снова внизу, но на этот раз уже ближе к центру, хотя и в том же миниатюрном размере, кормящего с крыльца сероватого деревянного дома тоже миниатюрных кур.
Наконец, в правой части триптиха, решенной тоже в тонах охристых и ультрамариновых, я помещаю сдвинутую вправо и вниз сравнительно крупную кошку в позе, в какой обычно кошки, компактно подобрав под себя все четыре лапы и хвост и зажмурившись, сидят на теплой плите, если к холоду, или на каком-нибудь стуле, или на перилах крыльца. Но ни плиты, ни стула, ни крыльца на третьей створке не помещается, – вокруг кошки Аравийская пустыня с грядой холмов и скалистых гор в отдалении. Сидит же кошка, равнодушно зажмурившись, на песчаном бугре, почти уткнувшись зажмуренной мордой в правый срез створки. В центре же створки, белосгущающееся по контуру, к голове и к хвосту, чуть-чуть подсиненное, но сквозное посередине – так что за ним видна все та же пустыня с грядой холмов и скалистых гор в отдалении – сквозное изображение коня, с туловищем, эффектно развернутым влево и несколько вглубь, но с головой, призывно глядящей на зрителя. Вдали же, сквозь призывно развернутого в повороте коня, мы видим скачущего в глубине, вверх и вправо, по отрогам холма всадника, снова на светлом коне и в развевающихся белых одеждах.
Интересно, будет ли у меня когда-нибудь конь?
Ноябрь 1965-апрель 1966
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































