Текст книги "Записки любителя городской природы"
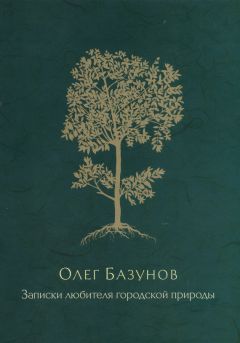
Автор книги: Олег Базунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Я объяснял стариковскую эту мрачность и нелюбезность – и отчасти, конечно, был прав – все теми же гниющими (как раз по соседству с местом, на котором он всегда копался, на том же общественном проходном пятачке) бревнами Юлии Андреевны, совершенным бельмом для хозяйственного крестьянского глаза; еще объяснял его угрюмость самим фактом существования Юлии Андреевны и нас всех, ее временных и периодических постояльцев, тем, что вообще Юлия Андреевна, лет десять как приобретшая всю эту движимость и недвижимость, была как втесавшийся в крестьянское окружение инородный клин, словно с озорства загнанный, так просто, за здорово живешь каким-то озорником и охальником в кряжистое бревно.
И еще одним объяснял я мрачность старика: время от времени вспыхивающими неурядицами среди сынов его, всех вымахавших в отца, рослых и здоровенных, со стопою в сорок седьмой размер, хороших и работящих, но по каким-то суровым и неумолимым законам так намертво связанных кровными узами, что и в разные стороны не разойдутся, и поделить одного места не могут. И так как время от времени все они как один, правда с разным пристрастием, поклонялись зеленому змию – для чего часто по воскресеньям и многочисленным праздникам собирались воедино – и так как, поклонившись этому змию, начинали припоминать друг другу все накопившиеся за долгую семейную жизнь действительные и мнимые обиды и прегрешения, то… И потом, когда… Или даже много раньше того, как… И если смотреть от дома Юлии Андреевны, на заднем плане, за жердями изгороди и за небольшим косогором по общественному пятачку проходила, продвигалась, неровно колеблясь, фигура младшего, самого удалого и неженатого, сына Гаврилы, весело, а порой и грустно распевавшего песенку: «Загулял, загулял парень молодой… В красной рубашоночке, хорошенький такой…» И когда сквозь жерди ограды было видно, что на молодом, загулявшем парне действительно выпущенная на волю, иногда целая, а иногда уже и не целая, рубашечка, хотя и выкрашенная в красноватое, но что-то не очень ровно выкрашенная, то соседние дома, прислушиваясь к песенке, несколько затихали, а девичьи, да и не только девичьи сердца начинали глухо, но усиленно биться…
Вот так – и не без оснований – я объяснял себе угрюмость и мрачность старика. Но все мои предположения оставались неполными до того раза, когда преждевременно выпал обильный снег, покрывший всю землю, все кусты, все деревья и создавший заманчивую обстановку для прогулки в лес, где я, стоя по колено во мху и снегу (по колено в лесу, как я написал в письме), мог созерцать сквозь стволы великолепный морозный закат. Возвращаясь из леса домой почти сразу после захода солнца все через тот же проходной пятачок, я встретил вдруг моего деда совершенно иным. Дед живо, даже восторженно, если можно применить к нему такое слово, с жестами поведал мне, как в мое отсутствие на моих «курей», прорвавшись сквозь забор, совершила набег – тот самый набег, после которого так оскудел хвост Петела, – злобная собачка, и, главное, поведал мне о мужестве и самоотверженном геройстве моего Петела.
С этой поры я перестал замечать угрюмость и мрачность деда или, во всяком случае, гораздо меньше замечал их. И сутуловатый дед этот со своей характерной фигурой в длинной рубахе с низким поясом, со своей маленькой хворой старушкой-женой представлялся мне дедом из русской сказки – из той же курочки Рябы, например, где жил дед и жила баба.
Так вот, как-то неожиданно, как неожиданно назвался у меня Пижон Пижоном, я заметил, что взгляд и выражение глаз моего Петела удивительно схожи со взглядом старика-соседа. Знаете, бывают такие глаза, голубые, зеленые или желтые, в радужной оболочке которых плавает каким-то хитрым образом попавшая туда с рождения и не растворяющаяся в ней до самой-то смерти, плавает каринка, такая каряя штуковина, неровный кусочек-обрывочек, или два кусочка-обрывочка, или три даже, чего-то коричневого. Вот такой кусочек– обрывочек плавал, – или мне только показалось так? или сейчас, задним числом, разыгралась фантазия? – плавал в одном голубом глазу деда. Нет, у петуха моего, у Петела, в глазу такого явления не наблюдалось. Но дело в том, что у самого деда-то, кроме этой не растворившейся в глазу каринки, плавала – на этот раз уже хорошо растворившаяся, и не в одном, а уже в обоих глазах – шальнинка или дичинка, как хотите, которая тоже, видимо, попала в глаза деда от рождения, и которая, должно быть, тоже будет там до самой-то его смерти, и от которой, растворившейся этой шальнинки или дичинки, как расширяется зрачок от какого-то там снадобья, глаза деда несколько расширились, так что при желании в них можно было совершенно ясно увидеть, как дед в свое время ходил в штыки или даже в сабли, памятное свидетельство о чем в виде какого-нибудь, а то и не одного Георгия на желто-полосатенькой ленте хранилось его старушкой-женой на дне какого-нибудь сундучка в осевшей избушке, и также можно было увидеть в глазах деда, как в свое время он тоже зело любил распевать, как теперь младший его Гаврила, «Красную рубашоночку». Правда, расширенность дедовских глаз уравновешивалась теперь уже приобретенными к старости мудростью и добротой, проступавшими сквозь грубость и суровость и нет-нет да изливавшимися теперь на хворенькую и верную жену его – мать, не поймешь каким образом, десятерых сынов этих, – да и по-разному на самих сынов, да и на внучат, да и на брехливого, ласкового и никуда не годного Буяна, на коровенку на солнышко да на небушко…
В этом месте моего рассказа недовольство мною со стороны читателя достигнет, наверное, возможного предела.
Такой взгляд, такого, по собственным же словам моим, прекрасного деда, я сравнил с каким-то петушиным взглядом, и если в начале своего повествования, бормоча в свое оправдание что-то невразумительное о взгляде сверху вниз и взгляде снизу вверх, я осмелился сравнить песий взгляд со взглядом какого-то случайного трамвайного старца, то здесь я сравниваю взгляд уже вполне определенного старика из народа, отца, деда и почти прадеда, сравниваю со взглядом какого-то там петуха, у которого, как говорят ученые, не только по сравнению с человеком, но даже по сравнению с той же собакой, волком, обезьяной рот неподвижен и не может изобразить даже искаженную, не похожую ни на что и обманчивую звериную улыбку Петуха, у которого на лице нет никакой мало-мальски заметной мимики и поведение которого, как у той же собаки, волка, лошади, по компетентным утверждениям ученых, соткано из простейших, ну и немного более сложных рефлексов, которые вполне на современном этапе можно моделировать, ну если не практически, например, сразу же, в данный момент, то с полным успехом теоретически, ну и практически, конечно, уже в скором времени.
По правде говоря, я совсем растерялся и потерялся, я, пожалуй, совсем не знаю, что сказать в свое оправдание. Действительно, у петуха неподвижный рот в виде жесткого клюва, и, действительно, лицевые мышцы его, в отличие от собачьих, не имеют никакой, даже минимальной подвижности. Но объясните же мне, пожалуйста, почему взгляд этого петуха – этого моего благородного Петела – так удивительно похож на взгляд старика-соседа?
Может, потому все же, что, несмотря на свою почти полную неподвижность, лицо это выражает непонятную в деталях, но ухватываемую нашей интуицией суть примитивной души этого петуха? Суть его характера и индивидуальности в таких каких-нибудь незаметных и не ухватываемых нашим пониманием нюансах и оттенках, еле заметных смещениях и отклонениях, как построенная тоже на каких-то не ухватываемых нами смещениях и отклонениях необъяснимая монализовская улыбка. Ведь форма гребня-то, так же как, например, повадка и осанка, совершенно разны у Петела и у Пижона. Может быть, и все остальное совсем неприметно – здесь капельку и здесь чуть-чуть – тоже отличает одного от другого? Ведь должно же в чем-то внешнем выражаться внутреннее их различие.
Я уверяю и настаиваю, что, несмотря на всяческие условные и безусловные рефлексы, не только там у пса того или у нашей кошки, но и у этих петухов есть четкие, ярко выраженные индивидуальности и характеры. А если есть таковые, то как-то они должны находить и внешнее свое выражение? Пускай не всегда, а только лишь по счастливой случайности заметное нам, но всегда отлично заметное им самим, животным и петухам, которые запросто определяют, как им себя вести при встречах друг с другом: сразу поджать хвост или нет, улыбнуться друг другу – если у них не жесткий рот – или нет, поспешно начать клекать всерьез что-нибудь или нет. С другой стороны, ведь говорится же, и я это не раз замечал, что вот такой-то человек – вылитый портрет его личного пса или наоборот: вот такой-то пес – вылитый портрет своего хозяина. Ведь даже большие художники, исходя как раз из этого факта, запечатлевали некоторых людей на одном холсте с их собаками. Пусть одни скажут, что такая похожесть человека и собаки простая случайность, а не то, что человек инстинктивно подобрал себе в пару определенное животное. Другие же пусть скажут, что похожесть эта вырабатывается, так сказать, в процессе совместной жизни животного и человека и из глупого обезьянничанья животным повадок своего хозяина (а может, наоборот, жертвы собачьих капризов и деспотизма?). Пусть они скажут это, а не то, что похожесть взаимно вырабатывается и от любви и уважения – да, уважения! – друг к другу, и от перенимания лучшего друг у друга, что, может, она вырабатывается даже от какого-то основанного на симпатии и взаимном притяжении совмещения и взаимовлияния каких-то магнетических биополей. Пускай так скажет первый и так скажет второй, но факт-то остается фактом: похожесть эта выражается в мимике, повадке и так или иначе является следствием похожести внутренней, склада душ и характеров. Уж не говоря о каких-нибудь, конечно, не идущих в счет, навязших в зубах сравнениях людей то со львом, то с шакалом, то с гиеной или коровой, или так часто встречающемся сходстве с ядовитыми змеями, или сходстве с волками, собаками, лошадьми, с кошками или орлами и прочими многочисленными птицами и животными. Но при всем том, что мы не берем ни в какой серьезный счет эти последние сравнения, они все же показывают, что какие-то характерные черты, свойственные, как принято считать, лишь человеку, рассыпаны в природе и часто встречаются далеко за пределами человеческой сферы, понятой здесь, конечно, не в физическом или геометрическом, а в ином, видовом, так сказать, смысле.
Так почему же, учитывая все вышесказанное, я не могу, не имею права с чистой совестью сделать это свое сравнение взгляда и выражения глаз уважаемого мною деда, правда, не со взглядом орла или льва, а со взглядом и с выражением благородного и великодушного, независтливого и мужественного, когда-то считавшегося даже – хотя теперь и за давностью это и не имеет никакого значения – священной птицей, красавца-петуха, моего Петела, у которого тоже от рождения растворилась в глазах расширившая их шальнинка и у которого тоже сквозь – но тут уже сквозь петушиную зоркость и цепкость взгляда – просвечивают в такой мере свойственные ему доброта и благородство!
Я, наверно, уже утомил всех длиннотой своих рассуждений. И вот, для того чтобы хоть немного отдохнуть от моего тяжелого стиля, я предлагаю читателю вместе со мной немного пофантазировать. Небольшая доза фантазии в этом моем повествовании вполне допустима хотя бы уже потому, что все остальное, в нем рассмотренное, – это подлинные события и голые факты, я говорю это серьезно и хочу избежать малейших сомнений и кривотолков на этот счет.
Ну так вот, предположим, что в вашей душе, так же как, наверное, в душах какого-то неопределенного числа других людей, имеется свой рай и свой ад; и если рай в вашей душе, подобно некоторым сказкам и настоящему раю, населен добрыми существами и человекообразными зверями, то ад ее, тоже подобно некоторым сказкам и настоящему аду, населен звероподобными людьми и чудовищами, и вот часто вы, и по своей и не по своей воле, спускаетесь из своего рая в этот ад и бываете терзаемы там, терзаемы этими звероподобными людьми и чудовищами и, конечно, самим собою, звероподобным. Но я не собираюсь углубляться здесь в эту грустную, тоскливую и бездонную, касающуюся только вас тему, я лучше снова обращусь к тому, за счет чего вы можете или стремитесь умножить и укрепить свои райские рати.
Предположим, что когда в становых и прочих ваших жилах, как известно, выносящих основную тяжесть борений сильных чувств и страстей, когда в жилах этих, как два океанских течения или как два встречных вихря одного урагана, сталкиваются давление творческое и давление, образующееся от резкого и неожиданного вашего спуска-погружения в личную вашу преисподнюю, когда от встающих перед вами и зависающих над вами роковых вопросов, многочисленных мелких и немногих громадных, но крайне существенных и, главное, тех и других никоим образом неразрешимых в данный текущий момент, – когда от всего этого общее, так сказать, результативное давление в ваших становых и прочих жилах столь повышается, что вы уже не можете не только работать, но не можете просто сидеть, и просто лежать, и просто спать, не можете заняться даже, предположим, столь любимым вами делом, как колка дров, – то, надев ватник, вы выходите на крыльцо, во двор на свидание с грустной осенней природой, с загубленными, но все еще живыми яблонями, с облетающими тополями, с медлительной речкой, с курами и с двумя-тремя котами, что регулярно приходят сидеть в разных точках двора и орать время от времени, вызывая из дому своими воплями беременную и потому теперь почти равнодушную к ним кошку. Вы выходите на свидание с осенней природой и с разными этими птицами и зверями, зная на опыте, как благотворно воздействуют на вас эти свидания. Вы прогуливаетесь по берегу реки, глядя вдаль или в меланхолично движущуюся у ваших ног воду, сквозь стеклянный ледок – если у берега образовался ледок – разглядываете следы улиток на илистом и песчаном дне, представляете себе таинственную подводную жизнь; или сосредоточиваете свое внимание на траве, удивляясь ее непонятной выносливости к заморозкам и морозам, несмотря на которые она – трава эта – все зеленеет и зеленеет, приобретая лишь несколько утомленный вид; или, возвращаясь к дому, к тополям у дома, вы принюхиваетесь к великолепному, уже крепко настоявшемуся запаху палых листьев, лежащих толстым и рыхлым слоем почти на всем участке, и наблюдаете, как облетают все еще остающиеся в большом количестве на тополиных верхушках листья… как они… как каждый из них, с неравным успехом, даже под довольно свежим северным ветром стойко, до последнего критического мгновения удерживается на ветке, весь трепеща от напряжения, а потом вдруг – не уследить даже как – отрывается и уже, делая вид, что ему вот как легко и весело – когда у самого-то сердце щемит и заходится от тоски, – выделывая в воздухе – желтое по голубому – легкие, скользящие, вернее, все время соскальзывающие фигуры и арабески, будто притворно насвистывая или напевая какую-то легкую песенку, летит как можно подольше в сторону, чтобы под конец неумолимо присоединиться все к тому же недвижномертвому слою…
Но обратимся к нашей фантазии. Возможно, вы в такой ситуации не смотрели ни в воду, ни на облетающие тополиные листья, а просто стояли у стены сарая, попеременно то грудью, то хребтом поворачиваясь к солнышку, глядя, куда душе вашей было угодно, то в белесое небо, то туда, то сюда, то в щель бревна, где, хитро укутавшись на зиму в свою собственную паутину, спал какой-нибудь беззаботный паук; может быть, вы просто стояли и цедили сквозь многочисленные одежды – потому что в летнем доме достаточно холодно – жиденькое, чуть-чуть проникающее солнечное тепло, точно так же как в двух метрах от вас цедили его сквозь свои разноцветные и одноцветные перья тоже зябнущие, как и вы, куры. Но предположим еще, что если все эти созерцательные и тепловые процедуры не помогали вашим жилам, то вы, памятуя о том, что в некоторых упрощенных случаях и ситуациях жизни осязание более действенно, чем созерцание, вы, чтобы обрести уже полный контакт с природой, приступаете к таким на первый взгляд уже бессмысленным действиям, как то: начинаете обламывать никому не мешающие сухие тополиные прутья, пробуете, насколько крепко еще держатся листья на различных деревьях и кустарниках или упакованные впрок почки, сапогом пихаете-продавливаете стеклянный ледок на реке, добиваясь того, чтобы хлынувшая в пролом вода не успела замочить отдернутый вами сапог, наконец, именно в этом случае вы обращаете свое обостренное внимание на кур, например.
Что касается кур – я снова не могу устоять, чтобы не вмешаться в развертывающуюся фантазию, – что касается кур, они привыкают к новому человеку исключительно быстро, и уже вскоре после знакомства нельзя выйти во двор, чтобы они не кидались к вам сломя голову и маша крыльями, и нужно сказать, что, хотя я часто укорял кур в жадности, курами двигает в этих случаях не одно стремление к наживе, иными словами, к пище, они так же кидались ко мне, зная заведомо, что ничего от меня не получат, и в тех случаях, когда были по горло сыты. Курами двигает любопытство и любознательность. Судя по всему, они относятся к нам так же, как мы, люди, относились бы к какому-нибудь много выше пас организованному и вдруг появившемуся среди нас существу
Куры провожали меня на почтительном расстоянии в любой угол двора, до любой двери или калитки, куда бы мне ни заблагорассудилось направить свои стопы. Они, например, провожали меня до калитки, когда я, позвякивая ведрами, отправлялся на речку за водою, они сопровождали меня и толклись в непосредственной близости, когда я просто так, бессмысленно бродил по участку, они с крайним удивлением и любопытством вытягивали шеи, чтобы лучше видеть меня своим птичьим боковым зрением, то вправо, то влево вертя своими головами, только для виду, из деликатности только наклоняясь, чтобы клюнуть там что-то пару раз, щипнуть одну-другую травинку или гребануть лапой по листьям… И вид у них бывал такой удивленный, а глаза такие недоуменно-расширенные, в бедных куриных мозгах происходила, видимо, такая работа, какая могла бы происходить у нас в головах, когда к нам прилетело бы какое-нибудь неземное создание: зачем он бродит, глядя в небо? не клюет, не разгребает? что им движет? или за этим прозрачным и твердым льдом в своем курятнике что он там делает, быстро скребя лапой и ничего не клюя? Вы скажете: «Эх, глупые куры», – я тоже не раз говорил себе: «Глупые, глупые куры». Наверно, так же о нас мог бы сказать высокоорганизованный и многоопередивший нас в развитии своих мозговых и прочих возможностей какой-нибудь житель иных миров… Но я убежден, что он не сказал бы так, он постарался бы взглянуть на все это дело с какой-то иной точки зрения, с какой я старался глядеть на кур.
И правда, ведь между мной и курой, по всему судя, расстояние гораздо меньшее, чем между курой и, например, каким-нибудь дубом. Да и не такие уж куры глупые в своем общежитии, а некоторые из них так просто умны и благородны – взять хотя бы того же Петела. Или что касается куриного любопытства, – если взглянуть на него тоже с иной точки зрения, то оно становится кое-каким показателем. Ведь вообще любопытство-то – это в какой-то мере интерес, любознательность, сознательное или инстинктивное стремление сквозь внешнее проникнуть в непонятную и недоступную суть, приобщиться к этой загадочной сути. Куры, сопровождая меня по участку, хотели ко мне приобщиться, приобщиться к моей сути! И я не гонял их, я давал им спокойно приобщаться, даже разговаривал с ними или ловил их и держал в руках, убеждая их, что не хочу им делать никакого вреда. Дело в том, что я тоже, взаимно, хотел как можно полнее приобщиться к их сути, ведь всякая суть обогащает, обогащает душу и куриная суть. Суть – это лучшая пища. Она обогащает в гораздо большей степени, чем куриное мясо. Я хорошо понял это. Но понял я и то, что куриная суть – превосходное целебное средство…
Есть, к примеру, такие крайне обычные и привычные для нас, северян, золотые, желто-оранжевые или оранжево-желтые цветочки огоньки-ноготки, с горьким соком в своих стеблях и листьях – это от них, от этих горько и терпко пахнущих ярких цветочков к октябрю на грядках остаются лишь блеклые, дряблые кулачки с семенами. Как ни будничны эти цветочки, именно из них приготовляют вернейшие целебные средства – настойки и мази. Настойки и мази эти – наверно, не без связи со своей отчаянной горькостью – излечивают всякие там телесные повреждения, ушибы, царапины и воспалительные процессы покровов. Так вот, возвращаясь к нашей с вами фантазии, которую я так сумбурно прерывал несколько раз и которая по этой причине как-то сошла на нет и заглохла, так, возвращаясь к этой фантазии, я продолжаю: когда вас мучают все эти страшные вещи, все эти преисподние и населяющие их чудовища, все эти противоборствующие течения и ураганы, поднимающие давление в ваших жилах до недопустимых пределов, и когда в таком состоянии вы, можно сказать, торопливо, как пчела к цветам на поляну, бежите на встречу с природой, то вы неспроста бежите на встречу с ней. Дело в том, что все же одним из самых лучших целебных средств в ряду всеобщего созерцания всех этих течений вод, горений огня, дуновенья ветров или обладающих спасительным излучением растительных и животных жизней, – во всем этом ряду для ваших несчастных, саднящих от напряжения сосудов одним из лучших целебных средств будет эта – чистейшая куриная суть.
И хотя семейство птичек малиновок далеко не семейство кур, но здесь уместно привести тот известный пример со слоном, который в бешенстве все топтал и крушил несколько дней подряд, пока не заметил гнезда птичек малиновок, как и положено, сперва с крохотными яичками, а потом и с голенькими птенцами; и как слон, успокоенный и умиротворенный этим зрелищем птичьей сути, стал наблюдать за жизнью семейства малиновок и даже постоянно обдувал птенцов из хобота своим теплым дыхом.
Здесь меня могут заподозрить в том, что вся эта моя фантазия о страстях и личных преисподних, о смертоносных водоворотах и разгулявшихся в жилах давлениях мною не выдумана, а взята, так сказать, с натуры, из личного духовного и телесного опыта. Слов нет, конечно, как и телу моему, моим становым и прочим жилам, как и всяким иным системам, приходилось испытывать иногда кое-какие приливы и перепады разных давлений и кое-какие спады и напряжения; конечно, и на моей душе, как и на всякой более или менее порядочной, а не бесчувственной душе, имеются кое-какие царапины, травмы и прочие невольно и вольно нанесенные на нее засечки, зарубины, начальные буквы собственных и несобственных слов; конечно, и в моей душе время от времени протекали те или иные воспалительные процессы, но никогда с моими жилами и душой не происходило таких странных вещей, о каких вместе с вами мы позволили себе так чисто художественно пофантазировать. Кое-какой жизненный ветерок раздувал и во мне кое-какие наследственные недуги и изъяны, ведь теперь уже вроде бы окончательно доказано, что в этом почти совсем не сложном процессе – я говорю о наследственности– иногда встречаются разные обидно-случайные, но устойчивые срывы и казусы, связанные, слава богу, с какими-то почти уже математически уловленными и ущемленными генами. Если привести здесь еще одно, но уже совершенно неточное природное сравнение, то получается что-то вроде того, что на какой-то лесной опушке кто-то халатный и преступно неосмотрительный оставляет плохо притушенный костерок, и вот подует жизненный ветер (а иногда и ветрило, можно сказать), подует такой ветер, сдует-раздует с уголька голубенький пепел, а там загорится какая-нибудь былинка-соломинка, какой-нибудь листик или веточка, треснет, лизнет, перекинется и пойдет, и поедет, и заполыхает, и дай-то бог тогда, чтобы не дотла в несчастном лесу этом все погорело да выгорело…
Все это я привел здесь так, для красного словца, все эти фантазии расписал лишь для того, чтобы вернее доказать прекрасные целебные свойства чистой куриной сути, которую и я использовал в небольших дозах для легкого лечения разных мелких царапин и ушибов.
Да. Было бы неточно, а главное, несправедливо, если бы я, говоря здесь о целительных свойствах куриной сути, при всем ее значении для меня в этот месяц, приписал бы ей какое-то из ряда вон исключительное значение по сравнению с целительными свойствами прочих сутей, например кошачьей. В данном случае кошачьей сути потому, что в этот октябрь месяц единственным лекарством моим и жизненным эликсиром в долгие вечерние, а иногда и ночные часы в темном и тихом мире, когда шумы приливов и отливов давлений в становых и прочих жилах не только ощущаются, но и отчетливо слышны невооруженным ухом (почему-то особенно левым ухом), единственным лекарством и эликсиром моим оставалась лишь суть кошачья, так как – напомню вам – куры в ту пору давно уже спали, оповещая о себе лишь «в полночь, перед зарей и в зорю» приглушенными петушиными кликами и еле слышными в закупоренном доме случайными ночными куриными всполохами и переполохами. Кошачья же суть, притом суть беременная тогда еще неизвестным количеством других кошачьих сутей, в эти вечерние и ночные часы была под одной кровлей со мною, в одной комнате, рядом со мною – на столе, или на стуле, или всей своей умноженной тяжестью давила сквозь одеяло мне на ноги, уютно и блаженно разлегшись там, используя естественные возвышенности и выемки одеяльной поверхности, посапывая и вздрагивая во сне, а то постанывая и бормоча что-то, когда в затуманенном сонном ее сознании проходили и проплывали картины страшных или счастливых кошачьих снов, или, иногда, будучи согнана или даже просто осторожно подвинута в сторону даже со словесными извинениями, обижалась и величественно гордо, но не очень-то грациозно в своем интересном положении соскакивала на пол и переходила на голый стул или другую, холодную, койку и, глубоко обидевшись – потому что этой кошачьей сути было свойственно глубоко обижаться, – проводила ночь или остаток ночи в одиночестве.
Тем более нужно здесь отметить, что целебные свойства кошачьей сути я открыл и испытал на себе гораздо ранее сути куриной, еще в те времена, когда теперь уже четырехлетняя наша кошка появилась у нас в городе, в квартире, в виде маленького котенка, постоянной ласковостью и игривостью так отличавшегося от сдержанного, замкнутого и независимого характера нынешней нашей кошки в одинокие или, так сказать, холостые периоды ее жизни. Я говорю только об одиноких или холостых периодах потому, что в периоды ожидания, вынашивания новых детей характер нашей кошки резко меняется, так что от холодной ее независимости, сдержанности, замкнутости, сурового отклонения от всяческой ласки почти не остается следа. Чувствуя в себе новых младенцев, наша кошка сама, видимо, возвращается к своей на время забытой младенческой ласковости и открытости, так что с нею вновь становятся возможными даже продолжительные разговоры, во время которых в ответ на каждое, иногда, правда, однообразное, обращение вы получаете полное осмысленности и симпатии носовое «мяу», иногда даже от избытка чувств переходящее в кошачий шепот, в беззвучное, полное тончайших оттенков, периодическое и длительное подрагивание и подергивание чуть приподымаемой верхней губы и усов.
Вполне понятно, что с этими резкими колебаниями свойств кошачьего характера – из отрицательных свойств которого в период ожидания потомства и в период самого материнства у нашей кошки остается лишь болезненная обидчивость – соответственно колеблются и целебные свойства кошачьей сути. Целебные свойства ее низки, например, и в тот момент, когда после более или менее продолжительного перерыва в мясной пище вы даете нашей кошке какую-нибудь свежую рыбу вроде хека или камбалы и когда в ней – в кошке – просыпаются сразу рысь, пума, пантера, ягуар и тигрица, вместе взятые; целебные свойства ее вновь повышаются, когда она удовлетворит свои животные страсти и когда жестокие инстинкты снова спрячутся в ней, подобно тому как прячутся в мягких кошачьих лапах кошачьи когти. Наконец, целебные свойства кошачьей сути крайне высоки в моменты кошачьей самоотверженности. Недавно, например, в каком-то журнале я видел фотографию кошки, которая, подобно какому-нибудь легендарному Рикки-Тикки, но уже не на Индостанском полуострове, а где-то у нас в Средней Азии, спасла спавшего ночью в колыбели грудного младенца – грудного, с которым она и не играла еще никогда, к которому она и привязаться-то еще не успела, – спасла его от укуса змеи, сцепившись со змеею этой не на живот, а на смерть, и билась с нею до последнего, до тех пор, пока не прибежал на шум отец ребенка и не добил той лютой змеи.
Да чего там далеко ходить в Среднюю Азию, когда примеры кошачьей самоотверженности – пусть и не такие яркие, как только что описанный случай, – можно было наблюдать в благородном поведении нашей кошки, когда она, охраняя, правда, уже не старую свою хозяйку – Юлию Андреевну, а сравнительно молодую хозяйку от того самого уже нам знакомого пса, могла и час и два самоотверженно сидеть под креслом хозяйки, в то время как та вела неторопливую беседу со своими гостями и его – пса – хозяевами, могла сколько угодно, вернее – сколько нужно было, сколько подсказывало ей ее чувство долга, сидеть, подобравшись к решающему броску, под этим самым креслом и устрашающе выть и шипеть оттуда, лишь только деликатный пес пытался переступить запретный магический круг, совмещенным и точным центром которого были молодая хозяйка и наша кошка.
Правда, в данном случае самоотверженность кошки носила, пожалуй, и некоторый оттенок эгоизма (если самоотверженность может носить некоторый оттенок эгоизма; по-видимому, все же может). Дело в том, что наша кошка отлично знала, что как пес, так и ее молодая хозяйка прекрасно друг к другу относятся. Кошка знала это потому, что лично сама, и не один раз, притом с явным презрением и даже брезгливостью во всем своем облике, наблюдала сквозь безразличнейший прищур, как ее хозяйка весело резвилась с восторженно лающим псом этим, гладила его и обнимала за шею. Короче говоря, самоотверженность нашей кошки, оставаясь самоотверженностью, в данном случае носила оттенок сильной кошачьей ревности и в то же время стремления картинно и укоряюще проявить свою беззаветную преданность.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































