Текст книги "Записки любителя городской природы"
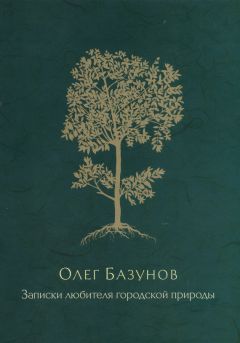
Автор книги: Олег Базунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Убежденный в самодостаточности «внутренней биографии», Базунов лишь вскользь касался конкретных побудительных реалий, находя им соответствующее «иероглифическое», образное выражение. «Коварному стечению внешних явлений» писатель противопоставлял принципиальную «верность вещам», после чего «образы отдельных предметов», исполненные символического смысла, утвердились в «Мореплавателе» как своего рода «вехи или кардинальные знаки».
И первый из таких знаков – стена. «С раннего детства, – откровенничает повествователь, – я люблю глухие незрячие стены, и люблю их какой-то особой, трудно выразимой любовью». Не суетные, «зрячие стены», испещренные светящимися окнами, а глухие, запущенные, темные, запечатлевающие «сквозь время секущий разрез множества жизней и судеб», и в частности перипетии «одной-единственной, отдельно взятой семьи». Как та заветная глухая стена, что отвесно обрывается в канал на задах «одного из славнейших сценических зданий», стена, вдоль которой проходила когда-то «основная артерия» всех родственных связей автора: «…целые облака и туманности разнообразнейших чувствований и переживаний, всех этих сложностей любовных, родственных и свойственных связей, противоречий, конфликтов, нашедших одна на другую страстей, а порой даже, что таить, и упорной вражды, всех этих сердечных страстных биений и спазм, радостей, горя – сосредоточились, скрылись, запечатлелись когда-то в этой дивной стене, вошли, так сказать, в ее плоть, в ее будто бы бесчувственный камень».
Глухая каменная стена с первых проблесков сознательной жизни повествователя вбирает в себя и хранит время, а порой из этой стены источаются туманности счастливого (да, счастливого!) детства, – только чем дальше, тем все реже производит стена «свою живую вибрацию», и ритмы ее постепенно затухают. Тем не менее туманности детства, пусть все слабее, наплывают и наплывают. Не случайно в Олеге, как заметила И. Рожанковская, до конца дней «подросток просвечивал через реальный возраст».
Однако глухая театральная стена «запечатлела в себе не только родственные аспекты туманностей, чьего-там детства», но и подарила повествователю фантастический сон, и в нем «под куполом неба под эгидой ветра с залива, под эгидой темного и студеного моря, но в пределах пространства, ограниченного театральными стенами, кто-то с замиранием сердца топтался на каких-то невообразимых ходулях», а снизу, «из-за каких-то там накрахмаленных столиков» на странного воздушного акробата взирали «маленькие такие и сокращенные в ракурсах люди». Театральные восторги разом поникли перед смертельным риском таинственного акробата под куполом неба. Вымышленное сценическое пространство разомкнулось, взору открылась истинная арена под эгидой ветра с залива, – и это торжество природной стихии тоже было порождением глухой, якобы незрячей стены.
Повествователь добавляет: стена в комментарии, помимо смысловой, выполняет еще и «существенную конструктивную функцию», словно передавая невидимую эстафету второму, особо интригующему автора предмету – зеркалу. Зеркало – а это и просто «идеальная блестящая поверхность»; и «блещущее зерцало вод», с опрокинутыми в него небесами, лесами, уступами гор и городскими ансамблями; и зеркало комнатное, домашнее, – всякое зеркало, как и стена, многое в себе таит. Однако повествователь относится к «хищным зеркалам» с пугающим недоверием. «Не знаю, как вы, – обращается он к читателю, – а я – не люблю отражаться…» Ведь там, на поверхности зеркала «все, и ваше лицо в том числе, катастрофически наоборот и навыворот! Там, в зеркале – ложь!». Как и в зеркале старинного шкафа, «лживом и зловещем», навсегда утаившем в своей «бесстрастно-холодной мнимой глуби» события, «когда-то так потрясавшие неокрепшую психику…». Таков уж закон зеркал: при кажущейся восприимчивости, они не только искажают внешнюю картину, но и не способны, в отличие от глухой стены, хоть на какой-то краткий миг пробудить драгоценное душевное состояние, испытанное в раннем детстве.
Память о детстве на всем протяжении «Мореплавателя» остается и главным стимулом, и решающим побудительным мотивом, – память душевных состояний, кардиограмма сердечных переживаний, а не породившие их факты сами по себе. Авторский поиск направлен не от описания какого-то факта или сцены к фиксации вызванного им переживания, а напротив – от памятного переживания к упоминанию (всего лишь упоминанию) реалий, отраженных когда-то в зеркале домашнего шкафа. Используя зеркала как «инструменты памяти», повествователь ведет читателя к своей заветной цели кружным путем и, всяко перед читателем извиняясь, все же вникания в суть ему не облегчает и ответа на свои коренные вопросы сразу не дает.
Граница между миром видимым и тем миром, что прячется за океанским горизонтом реальности, в «Мореплавателе» мало-помалу стирается, готовая вовсе исчезнуть. Мир видимый перетекает в духовную, невидимую сферу с ее жесткими законами, эта сфера безгранична, бездонна, иррациональна, она учит человека внимать веяниям вечности и не помышлять о «конечном знании», в этой сфере властвует вера, – а вера, как однажды было сказано, – это «невидимое знание», постигаемое интуитивно, сердцем, но не разумом. Вера – это невидимая миру любовь.
Возвращаясь непосредственно к сюжету рассказа, повествователь обращается уже не к тем набросанным пяти-шести страницам, а к существующей лишь в его воображении части рассказа, к последним эпизодам и предлагает на выбор разные варианты финала.
Согласно первому из них, мальчик, приехавший на южное побережье из дальнего северного города и поначалу не умевший плавать, накануне отъезда без свидетелей бросался в неспокойное море, чтобы «лишний раз утвердить свою волю, так сказать, с глазу на глаз с самим собою». Когда же он, «до крайности изнуренный», истасканный волнами по камням, ступал на пустынный берег, оказывалось, что с берега за ним все это время «хладно или не хладно, но без какой-либо попытки зова на помощь» наблюдала его подружка. И вот здесь, по мысли автора, и должен был произойти заключительный их разговор, в котором «одна сторона высказывала тут же созревшее предложение о навеки нерасторжимом союзе», а другая, возмущенная, «решительно изрекала отказ», что приводило к самолюбивым горьким слезам героини, правда, и у героя появлялись «слезы любви и прощения». В этом варианте нетрудно было угадать благополучное разрешение наметившегося конфликта.
В другом варианте героиня точно так же убегала в слезах, а герой, «до глубины души потрясенный необъяснимым по его представлению поступком ее, говоря строго, даже предательством», не отвергал предложение о вечном союзе, хотя оставался в непосредственной близости от грохочущего гневного моря, «внешне до крайности жалкий», но «внутренне непоколебимый, ожесточенный нанесенной ему непостижимой обидой».
Был еще и третий воображаемый вариант финала, где автор вознамерился поднять того мальчика до высот мифологического героя. Реальность органично уступала «символу, понятому как реальность» (Вяч. Иванов). «Не здесь и не нам с вами прослеживать, какими путями – по данному, одному из последних вариантов конца – юный герой наш, минуя заключенные между древних земель и достаточно тесные проливы, моря и каналы, оказывается в конце концов посреди одного из мировых океанов», – уверенно заявляет автор, сосредоточивая все свои усилия на духовном преображении своего героя.
Какие «непреоборимо влекущие цели» толкнули неискушенного мальчика решиться на подобный отчаянный шаг? Сам ли он того желал, или его насильно смыла в море роковая волна? Как умудрился он почувствовать себя свободно в океанской стихии? А может, он «даже открыл некую прелесть в своем одиночестве»? Автор не в состоянии помочь своему герою и лишь благословляет его: «Нет, раз уж плывет, пусть плывет, пусть плывет за великим смирением… можно было бы крикнуть вдогонку два-три ласковых, ободряющих слова, но стоит ли посреди океана. нарушать суровое и в чем-то – не спорьте только со мною – возвышенное его одиночество…»
Первый и второй варианты финала оставались в рамках житейской мелодрамы, развязка в обоих случаях выглядела едва ли не банальной, а потому и не устраивала автора, обеспокоенного «тайновидением мира». Базунову его герой представлялся микрочастицей природной стихии, «атомом вселенского целого» (Вяч. Иванов) и только в таком качестве отвечал авторскому замыслу, намерению «утвердить, познать, выявить в действительности иную более действительную действительность», – как того требовал в начале ХХ века Вячеслав Иванов, чьи статьи-манифесты Базунов со вниманием читал.
Мысль о великом смирении – сквозная в «Мореплавателе». И неспроста полемически появлялся в базуновском повествовании обуреваемый гордыней и снедаемый ненавистью мелвилловский капитан Ахав – не размышляющий, а только чувствующий, – для которого мысль о великом смирении неведома и недопустима. У мальчика-пловца, теряющегося в океанском просторе, у базуновского «внутреннего человека» принципиально иной вектор судьбы. Он наделен бесценным даром смиренности, – и дар этот «в конце концов целительно сглаживает те разрушительные и противоречивые волны, что толкутся порой в наших сердцах».
Ближе к финалу, объясняя, к чему так или иначе «в благих и разумных пределах направлен пафос моих комментариев», признаваясь в очередной раз, как влечет его мысль о море, автор-комментатор задумывается: а можно ли взглянуть «на все затронутые вопросы» – глазами воды? Проникнуть в тайну воды? И «хотя бы на время самому стать водою»? Вода – первозданная стихия, она слепа, но в своей склонности к течению (движению) порой бывает несравненно мудрее «огражденного догмой сознания». Вода «в состоянии волны» олицетворяет бег людских переживаний и волн житейских. Спор человека с водой разрешается к общему благу, если только человек, «зарвавшись в гордыне», не поведет себя «слишком уж дерзко и самонадеянно». Комментатор и своим маленьким героем-пловцом восхищается потому, что тот в безбрежном океане не падает духом и не теряет и своего достоинства, и уважения к породившей его стихии. Иначе говоря – не теряет веры и надежды.
«О, дорогой мой, милый читатель, – обращается к читателю-другу автор на заключительных страницах „Мореплавателя“, – как велико бывает порой в повседневной нашей и слишком неестественной или слишком-то уж естественной жизни значение самого скромного, самого робкого лучика, вдруг пришедшего откуда-то там, из каких-то бездонных глубин, вдруг уколовшего наше сознание и что-то в нем осветившего!» Этот крохотный лучик, дрожащий, мерцающий, продрогший на холоде, «проникает куда-то там, что-то там колет, что-то там вдруг освещает, и вы, естественно, куда-то стремившийся или тем более никуда не стремившийся, вдруг останавливаетесь как вкопанный и долго стоите так, чутко прислушиваясь к происходящему…».
В «Мореплавателе» до самого финала нет сюжетной четкости. Последняя фраза – «на этом рукопись обрывается» – свидетельствует, что автор и здесь остается в плену незавершенности, будучи уверен, что завершенных сюжетов не бывает и быть не может. Чем дальше робкий светлый лучик надежды уводит базуновского «внутреннего человека», тем явственнее становится бесконечность открывающегося перед ним пути.
Тополь за окном
Расставшись с «Мореплавателем» в 1971 году, Базунов обратился к «Запискам любителя городской природы», к «Тополю», – и эта работа продолжалась без малого десять лет.
«Записки любителя..…» Сегодня можно услышать в этом словосочетании что-то снисходительное, слово «любитель» давно воспринимается как «дилетант», антипод «профессионала», у
Даля же при единственном значении («любитель» – «охотник до чего, любящий что») рядом стоит «любознание» – «любовь к познаниям, желание поучаться», «любозритель» – «занятый созерцанием чего» и «любомудрие» – «наука о невещественных причинах и действиях; наука достижения премудрости, т. е. понимание назначения человека и долга его, слияния истины с любовью». Базуновский любитель сочетает в себе все эти оттенки: и желание поучаться, и созерцательность, и – главное! – слияние истины с любовью. В «Тополе» повествователь впитал в себя наблюдательность невымышленного рассказчика из «Триптиха», его ощущение исконного родства со всякой «живой сутью», из «Мореплавателя» воспринял «возведенность тайны в тайну», память душевных состояний, связанных с детством, мысль о «великом смирении». Исповедальность базуновского «внутреннего человека» достигла в «Тополе», кажется, максимальной искренности.
«Тополь» по своей структуре (в нем три главы) – тоже своеобразный триптих. Первая глава – «Дом, комната, окно» – посвящена отчему дому на канале, с его неповторимым лицом и «не похожей ни на чью другую душой»: дом прислушивается к чему-то посреди городской суеты, сутолоки и шума либо грезит о чем-то, поверх соседних крыш и «ветвей древесных» вглядывается вдаль, «будто ему одному что-то там открывается вдали, за далью ли, в прошлом ли, в будущем ли». Вторая глава – о тополе за окном, о дереве, поражавшем автора с самого раннего детства (и о древе жизни тоже). Венчает «Тополь» третья глава – «Ветер, наводнение…». Она как бы дорисовывает предложенную автором проекцию – от детства в родном доме до зрелых лет, до осени человечьего века. В предзимнем увядании природы, таящем в себе каждый год новое возрождение, базуновский повествователь силится нащупать пути к душевной гармонии.
Пульсирующему тексту «Тополя» придает художественную цельность органическое слияние трех реальностей – предметной, интеллектуальной и эмоциональной. Смыкаясь воедино, они создают такую изобразительную фактуру, когда и бытовой фон, и биографические подробности, и философские умозаключения подчинены всеохватывающей лирической стихии. Сила лирического самовыражения у Базунова стимулирует поэтическую энергию, в своем истоке сопредельную с той, что вообще свойственна природным процессам.
Итак, дом. Отчий дом на канале. Он стоит, «утвердившись фундаментом своим в сыром, диком болоте, упершись старыми глухими боками в глухие бока сородичей и соседей», он – полноправная частица города, такая же, добавим, как и в нескольких кварталах от него памятник легендарному императору, подъявшему город «из тьмы лесов, из топи блат». При таком соседстве и лицо дома порой кажется его обитателям «величественным, возносящимся ввысь, глядящим на тебя снисходительно или даже сурово, даже с презрением некоторым». Но в какой-то счастливый день дом предстает совсем иным, смотрит на своего жителя сочувственно, с пониманием его невзгод и горестей, открывая ему свое «добродушное до неузнаваемости лицо, даже подслеповатое и растерянное… даже робкое, даже грустное в своей робости лицо». Эти два выражения лица, два состояния, горделиво-назидательное и печально-сочувственное, эти две доминантные эмоциональные ноты определяют общую психологическую ситуацию на всем протяжении «Тополя».
Дом на канале, вполне конкретный, описанный в мельчайших подробностях, – конечно же, еще и одушевленный символ города. Недаром ностальгическая картина «долгожданного и страшного» капитального ремонта, предваряющая повествование, подается как метафора времени и попытка «проникновения в сложнейшие оттенки человеческого бытия». Дом думает думу о безжалостно сокрушенных мраморных подоконных досках («За что почто их-то болезных…»), о копившейся из десятилетия в десятилетие усталости в старых балках и перекрытиях, о стенах, «главном средоточии совести и памяти», единственно сохранившихся его устоях. Дому снятся странные сны, одолевают кошмары, «какие-то навязчивые мысли, порой сожаления и даже как будто раскаяния» не дают ему покоя. Но, спрашивает повествователь: «Может быть, все это вполне естественно и законно? И, может быть, даже было бы плохо, если бы так не было?» Жизнь нынешних обитателей дома заслуживает неменьшего внимания, чем исчезнувшее прошлое. Дом наблюдает за новыми людьми, расселенными в его «ячейках», и не скупится на врачующие усилия: «Да, настоящий, прочный, душевный дом добр и любвеобилен, он любит людей, живущих в нем, и, бдя денно и нощно, помогает им и пестует их…»
Дом по-родственному предан своим обитателям и призван пробуждать в них столь же чуткое ответное чувство, связывая их «невидимой благой нитью душевного тепла». Д. С. Лихачев неспроста сказал про Базунова: «Лучше всего читать его, когда рядом сидит кошка или когда собака положила вам свою голову на колени и смотрит преданно. Преданность – вот то чувство, которое возникает в читателе по отношению к окружающему миру и которое, кажется, разлито вокруг вас и обращено к вам». Когда автор вслед за домом описывает свою комнату, это чувство, пожалуй, еще более возрастает. И сама комната, и вещи домашнего обихода, самые невзрачные в ней предметы неуловимо (под пером писателя!) источают эту преданность, словно подтверждая органическую слитность их совместного существования.
Потому-то и предметная реальность в «Тополе» так выразительна и сродненность повествователя с узкой, вытянутой, похожей на пенал комнатой так наглядна. Повествователь душевно спаян со своим «несуразным» жилищем настолько, что, даже если его тут замуруют, он не очень-то будет горевать. «Более того, страшно вымолвить даже, – признается он, – я был бы, кажется, по временам даже рад своему заточению…» Он, похоже, шутит, однако мысль эта («живешь словно замурованный») нет-нет да и мелькает в «Записках», правда, уже в ином контексте.
В самом деле, о каком добровольном заточении позволительно фантазировать, если в комнате есть окно – образ для Базунова знаковый. «Все в моем жилище подчинено окну, – спешит предупредить читателя повествователь, – все тянется, тяготеет, стремится к нему… все любит его и восхищается им, все, не колеблясь, признает его своим средоточием…» Повествователь извиняется за, может быть, нелепую привычку: он до страсти любит смотреть в окно своей комнаты, предаваясь самым невероятным мечтаниям. Он так сроднился с пейзажем за окном, так привык к его нескончаемым метаморфозам, к калейдоскопу, – в котором «и листья, и строения, и голые ветви, и снега, и дожди, и облака» пульсируют в некоем ритме и сливаются в единый поток, «сам по себе, без чьего бы то ни было наущения играющий и поющий». Повествователь чувствует в такие моменты, что и в нем «есть чему пульсировать, возникать и вновь пропадать», его душевные порывы подвластны тому же стихийному потоку.
Не в этом ли очевидный смысл «общего феномена окна»? Ведь живи повествователь где-нибудь в светлой мансарде под крышей или, напротив, в каком-нибудь подвале с окошком на уровне мостовой – эффект окна будет одинаков: самое маленькое окно зовет человека воссоединиться с внешним миром. Распахни окно – и комната твоя уже не «ячейка» городского дома, а грот, бухта или залив «мирового воздушного океана». Вместе с тем эффект окна неоднозначен. Распахнутое настежь окно манит безбрежными пространствами, а базуновский повествователь, вопреки собственным восторгам, вдруг заявляет: «Я почему-то отдаю предпочтение не распахнутому настежь окну, а окну, закрытому наглухо».
Откуда такое противоречие?
Повествователь вспоминает детское состояние, когда его, закутанного, везли куда-то сквозь враждебную и холодную непогодь, сравнивает это состояние «укутанносги» с тем, какое испытываешь, глядя в теплой комнате на свирепствующую за окном стужу, – и чувство защищенности от «вовне существующего холода» пересиливает в нем романтические порывы, вызываемые распахнутым окном. «Или, может быть, это, помимо воспоминаний, – повествователь хочет доискаться причин своей непоследовательности, – присущее тебе, как и всякому существу, желание быть на грани, ощущать в единый момент противоположные и исключающие друг друга состояния?» Тревожное ощущение грани хорошо знакомо базуновскому «внутреннему человеку». Противодействие внешнего холода и того тепла, какое он старается в себе сберечь вопреки любым обстоятельствам, определяет и его душевное самочувствие, и его поведение.
Противостояние тепла и холода, света и мрака, добра и зла наглядно отражается в борьбе света и тени. Тень в комнате вездесуща: она ютится за каждой вещью, за каждым предметом, и стоит свету чуть ослабнуть, тень, «как во все времена», тут же совершает свои коварные набеги. Тень многолика и агрессивна. А свет? Что есть белый свет? Как описать «этот каждодневный, верный, постоянный, незаменимый, любимый и желанный – и незаметный, как сам живительный воздух, которым дышишь, – ток света»? Свет, проникающий в комнату из окна, победительно животворен, он дарует жизнь: «Вот уж поистине кто знает, что такое окно, и должным образом ценит его, так это лист комнатного растения. Вот уж он знает, где в комнате источник света и жизни…» Зеленый лист, пронзенный солнечными лучами, подталкивает повествователя отвлечься от описания столь дорогой ему комнаты и погрузиться взглядом в городскую природу.
Повествователь так и поступает, во второй главе «Тополя» он меняет направление своего взгляда – и читателю открывается «один-единственный вид»: он дробится на бесчисленное множество «сочетаний, соотношений, коллизий», предстает в самых неожиданных ракурсах. Динамичная смена ракурсов, игра пространственных планов увлекает читателя, по-своему заменяя ему отсутствующий событийный сюжет. Организующую, текстообразующую роль выполняет в «Записках» интеллектуальная реальность – те стратегические нравственные идеи (в их поэтическом воплощении), вокруг которых и формируется повествование.
Уже говорилось, что книги Базунова не имеют привычных жанровых соответствий. Кто-то воспринимает «Записки» как поэму в прозе, для кого-то они ближе всего к трактату, у Бориса Сергуненкова они вызывают в памяти «плетение словес» древнерусских писателей. Т. Ю. Хмельницкой «Триптих» представлялся «юродиво-косноязычной, на грани пародии, но существенно-просветленной повестью». А Ирина Рожанковская, вспоминая, как Олег познакомил ее с книгой Игоря Глебова о музыке, признавалась: «Вчитавшись в нее, я в какой-то момент, как любил говорить Олег в таких случаях, „всплеснула руками“, – рассуждения музыковеда о симфонизме как о целом, данном в движении творческом бытии, или о принципиально неисчерпаемой фуге, или его концепция формы как рожденного в творчестве организма оказались идеальным комментарием и ключом к прозе Олега…»
В конце концов, дело не в жанровых соответствиях, а в том, что Андрей Битов как-то назвал состоянием и дыханием прозы. Товарищи Базунова по литобъединению ценили естественность творческого волеизъявления превыше всего.
Виктор Голявкин по поводу «Тополя» подметил: «Повествование выдержано в форме прерывающегося монолога. Но это не сбивчивый, спотыкающийся, уже известный литературе поток сознания. Это другое, странное и интересное явление. Изливающаяся водопадом слов душа лирического героя; ливни слов, не имеющие целью обрисовать некую объективную реальность, выдать некий образ, зарисовку, впечатляющую картину, но как бы изливающие саму душу, ее настроения, состояние…»
А Валерий Попов писал, что в «Мореплавателе» (и в «Тополе», добавим, тоже) Базунов «пускается в почти безудержное, свободное плавание по морю своих мыслей, ассоциаций, видений. Одна чрезвычайно тонкая и точная, характерно базуновская мысль поясняет и стиль этого произведения, стиль свободного развития ассоциаций: иногда, чтобы поймать что-то чрезвычайно важное, но ускользающее, „не нужно сосредотачиваться, а, наоборот, нужно забыться и рассредоточиться“. Поэтому неправомерным был бы упрек автору в многословии: автор показывает не саму мысль, а тернистые, часто тупиковые пути поиска, поэтому оставлять лишь результат – значит разрушать жанр».
Обратимся же ко второй главе. В начале ее, прежде чем прибегнуть к виду из окна, повествователь рисует городскую панораму с высоты девятого этажа: «До самого горизонта море крыш и торчащих среди них древесных вершин. Красные, бурые, ржавые, зеленые крыши и блещущие купола, и барабаны, и шпили, и башни, и трубы, и флагштоки. Какой простор! Сколько воздуха! Сколько света! И как близко небо…» В этой панораме, в этом «каменно-лиственном месиве» – как и в просторе морском – видится нечто вечное, зовущее ввысь, в мир горний, нечто смущающее душу своей грандиозностью. Город, подобно морю, внушает повествователю священный трепет, – а он, «слабый и грешный», не в силах отрешиться без остатка от мелочной суеты и слиться с великим и вечным: такое по силам лишь святым пустынникам с чистой, незамутненной душой, он же, повествователь, готов к этому только стремиться. Из его комнаты, с третьего этажа, открывается не море крыш, «но вполне конкретный и ограниченный вид» – территория, обжитая им с детства.
Отныне прерывистую нить повествования и будет удерживать этот вид: строения Новой Голландии, откос на противоположном берегу канала и деревья, «всюду, куда ни взглянешь – деревья…». Вид живого дерева за окном и образ дерева, «единая, живая, воплощенная идея его» на старинной гравюре – в детстве ее так упоительно было рассматривать на стене, – олицетворяли собой тот окружающий мир, который вбирал в себя и предметную реальность дома и комнаты, и распахнутое окно, и небо, и деревья на откосе. Символом этого многоликого мира (с его единством всего Сущего) и было дерево в древнем, библейском ореоле: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла…»
Приведя эти слова, повествователь наконец обращается к милому его сердцу откосу, на первый взгляд «вполне вроде бы затрапезному участку» с разномастной зеленой порослью, затаившемуся в двух шагах от «каменного засилья и тяжкой, безостановочной спешки-движения». Такие крошечные зеленые островки, случайно сохранившиеся в пику чьим-то скоропалительным планам «ничейные полоски земли», образуют в огромном городе причудливый естественный ландшафт и, будучи неотторжимыми частичками города, живут по тем же законам, что и гигантские где-то леса, и вся остальная природа.
Из окна в солнечный день откос, «ясный, прозрачный, как стеклышко», может показаться «счастливым леском-перелеском». Если же повнимательней приглядеться и поразмыслить, картина обнаружится вовсе не безмятежная. У поросли на откосе хватает конфликтов, там свои страсти, достаточно представить, как дерзко ведет себя «рвущаяся к воде коловерть веток и веточек». Повествователь осведомлен: «Все вроде бы так! – соглашается он с неким „мрачным свидетелем“, не скрывая, какое восхищение вызывает у него „вся эта все преодолевающая воля“. – Да в то же время…» А что, если деревья на откосе не только соперничают в борьбе за выживание, но и поддерживают друг друга, «излучая что-либо, как-либо подавая благие сигналы, подымаясь единым станом и стоя порой все за всех»?
Так в «Записках» крепнет мотив надежды, а в поле зрения повествователя надолго попадают тополя за окном. Не будь в городе тополя, не расти он на каждом шагу, город «приобрел бы иную стать, совсем иное лицо, да и не только лицо, но и душу», – считает нужным загодя предупредить повествователь, убежденный, что тому есть «какие-то глубоко скрытые и таинственные причины, тяготения и даже неосознанные, возможно, симпатии». Повествователь с детства ощущал такое тяготение, свою духовную причастность к влекущей тайне и тополя, и города и теперь надеется в своих многолетних ощущениях разобраться.
Он вспоминает «буквально культ веток, листьев, цветов, заведенный в доме с легкой руки матушки», власть, какую приобретали над ним приносимые матушкой ранней весной тополиные ветки, красовавшиеся потом в китайской вазе, вспоминает счастье лицезреть хотя бы одну-единственную ветку, а если повезет, наблюдать, как она распускается. «Загляни-ка попробуй в тополиную ветку!.. Ведь и за тополиной веткой нужно кое-что различать!» – зовет читателя-друга повествователь, силясь и сам в тысячный уже раз проникнуть душой «за разрозненный внешний край жизни». К тому же стремился, как помним, и невымышленный рассказчик в «Триптихе», постигая «куриную суть».
Для базуновского «внутреннего человека» мир природы един и суверенен в каждом своем индивидуальном проявлении. Повествователь категорически не согласен с бытующим выражением «похож как две капли воды». Он не сомневается, что «нет в природе и двух капель воды, абсолютно подобных друг другу», и двух листьев с одной и той же ветки, и двух близко растущих деревьев, и двух даже родственных человеческих лиц.
Вот и три «взрослых, давно уже сложившихся» тополя за окном имеют «разительно несхожие натуры». Один (если смотреть из окна, правый в ряду), «полный биологической спеси» красавец, с кроной «как пламя горящего факела», имел, что не сразу выяснилось, «скрытое для глаз раздвоение», два ствола при явном подчинении одного другому, и демонстрировал, несмотря на это, завидную цельность. Средний тополь – достойный сострадания «несчастный заморыш», с редкими ветвями, хилый, но исключительно стойкий «назло всем-то бедам» и, кто знает, какие благотворные «токи-лучи» источавший. Наконец, третий, «обыкновенный, будничный», с вялостью форм, «леностью и задумчивостью позы», «с неким отсутствием выражения» – родимый и единственный в своем роде трехствольный тополь… Корни его упрятаны глубоко в земле, крона поднимается над крышами зданий, «коренной, наклонившийся несколько ствол на высоте двух с половиной саженей над землею расходится тремя стволами-поствольями». А между постволий возникает «то особое, присущее этому дереву внутреннее пространство, то особое свойство его древесной души», которое так влечет к себе повествователя: «Знаете, как бывает, когда рассуждающая о чем-то рука чуть приподнята над головой и три главных пальца, устремленные вверх, пытаются выразить жестом что-то неопределенное, неуловимое?»
И приносимые матушкой свежие тополиные ветки, подававшие «благие сигналы», и благотворные «токи-лучи», источаемые тополем-заморышем, и возникающее между постволий пространство, внутренний мир дерева, околдовавший повествователя, – все это звенья одной, и видимой и скрытой от глаз, цепи, бесконечной и символической. «Древесная душа» (как в «Триптихе» «курья суть») посылает человеку свои врачующие сигналы, а он силится их воспринять, услышать в них нечто молитвенное и с благодарностью на эти сигналы отозваться.
Повествователь обращается к тополям на откосе не ради их картинного описания (богато оранжированного его воображением), – он прежде всего старается с предельной искренностью воспроизвести свою реакцию на то «неопределенное» и «неуловимое», что дарует ему любимый тополь. Задача неимоверно сложная: найти путь к художественной ясности, не впадая ни в картинность, ни в резонерство. Базунова неслучайно мучает вопрос: «Как выразить в словах это распространяющееся сквозь пространство состояние задумчивости и тишины, это отсутствие и присутствие в то же самое время, это излучающееся умиротворение, эту непринужденность, простоту и естественную многозначительность?» Справиться с этой задачей помогает отмеченное когда-то Глебом Горышиным «поистине юношеское воодушевление автора» в сочетании с «обостренным художественным тактом». А еще – разнообразие интонаций, от мажорной до иронической, соответствующая им стилистическая инструментовка и, конечно, внутренне напряженная, приподнято-разговорная манера речи, определяющая общий ритмический рисунок «с замедленным пульсом, но с большой его наполненностью» (Д. С. Лихачев). Словом, все то, чем так богата эмоциональная реальность базуновской прозы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































