Читать книгу "Либгерик"
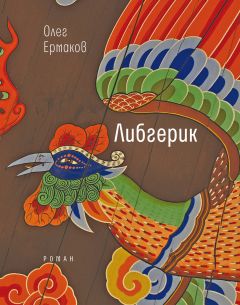
Автор книги: Олег Ермаков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Часть вторая
13
Что ж, и я рассказала этим странноватым русским, бывшим моим соотечественникам, – но что-то мне говорит… говорит… да, они никакие не бывшие… Ну ладно, мы осмотрели океанариум, и этот… саджан-ним[1]1
Почтенный хозяин, глава фирмы (корейск.). Почтенный хозяин, глава фирмы (корейск.).
[Закрыть]. Да? Что-то они объясняли, какая-то торговля в Ленинграде, то есть… Шубы и перчатки. Хотя он выглядит простоватым, даже слишком. Может, я что-то не так поняла? А она, конечно, сонсэн-ним[2]2
Дословно «учитель» (корейск.), так в Корее обращаются к преподавателям учебных заведений.
[Закрыть], без дураков, как говорится. Удивительный цвет волос, хотя ясно, что красится. Но, судя по веснушкам, это и есть ее природный цвет. Когда-то им был.
Так вот. Угумм… Океанариум, океанариум… Там саджан-ним сказал, что ему не хватает одного… одного… мм… персонажа, а именно… именно – кита. Или Кита. Да, он так и сказал. И хотя потом выяснилось, что он имел в виду книгу американского писателя, я сразу подумала… подумала о Сереже. Почему ему дали такую кличку? Он не был толст, но как-то грузен, тяжел… А, да, Полина сказала, в чем дело, мол, среди всех мальчишек и девочек, купавшихся на ольхонском пляже… то есть на Сарайском пляже[3]3
Пляж на острове Ольхон на Байкале.
[Закрыть] он один плавал брассом… нет, точнее баттерфляем… выскакивал так из воды по пояс и разбрасывал руки. Кто-то его научил. Ну и пыхтел, шумел, как кит. Вот и прозвали.
Сережа, Сережа, Кит сероглазый…
Нет, китов в океанариуме не было, ни белых, ни синих.
И этот саджан-ним так посмотрел на сонсэн-ним и спросил, помнит ли она какой-то случай с горой и рацией? Когда они связались с геологами или моряками Охотского моря, и у них позывной был «Кит»? Я не успела поинтересоваться, на какой горе они были, а потом забыла. Слишком много у них было впечатлений от океанариума, а после от смотровой площадки, вечернего вида реки, мостов, сияющих небоскребов.
И вот на верхотуре, в кафе они снова начали расспрашивать про японцев. И я им рассказала.
У меня не было причин относиться к ним как-то по-особенному. Ведь мои родители эвенки, или тунгусы. Байкал не был под японцами. Они туда никогда не заходили. Только туристы на Ольхоне. И мне нравятся их поэты Басё, Сайгё, еще больше по душе Тенсё Сюбун[4]4
Дзенский монах, японский художник XV века.
[Закрыть]. Его работы называли пейзажами сновидений за неуловимую странность пространства. Но эту некую особенность он скорее всего похитил… ну хорошо, позаимствовал у Ан Гёна. Жили они в одно время. Дзенский монах родился в начале второго десятилетия пятнадцатого века, умер уже во второй половине века? Да, так, так. И бывал с дипломатической миссией в Корее, а потом отвечал за доставку печатных изданий буддийских сутр отсюда. А как раз в это время и жил мой Ан Гён…
Это, конечно, странно, среди корейских живописцев много ярких имен, Син Юнбок с его кисэн[5]5
Корейские певички, артистки, куртизанки.
[Закрыть], праздными сеульцами, – когда-то его выгоняли из Академии за легкомыслие и эротику, а пару сотен лет спустя включили в список национальных сокровищ; Чон Сон, – чего стоит его дерзновенная кисть, написавшая Алмазные горы, – это скорее резец, а не кисть, об эти горы можно порезаться взглядом, а «Ущелье тысяч водопадов» гудит и поет на разные лады, и сколько тоски, но и радости в страннике, едущем верхом на осле в дождь под плакучей ивой, или совершенно очаровательная гора в «Каменистом плато», она весома и невесома одновременно, дышит и как будто глядит на нас сквозь триста лет; Ким Мёнгук с неповторимым «Бодхидхармой» или «Бессмертным с летучей мышью»; а Ли Джон? – ах, бамбуковый Джон, – кто еще так живо и трепетно мог написать бамбук, непокорный, свистящий на ветру бамбук; «Тигр» Сим Саджона, – если бы его увидел Уильям Блейк, этого ступающего к зрителю изогнутого тигра с пронзительными глазами и наэлектризованной шерстью, он бы несомненно взял его иллюстрацией к своему знаменитому стихотворению; и его же «Бессмертный с жабой», сам чем-то похожий на священную трехлапую жабу; и леса, корявые и туманные, древние, Ли Инмуна; а еще крепкий, мужицкий, ясный Ким Хондо с «Бессмертным, играющим на флейте» так, что позади остановился зачарованный олень, и с «Бессмертными гениями», «Скалами в море», которым бы позавидовал Моне; а Матисс кусал бы локти, увидев его «Танец» – там вихрится воздух от кружения танцора, от его развевающейся одежды; и воздух поет и шелестит, встревоженный крыльями «Диких гусей в лунную ночь» Ли Доёна, – этот речной шум вселяет трепет в сердце, свежестью так и веет от чудесной картины… И много еще мастеров с их незабвенными работами. Да и не только корейских мастеров, так ведь? О, конечно. Рядом всегда была и есть Поднебесная, как гигантская вселенская гора, испещренная светляками, россыпями сотен имен, начиная с Гу Кайчжи, жившего аж в четвертом веке и уже тогда писавшего, кроме пятиметровых горизонтальных свитков, трактаты о живописи, и заканчивая последним из могикан – Чжань Дацянем, познакомившимся с Пабло Пикассо в свое время и даже переигравшим его на аукционах уже после смерти обоих, – его картины теперь стоят миллионы… Но я не в восторге от них. По-моему, ци ушла из его картин… Как когда-то она ушла и из моих, стесняться любых сопоставлений с самой собой нечего… Ха-ха, забавно вышло.
Чжань Дацяня оставила пустота, ее уже нет в этих миллионодолларовых картинах. И она оставила всех живописцев и Поднебесной и Кореи. Даже если в работе современного художника есть пустота – это не пустота, а наполненность тщанием писать пустоту, гордостью, жадностью…
А мою ци унес Клыкастый Олень…
Почему мне там, на сороковом этаже небоскреба, в кафе, захотелось вдруг поведать этим двум русским обо всем? Странное и нелепое желание. Ведь это звучит до безумия наивно и сентиментально.
Мою ци унес Клыкастый Олень. Он это называл по-другому: мусун.
Уж нет, я никогда и никому не поведаю об этом. Даже дочери. К чему? У нее и свои скелеты, как говорится, будут в шкафу. А может, уже и есть. К живущим здесь всегда цепляются, как репейники, скелеты. Это непреложный закон жизни.
Хм, здесь… Как будто может быть и где-то не здесь. Это все отзвуки увлечения наивным Юн Дончжу. Как это у него? «А чем питаются люди / Звездной страны?» Этот мальчик любил звезды.
За что же мне так полюбился художник Ан Гён? Русские не спросили об этом. И я не успела объяснить. Наверное, это был приступ ностальгии. Как по табаку у Клыкастого Оленя, он бросил курить, испытывал ломки всякие, не спал – и вдруг увидел как-то у меня фоторепродукцию автопортрета художника с перевязанным ухом, в зимней шапке и с трубкой во рту, из которой так чудесно поднимался дымок… Это был Ван Гог. Спросил: о-ё, кто этот мужик? Рыбачок? Узнав его имя, стал называть Ваном. И полюбил его. Как будто Ван Гог дал ему закурить. Ван Гог и стал самым великим для него художником только по этой причине. Ну, не только, конечно.
А мне… А я просто увидела «Весенний сон» Ан Гёна, или, как еще называют этот горизонтальный свиток, «Путешествие-сон к берегу Цветов персика». Ну не сам свиток, нет, в том-то и дело, а фоторепродукцию сначала, а потом и копию одного корейского художника, жившего в Москве. Эту вещь Ан Гён написал по просьбе третьего сына великого ванна Седжона. Принцу приснился сон о небывалом персиковом саде в горах… И в три дня Ан Гён написал свиток.
Ан Гён, о нем мало что известно. Родился в деревне близ города Сосан на берегу Желтого, или, как у нас говорят, Западного моря. И попал в Сеул, в придворную академию. Были у него псевдонимы Хён Дон Джа и Чу Гён. Пейзажей Ан Гёна, кроме «Весеннего сна», сохранилось только два, это «Любование луной на реке» и «Белое облако над зеленой горой». Да! Еще в музее Пхеньяна есть его свиток «Бамбук в вазе». А также найден фрагмент картины «Рыбак». И все.
Московский кореец, тот, что написал копию «Весеннего сна», Женя Хан утверждал, что Ан Гён был очень увлечен китайской живописью и художником Го Си, чьи работы он копировал, изучал. Потом мне досталась книжка у букиниста на Арбате, называется «Искусство Кореи», монография искусствоведа Ольги Глухаревой из музея стран Востока, и там я нашла подтверждение этим словам Женечки.
Го Си? О да, Го Си, живописец одиннадцатого века, мудрец, теоретик, написавший трактат о живописи, – не трактат, а поэму! О! О да, да… Это ведь как матрешки или клубок, тронь – и пойдет разматываться нить, поведет, будто в сказке. Русских я, конечно, не стала утомлять этими всеми подробностями. Но Го Си – это Го Си, и я его до сих пор люблю, как и Ан Гёна. И мне по-прежнему хочется отправиться по тропе, что начинается с правого нижнего края его вертикального свитка «Возвышенный отшельник в горном ущелье» – проходит по ущелью с рекой, деревьями, деревней, пагодой, храмом – и пропадает в великой пустоте за горами, окутанными дымкой… Попасть во власть этого ритма светлых и темных пятен туши, движения по спирали – в самую глубь этой грандиозной архитектуры из камня и воздуха, которая колеблется поначалу, пугает, ведь как плотно заставлена правая часть свитка деревьями, водами, беседкой, склонами, – но потом ясно, что гора, нависающая слева, все уравновешивает, а разрешение этому напряжению линий дает одинокая гора, истаивающая в пустоте… О, в этом и есть суть, вот она ци Го Си – собрать эти камни-деревья в кулак и плавно, мягко, по-кошачьи пустить в бесконечную даль. Тяжесть и легкость в одно мгновение. О, как же это можно объяснить? Меня и сейчас это волнует. Хотя… хотя все уже ведь кончено. Моя кисть окаменела.
Да, это так.
И виной всему – Клыкастый Олень.
Мне, конечно, хотелось увидеть оригинал «Путешествия-сна». Эта картина неизъяснимо таинственна, она – словно продолжение «Возвышенного отшельника» Го Си, будто вот за той горой, что истаивает в пустоте на горизонте в конце ущелья путникам и открылся другой пейзаж, горизонтальный.
Да, вертикальный свиток Го Си – как вход в волшебную страну Ан Гёна. Как та щель в скале, сквозь которую один рыбак в стародавние времена и попал в страну Персикового источника.
И по ту сторону он узрел все в новом свете… Как это у Тао Юаньмина, китайского поэта пятого века, описавшего это все?.. О, даже сейчас я помню: «…и взору его открылись яркие просторы». Да, да, ведь пейзаж Ан Гёна разматывался, как клубок, вел за собой, вот и к этой поэме «Персиковый источник». Русские, конечно, не знали этой поэмы. Хотя небритый мужчина и разволновался, услышав фразу «по ту сторону». Он буквально вперил в меня свои серые глаза, чем-то напоминавшие мне глаза Сережи, Кита… Но он нисколько не Кит, нет. На кого же похож? В нем что-то тюленье, что ли… Ха. И в то же время обезьянье и немножечко медвежье. Такое существо с круглой непричесанной головой.
Я им посоветовала почитать все же «Персиковый источник». И даже пообещала найти русский перевод, где-то у меня была тоненькая книжечка.
Итак, рыбак видел страну по ту сторону горы.
Это была равнина с высокими домами, полями, озерами. И люди там были полны… «какой-то безыскусственной веселости», старики с желтоватыми седыми волосами, дети с собранными в пучок волосами, крестьяне. Все были спокойны и дружелюбны. Они удивились, увидев пришельца в его странной одежде, – сами-то они были в одеждах давно минувших эпох. И они повели рыбака в деревню, стали его угощать рисом и курицей, вином… Так он провел в блаженстве несколько дней, а потом засобирался домой. Эти люди просили его ничего не рассказывать о них. Рыбак обещал, а сам, вернувшись в свою лодку и отчалив, делал затески на деревьях… Правитель его области, услышав его рассказ, сразу снарядил экспедицию. Но рыбак так и не смог найти путь к Персиковому источнику.
И один ученый, замечает в финале поэт, узнав обо всем этом, тоже засобирался в дорогу, но внезапно заболел и умер. А, мол, после и вовсе не было таких, кто бы «спрашивал о броде».
Как это мило, романтично, ах ты, боже ты мой…
Это заметила Лиса, ученый-биолог. То есть – ученая Лиса. В ее глазах светился ум. Да, и мне сейчас хочется лишь усмехаться над этой историей, как иначе? Но в молодые годы все было по-другому. И эта страна иногда даже снилась – ну, что-то подобное…
А вот и принцу в тысяча четыреста каком-то там году тоже приснилось, это и было эхо «Персикового источника», с которым был знаком любой образованный кореец.
Но что же написал Ан Гён в три дня?
Это был пейзаж на шелке, размером сорок сантиметров на метр. В левом углу был изображен, как говорится, реальный мир. Правда, причудливые скалы, воды, деревья в заснеженной Москве уже выглядели фантастически. Что уж там говорить о персиковом саде, как бы плывущем в горной чаше, в правой части изображения. Этот сад просто завораживал. Он был невесом, прекрасен… и неярко цвел розовым, что мне сразу напомнило цветение байкальского багульника среди скал, на склонах наших гор. И все, я до страсти влюбилась прямо в эту вещь и в этого, конечно, художника…
Рассказывая русским эту историю, не со всеми, разумеется, подробностями, я будто снова проделывала этот путь: через ущелье Го Си – и в «Весенний сон» Ан Гёна. И уже за одно это я им благодарна.
Персиковый источник Ан Гёна слишком высок для рыбака из поэмы Тао Юаньмина. На своей лодчонке он ни за что не смог бы туда выплыть. И вообще ему понадобились бы веревка, крепкий посох, прочные ботинки, чтобы взобраться по кручам из мира реального в левом углу – в мир сна в правом. Ему пришлось бы перепрыгивать с камня на камень через грохочущие ручьи, а то и по грудь в воде преодолевать потоки; цепляться за корни и стволы; забрасывать камень с веревкой за нависающее дерево, чтобы подтянуться над расщелиной; карабкаться изо всех сил, тяжело дыша, утирая пот с потемневшего от солнца и речных ветров лица; но он упорно лез вверх, слыша горестные гортанные крики обезьян, обламывая ногти, срывая кожу на ладонях, с головокружением глядя вниз, на далекие мокрые камни… Ан Гён заставил его потрудиться. Но он взошел к этому Саду. И оно стоило того – просто чтобы увидеть эту невесомую чашу розовых деревьев, услышать плеск чистых вод в ручейках… Достигнуть Древнего Сна – разве не прекрасна и благородна эта цель?
Ученую Лису это как-то не особенно впечатлило, и она нетерпеливо напомнила о японцах. А ее небритый Тюлень, наоборот, готов был слушать и слушать.
Но тут я перешла к сути. Да, вскоре после этого, то есть после написания картины, в Сеуле случился дворцовый переворот, затеянный одним из венценосных братьев. И принц, благодаря которому появился свиток «Путешествие-сон», был сослан на остров, где его вынудили покончить жизнь самоубийством. А свиток исчез. Сон оборвался.
И великая эта работа Ан Гёна проявилась в мире внезапно – под конец девятнадцатого века. И где же?
В Японии.
Да, Ученая Лиса угадала. Именно там. В том-то и дело. Ведь японцы то и дело приходили в Корею с огнем и мечом. В шестнадцатом, например, веке разгорелась война, Имджинская война. Корея не захотела пропустить японские войска в Китай, и параноик Хидэёси, возомнивший себя богом войны, двинул корабли к ее берегам. Может, именно тогда свиток и оказался у японцев. Ведь они вообще преклонялись перед художественным гением Кореи, выписывали учителей в свои художественные школы, сами приезжали; и были совершенно без ума от корейской керамики. В те времена это была лучшая в мире керамика! Ах, эти чаши и блюда, расписанные изумительно изящными тонкими скупыми кистями синим подглазурным кобальтом! И кувшины, чайники, чашки… даже признанные мастера из соседней Поднебесной вынуждены были признавать первенство корейских гончаров и художников-керамистов. Японцы с их небывалым культом чайной церемонии жить не могли без этой керамики, прозревая в ней свой югэн.
Ну, югэн, коротко говоря, это скрытая красота, таинственная прелесть. Признаться, мне это у японцев нравилось…
Так вот, разграбив дворцы Сеула и других городов, ненасытные японцы разрушили керамические печи, а гончаров и художников-керамистов целыми семьями вывезли на свои солнечные острова, черт бы их побрал. Ненастная ончи, как говорится.
Русские попросили перевести ругательство. Я уклонилась. Ведь мы были за столом. И вообще… Хотя корейцы как раз и не прочь позубоскалить в любой обстановке на тему телесного низа и естественных отправлений.
С тех пор корейская керамика так и не набрала прежней прелести. Югэн исчез. Ци ушла. Ци не то же, что и югэн, это уже китайское. Одна из главных составляющих искусства – его жизненная сила.
И японцы объявили «Путешествие-сон» национальным достоянием! Заточили свиток в своем университете новоявленной религии тэнрикё, где учатся дзюдоисты… О, ёпджап-гун!
Тут можете и не переводить.
Я с удивлением взглянула на Тюленя. Откуда ему знать, что это означает обманщика, афериста? Но кто же еще эти люди, объявляющие национальным сокровищем ворованную вещь?
Ну, вы, видимо, действительно слишком влюблены. Ведь подобная практика существует во всем мире. Посмотрите, сколько египетских древностей рассыпано по всему миру – тот же обелиск в Париже на площади Согласия, сфинксы в Питере на Университетской набережной.
Но Лиса напомнила Тюленю, что сфинксы ведь выкуплены были, а не украдены Николаем Первым.
Эта покупка сродни воровству. Национальные сокровища должны оставаться на своих местах. Каким образом одна нация может владеть сокровищем другой? В результате войны? А чем отличается мирный грабеж от военного? Чем отличается победитель-грабитель от гангстера? Гангстер тоже в известном смысле победитель.
Лиса сказала на это, что он не в ладах с логикой, то утверждает, что такова мировая практика, то требует, чтобы такой практики не было, пора бы уже определиться во всем.
Но мне было понятно, что Тюлень меня поддерживает. Мой рассказ его захватил, у него на скулах появились даже красные пятнышки… или это от кофе с коньяком? Нет, я чувствовала, что Тюлень… Тюлень… От него повеяло жаром.
Что ж, возможно, для ученого ума Лисы мои соображения и были слишком просты и наивны.
Но… но я не рассказала им всего. Возможно, не стоило и начинать.
Да уж, сказав а, надо и дальше по алфавиту.
Третья история проста и коротка. Японцы уморили в тюрьме Дончжу, любимого поэта моей дочери. Уморили в годы второй мировой войны, только за то, что он был кореец и поэт, а поэт не может не говорить правду.
И это все.
Я довезла русских до гостиницы, и мы распрощались.
14
Стихи Дончжу пришлись по сердцу и мне. В них были звезды, в них было какое-то чистое отчаянное детство. Мне кажется, эти стихи как-то перекликаются с песнями Клыкастого Оленя.
Ах, опять он у меня на уме!.. Это русские растравили. Хотя… что такого они говорили? Вроде бы и ничего. Но какие-то фразы, какие-то обрывки… В чем дело? Не знаю, я не знаю.
Клыкастый Олень, да, он пел свои песни тунгуса с тех пор, как лесничий проломил ему череп пулей. И вместо раздробленной кости ему поставили заплатку из сплава космических, как он сам говорил, металлов. И внезапно эта пластина то и дело начинала дрожать и вибрировать, Клыкастый Олень морщился, испытывая боль, бывало, натягивал шапку-ушанку – и становился похож на Ван Гога…
Он мучился, как от зубной боли, но говорил, что эта боль была много сильнее, острее. Приступ мог продолжаться и час, и два… Клыкастый Олень даже подвывал по-волчьи, как тогда на льду Байкала, когда мы, еще дети, школьники бежали на коньках вдоль Ольхона, и не заметили, как солнце упало за горы и наступил быстрый голубой темный вечер, а потом сверкнула звездами ночь, и уже возвращаться в поселок не было сил, хорошо, что там поблизости оказался хутор одинокой Песчаной Бабы.
Да, он всех тогда напугал, ее, пухлую Полинку, Кита, так натурально выл, что она подумала, будто его род – Волка. И имя его Волк. Но нет, позже-то он сказал, что из рода Кабарги, Клыкастого Оленя, а второе имя у него Мукус, то есть Миша по-эвенкийски. Приставал тогда же к ней, вызнавал ее второе имя. Она отнекивалась долго. Говорила, что это он полнокровный эвенк с двумя именами, а она-то наполовину. Но второе имя у нее было.
Да первым это имя узнал все же не Клыкастый Олень, а Кит.
Он же все носился со своим фотоаппаратом. Сначала был помощником в Хужире[6]6
Поселок на острове Ольхон.
[Закрыть] у старика-фотографа Адама, латыша или литовца, оставшегося там после освобождения, – по слухам, был он «лесным братом», на Ольхоне в лагере и сидел. Но потом у Кита со стариком произошел конфликт из-за туристов-немцев. Кит их ненавидел, считая, что народ, придумавший газовые камеры, порочен во веки веков, а старик с готовностью им услуживал. Так они и разошлись. И Кит открыл свою фотостудию, сколотил такой павильончик у себя во дворе, попросил меня разрисовать стены и даже потолок все теми же лебедями да цветами, звездами. Но народ по старинке шел к старику. А у Кита фотографировались только его друзья. Хотя Кит Адама называл только фашистом. И даже кто-то уже подхватил это прозвище. Но все равно – к «фашисту» шли, а к нему – нет. Дружки даже предлагали ему поджечь ателье Адама. Но все-таки Кит был сыном участкового.
И он гонял на отцовом «Урале» по острову, фотографировал всякие виды, зверей, птиц, случайных туристов.
Летом, когда мы с Полинкой прилетели с Большой земли на каникулы, вызвался отвезти меня на мою метеостанцию к родителям, – мама работала техником-метеорологом, а папа дизелистом на этой станции. Мы прилетели раньше, чем планировали, и папа не приехал за мной. Кит и повез меня.
Было, как всегда на острове, очень солнечно. Мотоцикл иногда заносило на песчаной дороге среди сосен и лиственниц. Кит рассказывал, как они той зимой пытались доехать до метеостанции с Мишкой Мальчакитовым, Клыкастым Оленем, чтобы тому стартовать оттуда, – он ведь хотел по льду добежать на коньках до своего заповедного берега. Кит раздобыл для него санки, туда положили дрова, брезент, котелок, топор, еду. Но поход века, как они называли его, не состоялся. Мотор заглох. И пришлось им толкать мотоцикл обратно в Хужир. А оттуда Миша уже улетел в Иркутск, из Иркутска – в Улан-Удэ, так и добрался до заповедного берега. Какой крюк сделал!..
Вспоминали, как в ту зиму мы вчетвером бежали на коньках и попали в логово Песчаной Бабы. И вой Мишки снова вспоминали. И я зачем-то сболтнула про наш с Клыкастым Оленем разговор о втором его имени… Тут и Кит начал пытать меня. И поклялся, что узнает это имя.
Мы проезжали мимо обезлюдевшего хутора Песчаной Бабы. Умерла странная упорная старуха… И ее дом уже начали заносить пески, как занесли они здесь все дома поселочка и бараки бывшего лагеря.
Решили зайти посмотреть.
Чтобы открыть дверь дома, Киту пришлось доской отгребать песок.
Мы пролезли в узкую щель, прошли через сени и оказались в доме.
Песка внутри было не так много. Но он уже просачивался через всякие щелочки, трещинки, дырочки. Ничего путного в доме уж не было. Железная пустая кровать. Разбитый комод. Пустые банки, пожелтевшие газеты. Но Кит разгреб мусор и достал картонную папку.
И вдруг из нее выпорхнуло что-то.
Это был какой-то ослепительный момент.
Кит нагнулся и поднял прямоугольничек. Это была фотография. Он передал ее мне. Я посмотрела. А на меня смотрела молодая женщина с высокомерием каким-то даже. И тут мы начали в ней узнавать… узнавать Бабу Песчаную. Мамочки мои. Да, да. Хотя вначале мы даже расхохотались такой догадке. Но потом с наших глаз как будто песок сдувало… и мы все яснее видели в этой женщине Бабу Песчаную в тряпье, замотанную платками, кряхтящую, – такой она нас принимала в ту давнюю зимнюю ночь в своем натопленном доме с кошками.
– У тебя с собой фотик? – спросила я.
Кит спохватился, что нет, забыл в этот раз, а зачем мне?
Я сказала, что просто хотела бы иметь изображение, эскиз всего этого и фото Песчаной Бабы, – потом напишу такую картину. Тогда Кит ответил, что приедет через пару деньков на метеостанцию и привезет меня с карандашами и альбомом, а то и с красками и этим… мольбертом, есть у меня?
– Походного мольберта у меня нет, – ответила я. – Ведь я только учусь.
– Хочешь, я тебе, самое, с-мастерю? – спросил он, убирая густой чуб со лба.
Кит стал слегка заикаться иногда после того, как на рыбалке провалился с отцом под лед. Отец его вытолкал, а сам уже выбраться не мог. «Только так посмотрел на меня, как… нерпа…» – рассказывал Кит. А он метался от полыньи к поселку, возвращался, понимая, что не успеет добежать. И тут увидел фигуру чью-то… шел кто-то. Хотел кричать – нет крика. Замахал руками – и тот заметил, повернул… да вдруг побежал шибко. И добежал. Это был поселковый дурак Андрей Первозванный, как его кликали. Матрос со «Сталинградца», потонувшего однажды со всей командой, – один только выжил. И потом никто из местных не хотел идти работать на это судно. Один Андрей посмеялся над страхами и пошел – да и сбрендил в конце концов, заговаривался на вахтах, слышал голоса всякие, потом и прямо всех потонувших видел, ругался с ними… Мальчишки его донимали, дразнили, и Кит старался. А тут – тут дурак померещился ему и вправду святым, под стать имени-прозвищу. Рухнул на край, скинул свою драную овчину, и отец уцепился, а дурак здоровенный был, как трактором вытащил…
Я ответила, что настоящий походный мольберт штука не простая, ее не смастеришь, будто какую лопату там или санки.
И тогда Кит потянул меня к себе за руки.
– Ты… чё, Сережка?.. – спросила я.
А он тянет, глядит молча.
– А ну… пусти! – выдохнула я.
И страшно перепугалась. Он же здоровый, если навалится – настоящий Кит, хотя раньше я сама и недоумевала, кому взбрело так его прозвать. Мол, не такой он и толстый, большой. А тут вдруг сразу оценила меткий чей-то язычок, глаз: Кит и есть.
Он смутился. Сам только школу еще окончил…Говорит, что ничего такого, просто тянет меня на свет, а? А я бледная вся до пяток. Лопатки вспотели.
Вышли мы, уселись снова на «Урал» да и покатили по песчаным дорогам острова к северному далекому мысу, где на крыльце бревенчатого дома, забранного синими досками, ждали меня мама и папа. Ну, не на крыльце… Папа возился в дизельной, а мама стирала. Вот она-то и вышла на крыльцо, услыхав тарахтенье мотоцикла. Стояла, вытирая красные руки, улыбаясь уже, синеглазая, черноволосая. У нее волосы были просто как из угля, как самая черная тушь. А ведь мама русская. А папа эвенк, но сам какой-то светлый, чуть не рыжий, пегий такой. Но глаза – смоль. Как у белки байкальской. И волосы у меня – мамины, а глаза – папины.
Папе, конечно, уже все эти традиции эвенков были, как говорится, побоку. Коммунист, технарь, шутник. Мама тоже к этому не проявляла никакого интереса. Кто же мог дать мне второе имя? Тетя Оля, папина двоюродная сестра. У нее самой было второе имя – Мэнрэк, что значит Серебро. У нее кожа и вправду была такая бледная, серебристая. Наверное, и у папы волосы были не пегие, а как будто слегка посеребренные. Вообще серебро у эвенков даже ценнее золота. Серебряные лыжи – не то чтобы ценные, а – красивые.
Папина сестра везла на «москвиче» мою маму сквозь мокрый снег в Иркутске в роддом, – мама загодя уехала на Большую землю рожать. Ну, тетя Оля-Мэнрэк не сама везла, за рулем был ее первый муж, прапорщик Алеша. И уже тогда дала мне второе имя. Так что второе имя было на самом деле первым, ведь зарегистрировали меня уже позже, с русским именем Лида.
…И вот я уже сижу дома, пью чай с голубикой, ем омуля и рассказываю о городской жизни, о выставках, художниках, тараторю, а родители слушают с тихими светлыми улыбками. Мама тоже повествует о жизни на острове… А какая у них повесть? Ветры, шум сосны, плеск волны, поиски пропавшей коровы, – они же там бродят по всему острову, как яки какие-нибудь в Тибете, обросшие длинной шерстью, своевольные, будто верблюды. Волков на острове нет давно. Кто может корову съесть? Если только люди своруют. Но такое редко случается. Остров как один большой дом, все про всех знают. Хотя случались здесь и убийства – в Хужире прямо. Всякое бывало. И всякое может быть. Человек существо непредсказуемое.
Кошка Манька ко мне ластится, на улице Джек от радости захлебывается лаем. Знает: раз я приехала, то будет ему свобода бегать за мной по берегу, охранять меня, пока рисую скалу или волну с чайкой.
Кит долго не приезжал. А потом прикатил на своем драндулете и привез – кто бы мог подумать! – походный мольберт. Самый настоящий! Хоть и самодельный, пахнущий смолой. Я глазам не могла поверить. Прямоугольный ящичек-чемоданчик такой, с отделениями для кистей, красок, сверху крышка, и к нему три складные алюминиевые ножки прикручены.
– Ты чё, лыжными палками пожертвовал? – спрашиваю удивленно.
– Ну а чё, самое, – отвечает он, растягивая толстые губы в улыбке. – Мне уже не нужны.
– Как не нужны?
– А так. – Машет рукой. – Осенью загребут, самое, в армию.
– Ну так это два года, а потом…
– Будет новый снег и будут новые палки, – ответил он прямо как пословицей.
Мы смеялись.
Я тут же притащила свои тюбики, кисти и все разложила. Все разместилось.
Посмотрела на него. У Кита лицо светится – наверное, отражения из моих глаз.
– Но, Сережа, как ты все рассчитал?
– Да, – отвечает, – чё там рассчитывать…
И только много позже он признался, что в это время в Хужир приехала семейная пара художников из Перми, у них был такой же мольберт, и он просто попросил разрешения снять все размеры и посмотреть, как все устроено.
А тогда он мне казался прямо-таки чародеем каким-то! Я не знала, как его благодарить. Подсказала мама: ты, мол, портрет его и нарисуй. И я нарисовала Кита, в свитере с широким отворотом, с толстыми губами, с тяжелой его челкой, – а сверху волосы немного, как обычно у него, дыбятся. С родинкой на кончике носа.
Он возил меня по острову в разные места, писать степь, одинокое дерево, скалы, далекие дали, россыпи камней. Ездили на мыс Кобылья Голова, где, как нам рассказывала Песчаная Баба, давным-давно погибла дочка смотрителя маяка, игравшая на флейте, и я пыталась ее вообразить, набросать ее воздушный портрет… Потом ездили к Курыканской стене – непонятному сооружению из камней высотой около двух метров, длиной в триста метров. Кит свято верил, что ее сложили древние жители острова – курыкане. Кто это такие, никто не знает толком. Ученые до сих пор спорят. Мне в этом названии слышались журавлиные крики, и я именовала их журавлиным народом – и рисовала у этой стены в виде журавлей. Люди-журавли.
Было ли в тех моих, по сути детских, рисунках что-то? Был в них мусун? Они не сохранились, трудно судить. Мусун появился вместе с Клыкастым Оленем.
Но пока рядом был один Кит.
И мы колесили на его мотоцикле, вздымая пыль и песок. Это была колесница фараона. Почему? Кит объяснил: фараон на жаргоне французских блатарей – полицейский. А кто же его папаша?
Ах, как нам было весело мчаться на этой фараоновой колеснице сквозь солнечный вечный ветер Ольхона! Сворачивать на песчаные пляжи среди корней ходульных сосен и купаться в чистейшей воде на свете. Мама давала нам с собой еды, мы ее еще запекали на углях, рыбу, картошку, хлеб. Пили чай из котелка, а зачастую просто зачерпывали воды из Байкала.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































