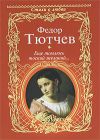Текст книги "Элегiя на закате дня"

Автор книги: Олег Красин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
«Надо написать мама́ и папа́! – подумала она в смятении, – надо уйти отсюда, сию же минуту! Да-да, уйти, написать». Мысли метались в беспорядке.
Она дернулась, сделала шаг по направлению к выходу, но вдруг почувствовала, как кто-то крепко схватил её за левую руку. Это была императрица. Приблизив к Анне своё строгое, суровое лицо, она приказала:
– Идите за мной!
Они шли по коридорам в полнейшей тишине, не замечая слуг и охраны, гулко стуча по паркету каблуками туфель, и только твердую, почти железную хватку руки, ощущала Анна на своём запястье.
И хорошо, что Мария Александровна вела её по дворцу!
Крепившаяся всё это время и глубоко переживавшая за сестру, до самого последнего момента старшая дочь Тютчева не позволяла себе расклеиваться. Но тут слёзы хлынули из глаз с такой силой, точно кто-то открыл все шлюзы на реке и устроил мощный, сокрушительный потоп. Коридоры дворца казались теперь расплывшимся, нечёткими и не будь государыни рядом, Аня тыкалась бы в стены, как слепая.
Они вошли в придворную церковь. Только здесь Мария Александровна отпустила её руку, показала на место перед образами.
– Молитесь за здоровье сестры! – подбодрила она, впрочем, смягчив тон своего голоса.
Обо всем этом Анна написала отцу, пребывавшему на лечение в Вильдбаде, ввергнув его в сильнейшую тревогу. В конце она сообщила, что врачи предписали Дарье годовое лечение водами в Эмсе и швейцарский виноград.
«Не всё душе болезненное снится»
В повседневных заботах о хлебе насущном Тютчев чувствовал себя отцом Горио4646
«Отец Горио» – произведение французского писателя Оноре де Бальзака из цикла «Человеческая комедия». Горио был известен безграничной любовью к своим детям.
[Закрыть], делающим всё возможное для благополучия семьи, к которой относились его дети от всех возлюбленных без исключения.
Вероятно, считая, что деньги уходят куда-то на сторону, а именно госпоже Денисьевой, Эрнестина Фёдоровна в один из моментов озаботилась тем, что при разделении наследства между законными детьми от Элеоноры и неё, Эрнестины, дочь Маша может быть обойдена легкомысленным отцом и остаться без приданого.
Фёдору Ивановичу пришлось в нескольких письмах успокаивать её, писать, что уговорился с бездетным братом Николаем разделить наследство между четырьмя дочерями – Анной, Дарьей, Китти и Марией. Мальчикам полагалась своя доля имущества, и они озабоченность Эрнестины Фёдоровны не вызывали.
Таким образом, полностью успокоенный, Тютчев выехал на лечение в Германию – от подагры врачи предписали прием минеральных ванн, а еще неизменный швейцарский виноград. Ну, виноград он кушал с удовольствием, чего нельзя было сказать о ваннах, длительное принятие которых лишало его терпения.
Но это был Запад. Его любимый Запад.
Он остановился в небольшом немецком городке Вильдбаде в Вюртемберге. Жили они вдвоём с камердинером Эммануилом в гостинице – каменном добротном здании, перегородки которого оказались всё же достаточно тонкими, чтобы слышать голоса соседей. Однако, несмотря на отдых, на прекрасное ничегонеделанье оставались заботы.
Заботы, заботы, они отягощали сердце!
Мальчиков: Дмитрия и Ивана, их совместных детей с Эрнестиной, он пристроил в частный пансионат Тами, который пользовался хорошей репутацией. Была ещё Лёля маленькая от Лёли большой, но с её обучением можно было обождать, ибо она находилась под надёжным присмотром Елены Александровны и тётушки Анны Дмитриевны.
Оставались дети от Гортензии Лапп, другие два мальчика. Он давал небольшие суммы, о которых никто ничего не знал. Но денег катастрофически не хватало; изредка выручали денежные чеки, посылаемые из Овстуга управляющим Василием Стрелковым4747
Василий Кузьмич Стрелков (1819—1881гг.) – управляющий имением и сахарным заводом в Овстуге, возможно, внебрачный сын отца Тютчева – Ивана Николаевича.
[Закрыть].
В этих условиях, когда Горчаков поспособствовал назначению Тютчева председателем Комитета иностранной цензуры, Фёдор Иванович весьма обрадовался, так как годовое жалование его теперь составило почти три с половиной тысячи рублей. Эти деньги, может быть, и не слишком большие для человека, регулярно приглашаемого ко двору, ведь пошив только придворного мундира обошелся ему в восемьсот рублей, но Тютчев надеялся, что такая прибавка всё-таки позволит вздохнуть свободнее.
В эту ночь Тютчеву не спалось.
Поднявшись, он подошел к окну и стал смотреть на улицу, освещенную газовыми фонарями. За стенкой громко храпел Щука. Стояла такая глухая тишина, которая бывает только в середине ночи. «Странно, что всё молчит, – думал Тютчев, прислушиваясь, – даже собаки не брешут. В Петербурге бездомных собак много. Иногда одна зайдётся, так на целую ночь, и даже городовой с дворниками бесполезны. А может здесь всем правит пресловутая немецкая дисциплина? И собаки ей подчиняются, как послушные солдаты?»
Он вновь подумал о Европе, о том, хотел бы здесь жить или нет.
Как-то, выезжая из Варшавы, он написал жене, что не без грусти расстаётся с гнилым Западом, на самом деле, чистым и комфортабельным, чтобы возвратиться в многообещающую грязь Родины. И так было всякий раз – каждое пересечение границы угнетало его чрезвычайно резким переходом от удобной цивилизации к неустроенному бытию. «Назад к природе!» – проповедовал Руссо. России в этом смысле ничего выдумывать не приходилось – природа была повсюду: в лесах, в городах, и в людях.
И всё—таки жить на Западе, Тютчев, может быть, и хотел, однако умирать, безусловно, нет! Умирать только в России.
Он переживал за среднюю дочь, за Дашу.
Прочитав письмо Ани, Тютчев, хотя и не пришел в ужас, как его старшая дочь, поскольку воочию не видел всей картины, но он был человек с воображением, поэт и, к тому же, отец. Известие от Анны глубоко озаботило его и опечалило. Опять предстояли хлопоты по поиску денег, чтобы отправить Дашу на лечение, опять придется опять выпрашивать в министерстве отпуск, чтобы сопровождать больную дочь.
Оглянувшись, Тютчев посмотрел на шкаф в глубине комнаты. Там стояли заботливо уложенные Щукой чемоданы, в одном из которых лежал опиум, использовавшийся для снятия подагрических болей. Курить опиум было приятно, боль, действительно, отступала. Ко всему прочему возникали поэтические грёзы, видения, настолько яркие и необычные, что будь у него под руками бумага, он бы немедленно переложил их в стихотворные строки. И Тютчев был уверен, что это были бы его лучшие пьесы.
Подождав какое-то время, и наклонив голову набок, он постоял в тёмной комнате, прислушивался к себе. Сегодня можно покурить, сегодня был тяжелый и болезненный день, омрачивший его настроение.
Он вновь подумал о Даше, о её внезапном недомогании.
Девочка оказалась такой впечатлительной не случайно: она вся в него, в своего отца, ведь у него чрезмерно развито воображение, которое передалось ей по наследству. Какое горе для неё! Лучше бы она была холодной и рассудительной, как старшая сестра Анна, это защитило бы её неокрепшую душу от многих и многих бедствий.
«Воображение. Чувствительность. Mea culpa, mea maxima culpa!4848
«Моя вина, моя величайшая вина!» (лат.) – начало покаянной католической молитвы.
[Закрыть]»
А тут еще загадочная история, связанная со смертью.
На том этаже где поселили Дарью в Царском, неподалеку от её комнаты, во время ремонта нашли женский труп, замурованный в пол. Женщина была жива, когда её убивали. Правда, случилось это давным-давно, пожалуй, во времена герцога Бирона, любовника императрицы Анны.
На неокрепшую молодую душу его дочери это непредвиденное происшествие могло оказать сильное влияние, например, дать повод для фантазий, в которых можно представить себя персонажем одного из любовных приключенческих романов Жорж Санд.
Обычно романы французской писательницы заканчивались хорошо. Но тут в России, скорее всего, случился неожиданный финал, финал в чисто русском духе с переживаниями, трагедиями и смертью героини.
А может, Даша вообразила, что это знак судьбы. Знак предостерегающий и вещий. Для девушки с развитым воображением романтического толка такие мысли немудрены.
В голове Тютчева родилась строчка:
Не всё душе болезненное снится…
«Но как же закончить? – подумал он. – Пройдет гроза и небо прояснится? Нет! Она вспорхнёт и полетит как птица. Увы, и это не подходит!»
Он взял опиум, закурил и внутренняя растерянность, печаль, боль души, пустили его в блаженно-убаюкивающее плавание опиумного забытья. Как же ему не хватало Лёли, того самого умиротворения, которое он чувствовал в её присутствии!
И тогда он решился написать ей.
Состоя в длительной, почти четырехмесячной разлуке, Фёдор Иванович при всяком удобном случае писал Елене Александровне. Конечно, делал он это без излишних подробностей касательно членов другой семьи: старших дочерей от Элеоноры, Эрнестины Фёдоровны и детей от неё. Он полагал, что эти новости не относятся к Лёле, да и вряд ли её заинтересуют.
Тем не менее, обо всём остальном, о ярких впечатлениях, запоминающихся событиях, в которых лично участвовал, а иногда и о содержании встреч с известными им обоим людьми, он всегда с удовольствием делился.
Лёля тоже ему писала, не так часто, как он – она не знала где и с кем он путешествует в тот или иной момент времени. Вдруг рядом Эрнестина Фёдоровна? Поэтому Лёля соблюдала известную осторожность. Сейчас же, после случившегося с Дашей, Тютчев решил откровенно написать ей обо всем, надеясь на её большое и участливое сердце.
Он зажег свечу, открыл дорожный письменный набор, – гётевский остался в Петербурге, – обмакнул перо в чернила.
Он писал, что болезнь средней дочери помешает ему быстро вернуться к своей обожаемой и дорогой Лёле. Это прискорбно, но жизнь иногда мерзит, и он, конечно, сердечно сожалеет об этом. Однако, сложившееся положение, возможно, потребует от него остаться в Германии еще на какое-то продолжительное время и дождаться Дарью, дабы деятельно заняться устройством её лечения. В конце, как всегда, Тютчев передавал тысячу нежностей.
Увы, каким бы ни было грустным это долгое расставание, а отец Горио не мог пренебречь обязанностями отцовства.
«Сияет солнце, воды блещут»
Едва Лёля маленькая подросла, Тютчев стал вывозить Елену Александровну и свою дочь за границу. Первый такой выезд состоялся в шестидесятом году, когда Лёля была беременна вторым ребенком. Они поехали не одни, поскольку роды приближались, то для возможной помощи в дороге захватили с собой и Анну Дмитриевну.
В душе Тютчева появилось и росло чувство умиротворения, спокойствия, счастья, оно пускало корни, которые, казалось, были настолько крепки, что никакая буря не смогла бы их вырвать из почвы его души.
Шумят верхи древесные
Высоко надо мной,
И птицы лишь небесные
Беседуют со мной.
Всё пошлое и ложное
Ушло так далеко,
Всё мило-невозможное
Так близко и легко.
И любо мне, и сладко мне,
И мир в моей груди,
Дремотою обвеян я —
О время, погоди!
Ему было хорошо! Умиротворение оказалось лучшим лекарством от всех неурядиц, от неустроенности семейной жизни. В его груди, в душе, в жизни, был мир, который нельзя порушить никакими нападками, недобрыми косыми взглядами, ничьей немилостью, будь то даже немилость покойного царя. Ведь он, Тютчев давно уже смирился с негласным осуждением и полил своё сердце любовным бальзамом.
Поездка в Вену – оказалась их первым совместным путешествием и, наверное, оттого, запомнилась во всех подробностях. Он хотел посмотреть на Шёнбрунн, подняться на верхний Бельведер, откуда можно без помех обозреть окрестности Вены.
Тютчеву казалось, что среди высоких лесистых холмов, среди идиллии альпийских лужаек, среди звонкого прозрачного воздуха, свободно парящего над вершинами далёких гор, само время остановится, чтобы понаблюдать за его счастьем, за умиротворением души. Казалось, еще немного и он услышит божественные звуки эоловой арфы, на которой ветер поёт сладкозвучные песни любви.

Е. А. Денисьева с дочерью Еленой. Фотография, 1862—63гг.
Они – Федор Иванович, Елена Александровна и маленькая Лёля, принарядившиеся по случаю, – стояли на площадке возле белоснежного верхнего Бельведера, отстроенного для принца Евгения Савойского.
Несмотря на жаркие устоявшиеся дни, Тютчев надел чёрный сюртук, белую рубашку, бабочку. На голове у него был цилиндр, зримо удлинявший низкорослую фигуру. Денисьева же, придерживающаяся общей моды, была в кринолине из шелковых юбок светло-синих тонов, голову её защищала от солнца шляпка с перьями и высокой страусовой эгреткой. В тени полей прятались жгучие чёрные глаза Лёли, некогда очаровавшие Тютчева. «Смуглянка-смолянка», – так он иногда звал её в шутку.
Чувствуя величавую громаду дворца за спиной, Тютчев ностальгически созерцал окрестности.
Он раньше бывал здесь. Бельведер – итальянское слово, означающее «прекрасный вид» и вид этот, в самом деле, был прекрасен. Внизу под дворцом, в строгих геометрических пропорциях пролегали дорожки, посыпанные рыжим песком и цветочные газоны, расписанные затейливыми травяными вензелями. Высоко вверх поднимались пенистые струи фонтанов, возле которых из-за духоты собралась разодетая публика, надеясь охладиться влажной свежестью и получить небольшое облегчение.
Но Тютчев не задержал на них взгляда. Он наслаждался картиной распластавшегося вдалеке огромного старого города, подпирающего небо острыми шпилями соборов. Почти до самого начала невысоких гор тянулись ребристые крыши домов, разноцветная черепица которых казалась яркими мазками коричневой и жёлтой краски на холсте какого-нибудь импрессиониста.
Лёля, которая уже подросла – ей исполнилось девять лет, принялась весело играть, пытаясь спрятаться от матери за аккуратно обрезанные зелёные кусты, высаженные вдоль дворца. Елена Александровна же недовольно хмурилась и отчитывала дочь резким голосом.
Тютчев морщился. Он никогда не думал, что у Денисьевой может быть столь неприятный голос, что она может говорить таким грубым тоном, точно невоспитанная деревенская баба на городском базаре.
– Лёля, – Елена Александровна жёстко выговаривала слова, – перестань сейчас же! Перестань прятаться, я тебе говорю!
Кудрявая девочка виновато появилась из-за кустов, опустив головку, на которую мать надела нарядную шляпку. Её большие карие глаза налились слезами, а мокрые губы приоткрылись, готовые растянуться в рёве.
«Ну вот, сейчас заплачет! – с досадой решил Тютчев, – ну почему всё надо портить?»
Из-за духоты он снял цилиндр, платком вытер лицо.
– Лёля, – обратился он к дочке, – детка, иди сюда, посмотри, какая красота!
Он показал рукой на вид, открывшийся под ними: огромный город, зелёные парки, каменные дома, синеющее надо всем безоблачное небо.
Только с самого края, почти уходя за горизонт, белела небольшая тучка, похожая на чью-то голову. «Это моя голова! – вдруг отметил про себя Тютчев и почувствовал невольный испуг. – До чего же похожа: очки, волосы в стороны, мой нос, скулы. Это моя голова только без цилиндра».
Голова медленно уплывала за край невысоких гор, постепенно меняя форму: лицо грубело, вытягивалось, приобретая черты гётевского Мефистофеля. Спутанные в поэтическом беспорядке белёсые волосы сделались похожи на рожки чёртика. Не хватало только козлиной бородки, являвшейся неотъемлемой чертой злого духа.
«Боже мой! Что это, видение или знамение? Неужели во мне сокрыта дьявольская сущность, невидимая глазам окружающих? Нет, вздор! Дурная фантазия разыгралась».
Тем не менее, дьявольская голова на сверкающем голубизной небе, странным диссонансом разворошила мысли, внесла подспудную тревогу в безмятежный, так чудно занявшийся день, который не предвещал мрачных переживаний. Тютчев поёжился, словно в теплоте недвижного воздуха его подхватило прохладное течение, взъерошило волосы, пронеслось мурашками по телу.
«Зачем же облако с моим лицом? Или мне одному в этой бестолковой спутанности воздушных струй видятся очертания дьявола? Может в этом видении кроется ответ на вопрос, который меня мучит, и который я боюсь задать сам себе? Почему они тянутся ко мне, почему женщины меня обожают – невысокого, седого, невзрачного старика, всё достоинство которого скрыто во владении словом? Конечно, этого у меня не отнимешь – я наказан вечной беременностью мысли, как наказана вечной беременностью незадачливая соперница апулеевской ведьмы-кабатчицы Мерои4949
Апулей – древнеримский писатель, автор романа «Метаморфозы».
[Закрыть]. Но дамам, по большей части, не интересны мои размышления – значит, я наказан еще и обаянием дьявола».
Он покосился на подросшую девочку, свою дочь, желая понять, не узрела ли она на его лице крамольные мысли о Мефистофеле. Не напугал ли он её. Но нет, Лёля младшая безмятежно глядела на город.
Тютчев оглянулся на Елену Александровну, стоявшую рядом с торжественным лицом. Она тоже смотрела на городской пейзаж, на небо, на уплывающее вдаль облако. Но, вероятно, её мысли занимало нечто другое, а не скрытая бесовская сущность тютчевской головы, проплывавшей по небу.
На самом деле Денисьева заметила недовольство Тютчева, когда отчитывала дочь, и это больно задело её сердце. Строгость Елены Александровны объяснялась одним: ей мечталось побыть с Тютчевым наедине, хотя бы в мыслях, насладиться этой духовной близостью, и чтобы ей никто не мешал, даже маленькая Лёля.
А он не понял, не разгадал. Он вообще мало ценил её благоговейное внимание, страстные порывы сердца, те чуткие и нежные слова, которые она обвивала его, будто руками. А ведь ему, с его редкой проницательностью, разгадать мысли возлюбленной не составило бы труда.
Однако таков он, Тютчев, её Боженька, её названный муж, которому прощалось всё.
– Ты знаешь, – нарушил молчание Фёдор Иванович, – когда-то давно, лет десять назад, мы стояли здесь со Щукой, созерцали эту красоту, и гармония мира проникла в наши сердца. Мы были потрясены, восторг охватил нас, стояли и смотрели без слов. Хотя я не сентиментален, но этот чудный вид, этот неоглядный простор, трогает до глубины души.
– Да, – соглашается Денисьева, засмотревшись на старую Вену. Её строгое лицо, ставшее за время жизни с Тютчевым малоулыбчивым, осунувшимся, потускневшим, осветилось той внутренней любовью, которая присуща многим женщинам, когда они живут одной духовной жизнью с мужьями – чувствуют то же, что они, думают, о том же и переживают вместе с ними. – А что сталось потом, когда вы спустились с Бельведера?
– Мы отправились в зверинец.
– В зверинец? – Денисьева не могла представить Тютчева с его возвышенной душой, который может интересоваться столь прозаическим предметом. Её губы трогает скупая улыбка, поскольку она представляет их вместе: маленького щуплого Тютчева и высокого худого камердинера Щуку.
– Щука любит зверей – он как ребенок. А потом мы отправились в казино и там отужинали. Помнится, я остался голоден после такого скудного ужина, а Щуке подали его любимое кофе с молоком.
– Потому он так худ, – серьезно замечает Елена Александровна.
Пожав плечами, Тютчев рассеянно улыбается, рассматривая город. Стекла очков его удовлетворенно блестят, отражая хорошее расположение духа, седые волосы не треплет ветром, поскольку мадам Тютчева заставила надеть цилиндр, который прежде того, он держал в руке.
Гармония, устоявшийся порядок, в котором каждой вещи отведена своя роль, простые и понятные отношения. «Вот основа моего бытия, – философски думает он, – мы втроем, и никто не накажет за это: ни светская молва, ни осуждение Нести, ни скрытые упреки взрослых дочерей. Только тихая семейная уютная жизнь. Кажется, это называется счастьем! Хотя, – он припомнил грузного отяжелевшего Жуковского в последние его годы, – Василий Андреевич писал, что в жизни много прекрасного и помимо счастья. Но нет! Не могу с ним согласиться».
Конечно, в отдельных проявлениях человеческой жизни можно найти свою прелесть, своё очевидное удовольствие. Например, в дружеском поступке товарища, поддержавшего в трудную минуту. Так поступил тот же Жуковский, встретившись в Мюнхене сразу после смерти Элеоноры.
Есть наслаждение и в созерцании величавой природы: безмолвных озер, таинственных, в своей огромности, гор. Да, всё это прекрасно, если не признавать потребность бедного человеческого сердца в чём-то большем. Прекрасно, если довольствоваться только малым, думая, что счастье предназначено другим.
Нет, он, Тютчев, не мог согласиться с товарищем по поэтическому цеху. Счастье – достижимо и то, где он был сейчас, и с кем он был – всё это являлось несомненным подтверждением его правоты.
Затем они пошли назад: Федор Иванович вёл за ручку подрастающую дочь, кудрявую Лёлю, а Елена Александровна, опустив со шляпки вуалетку на лицо, вышагивала чинно и неторопливо, бережно придерживая кринолин руками, как уважаемая замужняя дама.
Обернувшись, Тютчев уже не обнаружил на небосклоне облако, напоминавшее пугающую голову Мефистофеля.
Облако бесследно рассеялось, вместе с ним, рассеялись и его страхи.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?