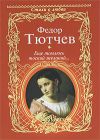Текст книги "Элегiя на закате дня"

Автор книги: Олег Красин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
«Ты со мной и вся во мне»
Поражение в Крымской войне. Смерть императора Николая, восшествие Александра второго. Годы летели, как буйная тройка лошадей под кнутом пьяного кучера. Куда несло их, в какие дали?
Как ни странно, Тютчев не терзался ревностью. Елена Денисьева, молодая, симпатичная, остроумная и живая девушка, которая и после рождения Лёли маленькой оставалась привлекательной, конечно, должна была вызывать интерес противоположного пола. Тютчев это сознавал, но в душе был абсолютно спокоен.
Иногда он с удивлением, а то и внутренним трепетом, ловил себя на мысли, что смотрит на неё с равнодушием постороннего человека, отвлеченно наблюдающего историю чужой жизни. Это нарочито-бесстрастное равнодушие пугало, словно он уже умер, и теперь его душа, покинувшая тело, наблюдает сверху за всеми. Будто она превратилась в некоего арбитра, а то и судью людских поступков.
Но для того, чтобы судить, надо иметь моральное право, а он такого не имел, наоборот, был грешен и не знал, как искупить свою вину.
Однажды, когда природа скупо одарила северный город коротким бархатным летом, Тютчев невольно подсмотрел, как Лёля любезничала с молодым офицером. Тот был уланом в красном мундире и легком суконном кивере. В руках он держал прутик, нетерпеливо постукивая по хорошо вычищенному, блестящему сапогу.
Сняв очки, так некстати запотевшие, и протирая их мягким платочком, Тютчев щурился, силился рассмотреть эту пару.
Офицер казался ему большим красным пятном возле невысокой, воздушной Денисьевой. На Елене Александровне было надето бледно-голубое летнее платье из легких тканей с неизменно-модным кринолином, придающим юбкам вид колокола. В руках у неё был летний зонтик от яркого солнца, но открытых лучей не было – солнце мягко светило из-за неплотных туч, прогревая петербургские улицы, будто охватывая их влажными тёплыми рукавицами.
На лице её блуждала лёгкая улыбка и временами она негромко смеялась над шутками офицера, показывала красивые белые зубы.
Дело было в Летнем саду. Денисьева стояла одна, наверное, оставив девочку с Анной Дмитриевной. С Невы дул несильный ветер, развивая ветки деревьев как неприбранные волосы деревенских дев и норовя выхватить зонтик из рук Лёли.
«Какие у неё глаза! – удивленно подумал Федор Иванович, – какие глаза, господи!»
Глаза Лёли сверкали антрацитным блеском, точно чёрные алмазы, разогретые изнутри жарким огнем. Сам-то Тютчев в последние годы привык видеть эти глаза невесёлыми, тлеющими, словно два притушенных жизнью уголька.
Этим кем-то, тушившим все последние годы её внутренний огонь, мог быть, и он сам. Будучи довольно импульсивным человеком, у которого приязнь часто чередовалась с охлаждением, Тютчев мог терпеть жизни холод, не умирать и не сдаваться. Но холод был опасен тем, что незаметно проникал в сердце, проникал в отношения, покрывая их хрупким ледком.
Тютчев надел очки, пристально всматриваясь в лицо Денисьевой. Нет, зрение его не обмануло – её глаза лучились весельем. Ах, какие глаза! Она была счастлива, как могло показаться, счастлива с этим незнакомым уланским офицером, первым встречным, который попался ей в Летнем саду. И как она оживилась, слушая банальные и пошлые любезности армейского толка!
Тютчев не узнавал её.
Куда делся беспокойный лёт рук, снежная бледность на лице и слёзы, стоящие в глазах, в минуты нервного возбуждения? Куда пропал тот звонкий напряженный голос с оттенком незаслуженного страдания, который появлялся у неё в минуты острых споров, а особенно при попытках настоять на своём?
Равнодушная к его поэзии, она хотела, тем не менее, накрепко связать его с собою, отторгнуть из прошлой жизни и поставить на ней крест. Отсюда порой умоляющие, а порой гневные требования, чтобы он печатно посвятил ей хоть одно стихотворение, хотя бы одну строчку. Её прельщала мысль, что общество, наконец, увидит и поймёт, кто является истинной музой Тютчева, кто дарит ему вдохновение, кто пожертвовала всем, дабы дать столь необходимое счастье ему, одинокому любимцу общества.
Чувствуя себя неловко в роли соглядатая, Фёдор Иванович невольно отступил назад по дорожке, а потом неловко повернулся и, по-стариковски переваливаясь, пошел к железной ограде парка, к воротам.
Он был в смятении. Нет, ревность на захватила его, но фантазия разыгралась и принялась рисовать мрачные картины. Тютчев остановил извозчика, поехал по улицам Петербурга, не обращая внимания ни на влажную духоту, ни на ветер, нервно трепавший его седые волосы. Он снял шляпу и держал её в руках, потому что любил, когда летний ветер овевает лицо.
Коляска, то мелко подрагивала на булыжной мостовой, то бесшумно шуршала колесами по немощеным улицам, посыпанным мелкой глиняной крошкой.
Он представлял спальню Лёли: как она лежит в постели, голая и жаркая, как обвивает жадными руками этого усатого офицера. Ею губы шепчут прерывистым страстным шепотом те нежные слова, слова любви, которые она раньше дарила ему, Тютчеву.
Улан тоже обнимает её, ласкает губами шею, плечи, целует лицо, но не торопится насладиться ею. Он окидывает спальню взглядом и видит на старом комоде дагерротип с изображением Тютчева. Усы его недовольно топорщатся, рука тянется к комоду, и портрет Тютчева падает на пол. Тонко звенит разбитое стекло. Лёля вскрикивает, но улан не выпускает её из объятий.
Зачем ей этот une verte vieillesse vieil homme3737
Бодрящийся старик (фр.)
[Закрыть], спрашивает он. Его время прошло, он отжил своё. Теперь наступило их время и никто, даже старик не должен им мешать. Глаза Лёли широко раскрыты, словно она хочет что-то сказать в ответ, возразить, но офицер не дает ей этого сделать. Он грубо овладевает ею и всё, что она намеревалась произнести, о чём попросить или что потребовать, остается невысказанным у неё на языке.
От его напора и жесткой силы она буквально теряет сознание, а возникшие было возражения и мысли о Тютчеве, растворяются где-то в далеком тумане воспоминаний, теряются в ворохе беспомощных мыслей, уплывающих в волне наслаждения.
Да и к чему эти возражения? Разве они важны для неё? Или важны для усатого улана?
Только портрет на полу. Он лежит лицом вверх и всё видит и слышит. Видит судорожные напористые движения мужчины, слышит всхлипы и стоны Елены Александровны, тонувшей в омуте удовольствий. Она стонет и вскрикивает до тех пор, пока этот омут не поглощает обоих с головой.
Он явственно видит эту картину, точно присутствует там, в спальне, стоит и смотрит на них сбоку, от двери. Тютчев чувствует озноб, дрожь мысли, которая словно мощный заряд небесного электричества пронзает тело и его начинает по-настоящему трясти.
Но ведь ничего нет. Ничего не было! Ветер стихает – уличные звуки вновь возвращаются, и он слышит стук колёс, снова въехавших на булыжную мостовую, стук, который как будто отрезвляет, заставляет очнуться от дурных видений.
Ничего нет, и не будет!
Нет ни разбитого дагерротипа, нет ни голой пары в спальне. Он, старик уверен в этом, потому что имеет над молодой Денисьевой власть.
Происхождение этой власти ему самому доподлинно неизвестно, – любовь ли это или что-то другое, – но власть, реальная, магическая, она, конечно, имеется. Пусть Лёля сейчас флиртует с молодым офицером, пусть любезничает, пусть отдается ему глазами – всё равно она будет с ним, стариком. От этого она никуда не денется.
Довольно странно чувствовать то, что чувствует он – любить не так как она, почти не любить, но сгорать от желания. И это в его годы!
Тютчев едет в коляске, внимательно рассматривая широкую спину извозчика, которую туго обтягивает белая холщовая рубаха. Извозчик подпоясался тонким черным ремешком, хотя многие пользовались и простой веревкой – чаще всего бедные финны, приезжавшие в Петербург на заработки. Кожаный ремешок говорит о том, что дела у петербургского Автомедона3838
В древнегреческой мифологии сын Диора, возница Ахилла.
[Закрыть] шли неплохо.
Его, Тютчева, интересуют детали: широкая мускулистая спина, крепкая шея мужика, заросший затылок, картуз на голове, его шумное дыхание. Он глядит, не отрываясь, точно желая удостовериться, что всё, что он видел до того мысленным взором – это нелепица, дурной сон, болезненные фантазии, а вот извозчик на козлах – настоящий. И вороной конь, запряженный в коляску самый, что ни на есть настоящий. Он храпит, от него пахнет крепким конским потом.
Мимо плывут дощатые тротуары и тротуары, покрытые каменной плиткой, по которым гуляет праздная публика, лакеи, кухарки, няни с детьми. Почти посреди улицы на коне гордо восседает городовой. Он олицетворяет власть императора, чувствует в себе эту власть, и потому недвижим, как изваяние, и только лошадь, перебирающая копытами, выдает в нем живого человека.
Все эти люди кажутся Тютчеву довольными от того, что установилось тёплое лето, обычно такое стремительное и неприветливое в Петербурге, довольными, несмотря на легкую духоту, и донимающих их мух, и комаров. Бегущие мимо бездомные собаки тоже довольны. Повернув к Тютчеву симпатичные морды, они тяжко дышат и вываливают розовые языки. Но в глазах их Тютчеву чудится язвительная насмешка – это насмешка над его страхами, страхами старика, которого отвергает молодость.
Недавно на окраине Петербурга уже поздним вечером он видел пожар. Горела крыша небольшого деревянного дома, разбрасывая снопы искр по сторонам, и черный дым тянулся к далеким облакам.
Маленькому щуплому Тютчеву, тем не менее, было холодно. Он стоял возле небольшой рощицы, чувствуя спиной её зябкую прохладу. Деревья прятались в наступающих сумерках, превратившись в сплошную темную стену. Даже если бы он захотел, то не нашёл в них проходов и дверей, не обнаружил бы дыр и лазов, через которые можно было бы просунуться и возвратиться в жаркий солнечный день, дышащий негой и безмятежностью. Такие дни у него бывали только в молодости.
На лицо Тютчева падал яркий отсвет пожарища, долетало тепло горевшего дома, запах сжигаемого дерева, угля, ткани и еще чего-то едкого, от которого перехватывало дыхание. Но он постепенно согревался, знобливость тела уходила, а с ним уходили страхи и желание вернуться в счастливое прошлое. Хотя его прошлое, если подумать, не всегда было уж таким безоблачным и гладким. Особенно, последние годы с Элеонорой, его первой женой.
И всё-таки, как выяснилось, счастье имеет свойство возвращаться. Он, Тютчев, чувствовал, что счастлив, счастлив как никогда. Он смотрел на языки пламени, отражающиеся в стеклах очков, а в голове пылали строки, посвященные не какой-то мифической красавице, не Венере или Данае, а его Лёле.
Пламя рдеет, пламя пышет,
Искры брызжут и летят,
А на них прохладой дышит
Из-за речки темный сад.
…Треск за треском, дым за дымом,
Трубы голые торчат,
А в покое нерушимом
Листья веют и шуршат.
Я, дыханьем их обвеян,
Страстный говор твой люблю…
Слава богу, я с тобою,
А с тобой мне – как в раю.
Он, конечно, приукрашивал, никакого сада за речкой не было – только небольшая рощица позади, за спиной, но не соврал в главном: Лёля была с ним и вся в нём.
Офицеры, молодые чиновники, салонные жуиры-соблазнители, наверное, еще будут появляться в их жизни, но не будет такого как Тютчев. Он один. И то темнеющее небо, в котором отражался пожар угасающего дня, и тот затухающий остов сгоревшего дом, роща, леса за нею, величавая Нева, весь мир – всё это для него, а он для всего мира. Потому что он его гражданин.
И его не сейчас волнует ревность, ведь он точно знает: ничто не изменится в их отношениях с Лёлей, ибо он всегда будет любим.
В Овстуге
В усадьбе Тютчевых в Брянском уезде Орловской губернии, Эрнестина Фёдоровна проводила дни, когда ей хотелось спрятаться ото всех, и в первую очередь, от мужа.
Настроение её было переменчивым.
Одна из падчериц сравнивала её с вечным апрелем, с его внезапными дождями и такими же неожиданными прояснениями, с облаками, легко рассеиваемыми ветром. Другая видела в мачехе холодную зиму с её безлюдными снежными равнинами, с негреющим слепящим солнцем.
В любом случае в Эрнестине Фёдоровне не было ничего от жаркого лета, столь любимого Тютчевым, ничего от прогретого моря, играющего ласковыми волнами, от тепла.
Жена Тютчева не зря выбрала Овстуг местом для уединения. Хотя Брянский уезд совсем не напоминал ей родную Баварию, но зато дарил спокойствие души. Здесь она чувствовала себя безмятежной и отстранённой, здесь время дарило ей роскошь воспоминаний.
Пребывание в Овстуге позволяло на время выпасть из того бурного водоворота, в котором вращался высший свет со всеми его сплетнями, интригами и изменами, взвихривавшими внешне ровную и спокойную гладь петербургского общества.
Столичные фешенебли не любили унылого благочиния. Истории, подобные любовной истории с Лавинией Жадимировской3939
Жадимировская Лавиния, урожд. Бравур, – в мае 1851 года сбежала от мужа вместе с князем С.В.Трубецким. В Тифлисе были пойманы жандармами и возвращены в Петербург.
[Закрыть], время от времени яркой молнией перечеркивали грозовой небосвод светской жизни, подчиненной внешним приличиям.
Тютчев развлекал жену такими историями. Он считал, и вполне справедливо, что Эрнестине Фёдоровне скучно в Овстуге, а страстная любовь, словно сошедшая со страниц романов Жорж Санд, сможет её отвлечь от тяжелых и угрюмых дум. Причина, источник этих дум, крылась в его романе с Еленой Денисьевой, который был для всех секретом полишинеля.
Как и во всякой дворянской усадьбе, центром жизни в Овстуге был вместительный двухэтажный дом с белыми дорическими колоннами. За домом лежала большая поляна, где любили гулять Эрнестина Фёдоровна и её падчерицы, когда все собирались в усадьбе. Дальше находилось озеро с островом посредине, на котором поставили небольшую белоснежную беседку. Такие уединенные беседки в стиле философа Жан Жака Руссо любили строить в дворянских усадьбах. Средней дочери Тютчева Даше нравилось сидеть в ней до вечера, читать книги и мечтать.
Тютчевское поместье окружали простые безыскусственные пейзажи с выцветшей растительностью. Темно-зеленая речка Овстуженка, густо заросшая по берегам осокой, была похожа на большой ручей, вода в котором непрозрачна и мутна. Извилистая речка бежала мимо лесистых оврагов, заливных лугов, устремляясь к полноводной Десне.
Обширные равнины, открывающиеся бесстрастному взгляду, напоминали Эрнестине Фёдоровне вздымающие к небу морские волны. Чудилось, что они заполняют всё свободное пространство земли до самого горизонта. Морские волны были пустынны и одиноки, как она сама. Наверное, от этого бескрайнее пространство равнин казалось наполненным тихой печалью и не дарило отраду её сердцу. Она смотрела на них большими, как у теленка, молчаливыми глазами, надежно пряча от посторонних свои думы и чувства.
И только небо над Овстугом занимало её, потому что всегда было разным: ярко-голубым ранней весной, пронзительно-синим летом и серым, без единой примеси грязи, осенью. А ещё облака. Летние облака – это нечто: кучерявые, будто шерсть барашка, или могучие, как морские корабли, или быстрые, словно лёгкие всадники на белых лошадях. Сравнивать их можно бесконечно.
Давным-давно в Овстуге они были счастливы.
Это было время, когда молодые супруги приехали в усадьбу погостить к родителям Тютчева. Здесь они любили друг друга, и Эрнестина до сих пор с умилением вспоминала, как вместе с молодым мужем гуляла по холмам, поросшим полевыми цветами, по медоносным полянам. Размякшие, распаренные жарким летним днем травы и цветы, щедро отдавали свои ароматы: полынь и хмель пахли горечью, синие незабудки и васильки благоухали небом, а желтые весёлые ромашки, если ими обсыпать шляпку, пахли солнцем.
Эти ароматы земли нужно было чувствовать, ощущать, вкушать. Их нельзя нюхать, потому как, само это слово можно отнести только к чему-то низменному и неприятному, например, к тому душку, который обычно доносится от бочки с нечистотами, вывозимой золотарём.
Как выяснила Эрнестина, её Теодор именно вкушал запахи, словно необычные и запоминающиеся яства. Но он же был поэтом, а у поэтов чувствительные души.
Так, они ежедневно гуляли, и знакомая бабочка – лёгкая, как пух на ладошке и пёстрая, как луговые цветы, – сопровождала их на всём протяжении пути. Она причудливо порхала вокруг её юбки, над летней шляпой мужа, возле их лиц и глаз. Тютчев размахивал руками, а Эрнестина громко смеялась, пытаясь её поймать.
Бабочка стала символом их любви, как ей казалось. Но бабочка слишком воздушная, слишком беззащитная, слишком нежная, чтобы уцелеть в жестоких бурях и ураганах времени. Вот она и не уцелела.

Э. Ф. Тютчева. Фотография. Петербург, апрель 1862г
Фёдор Иванович, её любимый Теодор, писал довольно часто и в каждом письме тосковал, стенал, капризничал, скучал по ней. Но в Овстуг не ехал. Поэтому Эрнестина Фёдоровна чувствовала себя заброшенной, о чём изредка напоминала Теодору. Хотя в Петербург она тоже не торопилась возвращаться, дабы не испытывать унижений жены, знающей об измене мужа, но не желающей расстаться с изменщиком.
Здесь, в усадьбе, вдали от бесконечной суеты, ей не было нужды принимать скоропалительные решения, от которых зависела не только её жизнь, но и жизнь детей, прижитых от Тютчева. А возможно, и старших детей Теодора от Элеоноры – Анны, Дарьи и Кати. Здесь можно было расслабиться и отдохнуть.
Однако слова – это незримый яд, действующий, хотя незаметно, но всё же отравляющий жизнь. Письма мужа, этого le Gracieux, этого l’Aime4040
Чаровника, Любимого (фр.)
[Закрыть] – она писала с большой буквы эти слова, – не могли не приниматься ею в расчет. Его слова западали глубоко в душу и больно ранили. «Кисанька моя», «Ты – единственная ветка, удерживающая меня над Небытием», «Твой старик». От сознания того, что их пишет человек, в эту самую минуту целующий другую женщину, спящий с ней, проводящий всё свободное время, гуляющий на виду у всех по улицам Петербурга и Павловска, от этого становилось еще горче.
И всё же она ждала его. Смутная надежда на то, что счастье ещё возможно, что возврат к прежней, такой понятной и простой жизни, ещё может случиться с ними, мерцала в её душе, словно светлячок в ночи.
Иногда, если менялся ветер, в её окна с полей доносился запах чабреца, сурепки, полыни, других трав, разомлевших под солнцем. Вдалеке, со стороны села кудахтали птицы, брехали собаки, слышались голоса крестьян. Деревенская жизнь со всеми её тяготами и приятностями давно приучила Эрнестину к терпению.
С недавних пор она стала ловить себя на мысли, что подолгу стоит у окна и пристально смотрит на дорогу, пролегавшую мимо липовой аллеи к главному въезду, огороженному железными узорчатыми решетками, а оттуда сворачивающую к большаку.
По ней нечасто ездили, только если редкие гости-соседи могли завернуть отобедать и скрасить обычную скуку летних дней. Посыпанная рыжим песком дорога временами казалась той путеводной нитью, которая могла дать шанс на спасение какому-нибудь заплутавшему путнику, застигнутому ненастьем. Как нить Ариадны в лабиринте Минотавра.
Жена Тютчева очень надеялась, что таким путником, запутавшимся в сетях лжи, оказался её Теодор, её Любимый, её Чаровник. Дорога в Овстуг была его шансом выпутаться из тенет, вернуться к нормальной жизни, сбросив маску заигравшегося мальчика, пойманного в сети опытной женщиной.
Но Федор Иванович не возвращался, как она ни ждала.
Для чего же она стояла у окна в напрасном ожидании? Кого ждала, зачем смотрела? Её логичный практичный ум не смог бы дать подходящего объяснения, поскольку эти действия были чувственными, нелогичными, как и всё, с чем она столкнулась в России. Родина её супруга оказалась на поверку иррациональной страной, где интуиция играет бо́льшую роль, чем все разумные доводы.
Она увидела в окно, как по пригорку на лошади спускалась Дарья, любившая дальние конные прогулки. Чалая кобыла лениво опускала ноги в августовскую пожухлую траву, наклоняла голову вниз, покусывая поводья. Даша сидела расслаблено, опустив локти вниз, поглядывая на расстилавшееся перед ней поле.
Эрнестина Фёдоровна помнила её маленькой девочкой, когда они только сошлись с Тютчевым. От первой жены у того остались три дочки и всех трех она приняла. Они звали её мама́, робко ласкались – милые маленькие создания, и она проявляла о них заботу как могла, в силу своего понимания материнской роли.
Из трёх сестер Дарья казалась самой молчаливой, самой задумчивой. У неё было чуть полноватое, круглое лицо, внимательные тютчевские глаза. Наблюдательная девочка выросла в мечтательную девушку, любящую романтическую прозу и представлявшую человеческие отношения, по большей части, в розовом свете. В её идеальном мире не было места предательству и изменам, низкому обману.
Эрнестина Фёдоровна подумала о том, что девочке в жизни придётся тяжело, впрочем, как и другим – жизнь никого и ничем не радовала.
Она тяжело вздохнула и оторвала взгляд от окна.
Эрнестина Фёдоровна стояла в большой светлой комнате, возле бюро, на котором обычно писала письма Теодору. На этом же бюро лежал её толстый альбом-гербарий со старыми засушенными листьями деревьев, лепестками цветов, и даже маленькими бутонами. Возле каждого тщательно, с немецкой аккуратностью, была выведена дата: где, когда и кем был собран тот или иной листик, а иногда помечено при каких обстоятельствах он был найден.
В одной из страниц лежали несколько полевых цветков из Овстуга, собранные в ту самую пору, когда они молодыми приезжали сюда и любили друг друга. Иногда она открывала и смотрела долгим взглядом на эти засушенные ромашки и незабудки, что-то вспоминала, о чём-то думала и на глаза её наворачивались слёзы. Впрочем, гербарий она любила рассматривать в одиночестве, не выставляя своих чувств напоказ.
Мысли её вернулись к Даше. Было славно, что падчерица учится в Смольном институте – учреждении достаточно консервативном, с жёсткими ограничениями и строгими правилами! Оно, это учреждение, конечно, тоже далеко от настоящей жизни, но всё же общение со сверстницами-пепиньерками, преподавателями и инспектрисами, должно значительно расширить кругозор молодой девушки.
Потом они обедали, однако чувство тревоги не давало покоя Эрнестине Фёдоровне. Камердинер разносил блюда, они сидели с Дашей, с детьми от Тютчева – Марией и Иваном за большим столом. По комнатам резво бегал, стуча лапами по паркету, пёс Ромп – он настроился поиграться, и Ваня украдкой чесал ему холку.
Говорила, в основном, Даша, делившаяся впечатлениями о поездке на кобыле, а Эрнестина Фёдоровна молча слушала и улыбалась большими, грустными глазами. Потом разговор коснулся Смольного.
Эрнестине Фёдоровне казалось, что обед затянулся, хотя они только сели, но на месте не сиделось.
Накануне в Овстуг пришло письмо, в котором муж сообщал, что собирается приехать на несколько месяцев в усадьбу, передохнуть от бурной столичной жизни. Письмо это пришло, когда Эрнестина Фёдоровна совсем отчаялась и не ждала ничего подобного от Теодора. Лето уже было на излёте – такое же одинокое и скучное, как в прочие года. Неслышно приближалась осень с её дождями и холодами, а с нею безрадостное возвращение в Петербург.
И вдруг эта неожиданная новость, заставившая радостно дрогнуть её сердце.
– Итак, – сообщила она Даше внешне безразлично и немного сухо, – скоро твой папа́ приедет. Наверное, жизнь в Петербурге его, наконец, утомила.
– Я думаю, он скучает, – возразила Даша, – он, верно, скучает по нам!
– Возможно! – кивнула головой мачеха. Но, в том, что Теодор действительно скучает по ним, и, в частности, по ней, Эрнестине, она сильно сомневалась.
Несколько раз она передавала через брата Тютчева Николая Ивановича, сообщения мужу, чтобы тот не приезжал, если уж не выехал до конца августа. Эрнестина Фёдоровна указывала на портящуюся погоду, на возможные болезни или другие напасти, которые могли преследовать его в дороге из-за такой неосмотрительности. «Если он не приедет сейчас, то лучше, чтобы не приезжал вовсе», – говорила она Дарье ровным голосом.
Но, на деле же, за этими пожеланиями, призванными показать её заботу и обеспокоенность, скрывалась глубокая обида, которая диктовала свои условия: если нет его, то и не надо! Пусть будет так, как есть, а она справиться с одиночеством сама.
И вот письмо от него.
А может, – и слабая надежда затеплилась в её душе, – может быть, он порвал с дурными привычками? Вдруг между ним и мадемуазель Денисьевой всё уже кончено? Страсть прошла, как проходит тяжелый послеобеденный сон, могущий вызвать кошмарные сновидения. Вот так вот! Избыток страсти сродни перееданию – иногда они приводят к нелепым последствиям.
Эта мысль ей нравится. Оказывается, не только Тютчеву свойственны остроты! Эрнестина Фёдоровна едва заметно улыбается и с повышенным вниманием принимается слушать пространные рассказы падчерицы о жизни среди институток Смольного.
Дарья тоже оживилась. Хихикая, она взяла в руки серебряный сервизный нож и чертила им на белой скатерти дорожки, изображавшие аллеи возле Смольного, где она гуляла вместе с Китти, и где всегда водилось множество кавалеров.
После обеда Эрнестина Фёдоровна предложила Даше прокатиться на коляске, оправдываясь тем, что Теодор может приехать именно сегодня. Младших детей она решила оставить дома. О письме Тютчева она сперва умолчала, чтобы уготовить им приятный сюрприз, а потом решила не говорить заранее, дабы не расстраивать. Вдруг непостоянный супруг передумает и не приедет, а Маша и Иван будут ждать.
Предложение мачехи не очень подходило Даше – она уже сегодня гуляла и предпочла бы отправиться в беседку на озере, почитать новый роман Генриетты Рейбо. Однако пришлось согласиться, чтобы не обидеть мама́.
Даше хотелось быть деликатной, потому что она жалела Эрнестину Фёдоровну: из трёх сестер-падчериц, она, казалось, была к ней ближе всего. Старшая Анна, которая тоже хотела нравиться мачехе и завоевать её любовь, уже давно бросила это напрасное занятие, найдя, что сердце Эрнестины Фёдоровны отдано собственным детям и для чужих места в нём не хватает.
Самая младшая Екатерина-Китти, была увлечена жизнью в Смольном, ей еще нравилось там, она еще упивалась атмосферой закрытого от посторонних взоров учреждения, в котором были собраны отпрыски женского пола всех столичных фешенеблей. Поэтому на внимание Эрнестины Фёдоровны не претендовала.
Вообще, дети Тютчева от первой жены Элеоноры, удивительным образом скопировали основные черты отца.
Анна оказалась колючей, со скептическим складом ума, готовая видеть в окружающих больше отрицательных черт, чем положительных. Она ценила простой и нравственный образ жизни отчего, будучи фрейлиной при дворе получила прозвище «Святая Анна».
Даша слыла в их семье мечтательницей и фантазёркой.
А младшая Китти, при всей прочей её привлекательности и живом уме, казалась чересчур практичной, щепетильно относящейся к вопросам равенства с мужчинами – и духовного и материального.
Взрослые дочери в последнее время раздражали Тютчева своим незамужеством, и он находил повод жаловаться на это обстоятельство всем: и Эрнестине Фёдоровне, и сестре Дарье Сушковой, и Лёле. Но, конечно, возрастных дочерей он ни в чём не винил, более кляня изменчивую и несправедливую судьбу. По мнению Тютчева, она, эта судьба, была милостива к порочным и пошлым женщинам, пустым и недалеким, но, к сожалению, необъяснимо жестоко обходилась с его собственными дочерями.
Мама́ велела заложить коляску. Эрнестина Фёдоровна так поступала уже несколько дней подряд, после получения письма, чередуя пешие гуляния и конные выезды. Кучер Данила сноровисто запряг лошадь.
– Быстрей, голубчик! – бормотала Эрнестина Фёдоровна, с акцентом произнося русские слова, – быстрей!
– Мама́! – недоумевала Дарья, – да куда ж нам торопиться? Папа́, верно, еще не доехал до Калуги.
Но Эрнестина Фёдоровна не слушала её; с покрасневшим от волнения лицом она поспешила занять место в коляске, судорожно подбирая полы платья. Нетерпеливо толкнула в спину кучера.
Даша была принуждена поспевать за ней, но не понимала: куда так торопится мама́. Вряд ли что-то сегодня изменится, ведь папа́ обычно не торопится. Он любит неспешно путешествовать со своим Щукой, наслаждаться открывающимися видами из окна кареты, хорошо и вкусно обедать в станционных трактирах. Нет, сегодня он вряд ли приедет.
И всё-таки, Элеонора Фёдоровна торопилась. Вот они выехали за кованые ворота поместья. Вот уже несутся по проселочной дороге, пролетая мимо выцветших от солнца полей, крестьянских телег, попадавшихся навстречу, мимо стада коров, медленно бредущих по обочине.
А вот перед ними уже и большой пыльный тракт.
– Ах, кажется, он едет! – вскрикивает Эрнестина Фёдоровна, указываю рукой куда-то, на появившееся вдали желтое облачко густой пыли. Она делает знак Даниле остановить лошадь и вместе с Дашей застывает в напряженном ожидании. Приближается коляска, но…
Какое разочарование!
В ней сидит незнакомый господин с важным видом. Встреченные им дамы, на лицах которых написана тревога и смущение, приводят его в замешательство. Он протягивает руку к шляпе, неуверенно приподнимает её, и также неуверенно улыбается, будто извиняясь, что не оказался тем лицом, которого с таким нетерпением ожидают эти особы.
И тут терпение оставляет Эрнестину Фёдоровну, словно она потеряла опору, будто напрасное ожидание, как вода камень, подточило её внутреннюю твердость. Губы её дрожат, глаза наполняются слезами.
– Мама́, мама́, – Даша ласково гладит её по руке, – не приедет сегодня, тогда дождемся завтра. Он же все равно приедет, он же писал. Приедет, приедет!
На дороге оседает мелкая пыль, никого не видно.
Откуда-то из травы доносится щебетанье птиц, стрёкот кузнечиков, отовсюду льются естественные и живые природные звуки, так диссонирующие с мрачным настроением Эрнестины Фёдоровны. Но она уже вполне успокоилась и с досадой сжимает губы, оттого, что падчерица увидела её минутную слабость. Щеки мама́ сухо горят, в глазах вспыхивает огонёк веселого отчаяния.
Даша, конечно, чувствует её настроение. И не только Даша. Растерянность Эрнестины Фёдоровны, её обида и злость, её горечь, передаются, кажется, всем: и доброй Дарье, успокаивающей её, и кучеру Даниле, понуро сидящему на козлах, и даже лошади, запряженной в коляску и беспокойно подрагивающей рыжими лоснящимися боками.
Позвякивают уздцы. Сильный тугой ветер ожесточенно рвет летние шляпки с голов Эрнестины Фёдоровны и Даши, зонтики из их рук.
«Господи, сжалься над ней! – молится в душе Даша, – сделай так, чтобы папа́ приехал! Прошу тебя, господи!»
– Поедем туда! – нарушает неловкое молчание Эрнестина Фёдоровна.
Она сложила зонтик и ткнула им в сторону пригорка, грязно-зеленая макушка которого виднелась неподалеку. С него открывался дальний вид, и вся дорога лежала как на ладони, прямая, тонкая, словно пущенная кем-то стрела, пронзившая насквозь сердце Эрнестины Фёдоровны и улетевшая далеко за горизонт.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?