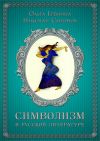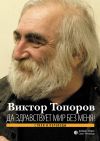Текст книги "Самое главное: о русской литературе XX века"

Автор книги: Олег Лекманов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Книга стихов Владимира Нарбута «Аллилуйя» (1912)
В 8 номере петербургского журнала «Светлый луч» за 1912 год, в разделе «Почтовый ящик», появилось анонимное редакционное письмо стихотворцу Владимиру Нарбуту (его автором, по-видимому, была возглавлявшая журнал Екатерина Уманец): «…сотрудник и поэт Вл. Нарбут, и вам не стыдно? Как хороши были ваши стихотворения, пока вы не записались в декадентский “цех поэтов”, подвизающийся в нашем милом Царском Селе. “Школа Валерия Брюсова”, “школа Городецкого” – как это красиво звучит, но скажите, с каких это пор названные декаденты служат представителями поэтической “школы” <…> Вы певец природы, помните это, у вас есть чисто художественные обороты и настроения; совершенствуйте же дар, данный вам Богом и не будьте подпевалой, вернее, подмастерьем <ни> в каком “цехе поэтов”. Неужели ваше художественное чутье не страдает от такого названия?» [1]
Недоумение и возмущение обманутой в своих лучших ожиданиях редакции журнала легко понять. Дебютировавший во 2 номере «Светлого луча» за 1908 год подборкой из двух вполне традиционалистских стихотворений, в 1910 году выпустивший вполне традиционалистский сборник «Стихи», в апреле 1912 года Нарбут издал небольшую книжку «Аллилуйя» (СПб.; изд. «Цех поэтов»), которая состояла из двенадцати необычайно сложных по форме и чрезвычайно эпатажных по содержанию стихотворений. Из продажи книга была изъята департаментом полиции по постановлению суда за порнографию [2].
Не только наивный рецензент антимодернистского «Светлого луча», но и искушенный Владислав Ходасевич посчитал первую книгу Нарбута «совсем недурным сборником», а вторую – «более непристойной, чем умной» [3]. Литературный наставник Ходасевича этого периода, Валерий Брюсов, к чьей «декадентской» школе Ек. Уманец поспешила причислить Нарбута, также отозвался об «Аллилуйя» прохладно (хотя дебютный сборник поэта Брюсов в свое время похвалил) [4]: «…книжка г. Нарбута содержит несколько стихотворений, в которых желание выдержать “русский” стиль приводит поэта к усердному употреблению слов, в печати обычно избегаемых» [5].
А вот два отзыва синдика «Цеха поэтов», Николая Гумилева, зеркально отразили мнение большинства рецензентов о качественном соотношении первых нарбутовских книг между собой. О Нарбуте как о «певце природы» Гумилев, рецензируя «Стихи» в 1910 году, высказался достаточно сдержанно: «Хорошее впечатление, – но почему пробуждает эта книга печальные размышления? В ней нет ничего, кроме картин природы; конечно, и в них можно выразить свое миросозерцание, свою индивидуальную печаль и индивидуальную радость, всё, что дорого в поэзии, – но как раз этого-то Нарбут и не сделал» [6].
Рецензия Гумилева на вторую книгу Нарбута выдержана абсолютно в ином тоне. Насколько можно судить по гумилевскому отклику на «Аллилуйя», ее автору, по мнению синдика «Цеха», уже в полной мере удалось «выразить свое миросозерцание, свою индивидуальную печаль и индивидуальную радость»: «…в каждом стихотворении мы чувствуем различные проявления <…> земляного злого ведовства, стихийные и чарующие новой и подлинной пленительностью безобразия» [7]. В 1913 году, в письме к Анне Ахматовой, Гумилев дал поэзии Нарбута еще более высокую оценку: «…Я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут, окажетесь самыми значительными» [8].
Сходно писал об «Аллилуйя» второй синдик «Цеха поэтов», Сергей Городецкий: «…Акмеистический реализм и <…> буйное жизнеутверждение придают всей поэзии Нарбута своеобразную силу. В корявых, но мощных образах заключается истинное противоядие против того вида эстетизма, который служит лишь прикрытием поэтического бессилия» [9].
Уже из приведенной подборки цитат совершенно ясно, что, по крайней мере, в одном своем суждении об «Аллилуйя» рецензент из «Светлого луча» был прав: эту книгу правомерно рассматривать в качестве выразительного образчика не только индивидуального творчества Нарбута, но и продукции «Цеха поэтов».
Какое место «Аллилуйя» занимает в ряду стихотворных сборников участников объединения? В чем своеобразие концепции, положенной в основу второй книги «бурлескного натурфилософа Владимира Нарбута» (по удачной характеристике Р. Д. Тименчика) [10].
Цель нашей статьи – попытаться ответить на оба эти вопроса.
1.
Среди участников «Цеха» Нарбут был если не самым последовательным, то уж точно самым задиристым, самым отважным борцом с эстетическими канонами, заданными модернистами старшего поколения (что, как мы еще увидим, отнюдь не мешало ему вступать с символистами в творческий диалог). «Не характерно ли, что все, кроме тебя, меня и Манделя[3]3
Осипа Мандельштама. – О. Л.
[Закрыть] (он, впрочем, лишь из чувства гурмана), боятся трогать Брюсова, Бальмонта, Сологуба, Иванова Вячеслава», – 7 апреля 1913 года обвинял Нарбут акмеистов в письме к Михаилу Зенкевичу [11]. Сам он чувствительно «трогал» и задевал символистов в едких рецензиях на их поэтические книги, публиковавшихся в «Новом журнале для всех» в ту короткую пору, когда Нарбут был главным редактором этого журнала.
Резко негативно высказываясь в одной из таких рецензий об этапной для русского символизма книге стихов Вячеслава Иванова «Cor Ardens», Нарбут, как мы помним, назвал ее «двумя грузными томами». Его собственная главная книга стихов, уступая большинству символистских поэтических книг в объеме, зато превосходила многие из современных ей стихотворных сборников степенью цельности авторского мировидения, или, точнее будет сказать, – умением отразить эту цельность в книге. Отнюдь не срастаясь в поэму, стихотворения «Аллилуйя» значимо подсвечивают и взаимодополняют друг друга на самых разных уровнях. Среди этих уровней: единое художественное оформление книги; единство звучания ее стихотворений; многочисленные образные и мотивные переклички между стихотворениями книги; пространственное единство книги; единство формообразующего приема, с помощью которого организован содержательный материал «Аллилуйя»; общие, сразу для нескольких стихотворений книги, литературные источники.
Стоит сразу же обратить внимание на то обстоятельство, что из 12 стихотворений, составивших «Аллилуйя», только одно – «Горшечник» – до этого публиковалось ранее (в 1 номере журнала «Новая жизнь» за 1912 год). Почти не рискуя ошибиться, можно предположить, что все стихотворения книги Нарбута писались специально, каждое – на свое место. При этом за бортом «Аллилуйя» осталось довольно много нарбутовских текстов, создававшихся в 1911–12 гг., прежде всего, – гладких природных пейзажей, столь милых сердцу рецензента из «Светлого луча». В качестве выразительного примера процитируем здесь первые восемь строк стихотворения «Гроза» (1912):
Клубясь тяжелыми клубами,
Отодвигая небосклон,
Взошла – и просинь над дворами
Затушевала с трех сторон.
Вдоль по дороге пыль промчалась,
Как юркое веретено;
Трава под ветром раскачалась;
Звеня, захлопнулось окно.
Восприятию «Аллилуйя» как компактного целостного «произведения», складывающегося из двенадцати «главок»-стихотворений, немало поспособствовало красочное и отчасти вызывающее художественное оформление книги. Недоброжелательный рецензент, все тот же М. Чуносов (Ясинский), описывал это оформление так: «Тоненькая брошюрка напечатана на великолепной бумаге. Наблюдал за ее напечатанием управляющий типографии “Наш век” г. Шевченко; клише для книги изготовлено в цинкографии г. Голике, а контуры букв заимствованы из Псалтири ХVIII века, принадлежащей г. Лазаренко [гимназическому учителю Нарбута – О. Л.]; набор для обложки сделан в синодальной типографии; над разными украшениями работали художник Билибин, Нарбут (брат поэта) и г-жа Чамберс <…> Терпит же бумага! И еще какая! Пушкин не печатался никогда на такой бумаге» [12].
Михаил Зенкевич (и вслед за ним – некоторые исследователи) даже полагал, что именно разительное несоответствие церковно-славянского шрифта, которым были набраны стихотворения книги, и кощунственного содержания повлекло за собой запрещение и изъятие «Аллилуйя». В неопубликованной беседе с Л. Шиловым Зенкевич вспоминал: «Его “Аллилуйю” конфисковали только за то, что она была напечатана церковно-славянским шрифтом. Ему так нравился церковно-славянский шрифт, что он вот этот церковно-славянский шрифт упросил из синодальной типографии, и туда вот, в “Наш век”, в типографию взяли… И она с титлами, с красным титлом была напечатана… После этого: что такое – “Аллилуйя”? Смотрят, что такое: божественное, должно быть, что-то, а там – херовина какая-то, знаете. После этого ее конфисковали. Ну, ничего, потом 80 экземпляров он успел разослать по журналам».
Еще один фактор, способствующий восприятию «Аллилуйя» как цельного текста, – это единство звучания всех ее стихотворений. Для второй нарбутовской книги характерно настойчивое повторение в разных сочетаниях одних и тех же фонем, в первую очередь – неблагозвучных согласных. В качестве примера приведем здесь цепочку вычлененных нами из «Аллилуйя» слов, в которых сочетаются звуки р и ж: рож (от «рожа»), рожок, прыжок, от ражей (лени), проросший жилками, прожилках, жертва, рыжей, реже, дружней, напряжение, ржавчиной, прижал, кружочки, ржаво-желтой, порохня уж, дрожа, зажмурится, жеребцы, прыгают по коже, невтерпеж, обрюзгший, жаворонок, жарит (на гармошке), жесткие ризы, жаркой [13]. Вряд ли этим сочетанием анаграммировано в книге какое-нибудь конкретное слово, хотя Нарбут, как и Мандельштам [14], анаграмм не чурался. Так, «автобиографический» фрагмент стихотворения «Шахтер», изображающий приставания городского «паныча-студента» к сельской красавице Евдохе [15], лукаво скрывает в себе фамилию автора «Аллилуйя»: «тарабанится под ногу».
Важно упомянуть о многочисленных образных и мотивных перекличках между стихотворениями книги. Так, «чахнущий прапращур» из первого стихотворения «Аллилуйя» «Нежить» вновь фигурирует в третьем стихотворении – «Как махнет-махнет – всегда на макогоне…»: «…шепелявит прадед// (порохня уж сыплется)». Метафорического «пройдоху-таракана» из первого стихотворения книги вновь встречаем в четвертом стихотворении: «И землемер вихры встопорщил, как прусак». А «вдова» – главная героиня шестого стихотворения книги – «Клубника»:
Изволив откушать со сливками в плоском,
губатом сосудике кофия рано,
вдова к десяти опротивела моськам
и даже коту – серой муфте – с дивана, —
мимоходом упоминается в девятом стихотворении книги – «Волк»:
и похоронно воет пес недобрый:
он у вдовы – на страже молока.
Если в третьем стихотворении «Аллилуйя» появляются «барышни», с интересом наблюдающие за соитием жеребцов с кобылами, в четвертом стихотворении изображена «попадья – в жару; ей впору жеребец».
Из стихотворения в стихотворение книги кочуют схожие между собой – природные и рукотворные, реальные и метафорические – мотивы, такие как: избяные углы (1-е ст.: «Шарк – размостились по углам»; 2-е ст.: «Пятится на угол угол»), миски, горшки и кувшины (1-е ст.: «Из вычурных кувшинов труб»; «А в крайней хате в миске – черепе на припечке»; 2-е ст.: «по горшкам гудит ухват»; «Миски дочиста прибиты»; горшки из 5-го ст. книги «Горшечник»; 6-е ст.: «Изволив откушать со сливками в плоском,// горбатом сосудике кофия»), квас (1-е ст.: «кряхтел над сыровцом»; 2-е ст.: «словно яблоки на квас»), окна (2-е ст.: «В стекла узкие окошка»; «В переплет оконных клеток// погрозила кулаком»; 3-е ст.: «над окном кисельно-мутным: ледяным»; «барышни, хихикнув, щурятся в окне»; 4-е ст.: «в засиженном стекле»; 5-е ст.: «недомыты стекол перепонки»; 11-е ст.: «Слезливая старуха у окна»), печи (1-е ст.: «какими полымя кусало печь в низинах»; «черепе на припечке»; 2-е ст.: «на метлу да в печку – пырь») и печные трубы (1-е ст.: «Из вычурных кувшинов труб»; 4-е ст.: «И все, как жерла труб, в размывчивом угаре»), луна или месяц (2-е ст.: «В стекла узкие окошка// месяц втиснул лезвие» [16]; «Зирь, – кружочки ярких денег// месяц сеет – вдоль и вширь»; 4-е ст.: «рожок, что вылущила полночь»; 9-е ст.: «и под луной, щербатой и холодной»), кошки и коты (2-е ст.: «Кошка горбится, мяучит»; «И ноет кошка.// Не зашиб ли кто ее?»; 6-е ст.: «и даже коту – серой муфте – с дивана»; 8-е ст.: «теребил их на постели кот»; 11-е ст.: «Зеленые глаза – глаза кота»), псы (8-е ст.: «Брешут псы на хуторе у пана»; 9-е ст.: «и похоронно воет пес недобрый»), певчие птицы (5-е ст.: «колокольчик в небе песню повторяет…// Вьется, плачет жаворонок невидимка»; 6-е ст.: «язык соловьиный <…> притихнул повсюду»; «Перепел колотит емко в жите»), хлебные злаки (5-е ст.: «усаткой (острой, вырезною)// колосится поспевающее поле»; 10-е ст.: «колосьев ложе» <волосы>; 11-е ст.: «как в осень пашня – вызревшие зерна») и насекомые-паразиты (1-е ст.: «клопа из люльки»; «скребет чесалом жесткий волос: вошь бы вынуть»; 7-е ст.: «А на репчатой шее, как клещ, бородавка»; 8-е ст.: «За ночь спину истерзают блохи»; 10-е ст.: «там – вошь сквозная, с точкою внутри,// впотьмах цепляет гнид, как фонари»).
Разумеется, столь плотный контекст не может не создать у читателя книги Нарбута закономерного ощущения, что действие всех стихотворений «Аллилуйя» разыгрывается на сравнительно небольшом пятачке единого пространства. Узость этого пятачка, впрочем, не следует преувеличивать. По крайней мере, в одном стихотворении книги – «Архиерей» – поэт переносит читателя из села в уездный город.
Отдельно следует сказать о том нерасчленимом единстве материала и приема, которое наблюдается во всех стихотворениях «Аллилуйя».
2.
Выше нам уже приходилось отмечать, что большинство критиков приняло «Аллилуйя» в штыки, оценив ее «настолько низко, насколько это возможно» [17], и аттестовав стиль Нарбута как «грубый, нечистоплотный и нарочитый» [18]. За редкими исключениями, позднейшие суждения о второй книге поэта также сводились к разговору о нарбутовском хулиганстве или – в лучшем случае – о нарбутовском эпатаже бодлеровского толка. А. Д. Синявский и А. Н. Меньшутин, например, писали об авторе «Аллилуйя» как об «акмеисте, специализированном на воспевании «грубой плоти», подаваемой в нарочито сниженной, эпатирующей, «откровенной» манере, близкой к «эстетике безобразного» французских «проклятых» поэтов и русских футуристов» [19]. А Е. В. Ермилова в относительно недавно опубликованной работе осудила книгу Нарбута с суровостью, которая более пристала бы не литературоведу, а критику-современнику: «Возможно, что в авторском замысле действительно вся мировая грязь и слизь, доразумная “тварь скользкая” должны были из своей бездны пропеть хвалу миру и Богу, – “…чтоб из навоза/ Создать земной, а не небесный рай”. Но в итоге все смешалось в одно уродливое варево из людей, зверей, мертвецов, ведьм и т. п.» [20]. (Некоторое недоумение вызывает тот факт, что, говоря об «Аллилуйя», исследовательница, хотя несколько раз и цитирует нарбутовские строки, но упорно – лишь те, которые взяты из стихотворений, в эту книгу не вошедших).
Неудивительно, что малочисленные защитники репутации Нарбута иногда впадают в противоположную крайность и представляют поэта чуть ли не апологетом христианской системы ценностей. Для Нарбута «в земной жизни благословенно все, вплоть до самого низкого и уродливого», – пишут Т. Р. Нарбут и В. Н. Устиновский [21]. «Духовный мир книги православный, в том неканоническом, народном его проявлении, с которым легко уживается так называемая «малая мифология», фольклорная демонология, тот “лес народных поверий и суеверий”, о котором писал Блок». Так трактуют пафос «Аллилуйя» Н. Бялосинская и Н. Панченко, авторы предисловия к наиболее полному на сегодняшний день собранию нарбутовских стихотворений [22].
Нам же сейчас представляется первостепенно важным – попытаться понять, какие чисто литературные задачи ставил перед собой Нарбут, создавая стихотворения «Аллилуйя» и затем объединяя их под одной обложкой.
Чтобы начать конкретный разговор о соотношении материала и приема в книге, необходимо еще раз обратить внимание на ту особенность ее стихотворений, которая уже отмечалась наиболее внимательными читателями. Мы имеем в виду стремление Нарбута максимально усложнить форму своего «произведения», используя все доступные ему способы превратить чтение стихотворений книги в трудоемкий, а зачастую – мучительный процесс.
Первым о своих трудностях, сопряженных с чтением «Аллилуйя», поведал ее наблюдательный и вполне доброжелательный рецензент, профессор С. Адрианов: «Всё это написано сочно, густыми тонами, но сильно попорчено тем, что автор, усиленно ища сугубо выразительных слов, еще не владеет действительно оригинальным материалом, который ему подсказывает его чутье русского языка; из всех этих ядреных простонародных речений и свободного сочетания предложений можно в самом деле выработать нечто яркое и своеобразное, но у Нарбута часто получается тяжеловесная, маловразумительная путаница и примитивная грубость речи. Некоторые строки “Аллилуйи” приходится перечитывать несколько раз, чтобы уловить их смысл» [23].
Следующий шаг был сделан теми исследователями, которые увидели в отмеченной С. Адриановым особенности нарбутовской книги сознательную установку поэта: «Все сделано для того, чтобы затруднить осмысление образов, чтение, восприятие, произнесение» (Е. Г. Эткинд) [24]. «Гротескная статика грузной гармонии облечена в тяжеловесное развертывание синтаксически переусложненного стиха» (Р. Д. Тименчик) [25].
«То, что раньше казалось недостатками Нарбута – обилие провинциализмов, украинизмов, диалектизмов – обернулось теперь яркой самобытностью, – которая только подчеркивалась присущей ему шероховатостью и известной топорностью письма <…> Среди употребляемых им отныне приемов надо отметить широкое, как ни у кого, применение скобок внутри строки – дополнительный ассоциативный ход, придающий мысли новый оттенок и динамичность». Так конкретизировал трудности, возникающие у читателя при знакомстве со стихами «Аллилуйя», первопроходец серьезного изучения творчества Нарбута Леонид Чертков [26].
Попробуем теперь сделать еще один шаг, отметив, что формальная усложненность стихотворений «Аллилуйя» разительно контрастирует с той первобытно-примитивной жизнью, которая описана на страницах книги. Ее персонажи чешутся, ползают по земле, пьянствуют, набивают утробу, воруют еду, дерутся, вожделеют друг к другу и без особого стеснения удовлетворяют свою похоть.
Вряд ли правильным в данном случае было бы уверенно говорить о том, что Нарбут просто решил освежить читательское восприятие провинциального быта, по мере сил сложно описывая примитивную жизнь сельских и уездных обывателей. Соотношение материала и приема в «Аллилуйя» – менее прямое и отчетливое, требующее от читателя и исследователя пройти не одну, а несколько ступеней.
Окружающий мир виделся Нарбуту не всегда приятным, но всегда – «простым и ясно-понятным» [27]. Значит, и изображать его следовало предельно естественно, не прячась за поэтическую гладкопись и красивость. «М. Зенкевич и еще больше Владимир Нарбут возненавидели не только бессодержательно красивые слова, но и все красивые слова, не только шаблонное изящество, но и всякое вообще» (из отзыва Гумилева об «Аллилуйя») [28]. Отсюда отчетливое стремление Нарбута даже не к прозаизации поэзии, а к имитации простонародной устной речи – того необработанного речевого потока, в котором допустимо косноязычие и логические сбои. Недаром речь персонажей книги стилистически неотличима от речи автора [29]:
И паныч-студент, патлач румяный,
шастает с Евдохой по кустам:
«Слушай, всё равно я не отстану…» —
«Отцепитесь от меня, – не дам…» —
«Экая, скажите, недотрога!
Барыня из Киева! Чека!..» —
«Маменьке пожалюся, ей-богу,
Будет вам, как летось…»
Башмака
корка тарабанится под ногу,
и шатырит передок рука.
«Ой, панычику, боюсь – пустите…»
Завалились и всему – каюк.
(«Шахтер»)
Но ведь каждому хорошо известно, с каким трудом воспринимается устная речь, фотографически точно запротоколированная стенографистом.
Так, стремление прочь от символистского «эстетизма» (С. Городецкий), жажда естественности, «простоты и ясности» парадоксальным образом привели Нарбута к многочисленным смысловым темнотам и формальной сложности. Чем дальше поэт уходил от своей первоначальной роли умеренного и аккуратного «певца природы», тем труднее для восприятия становились его стихи.
Показательный случай: спустя 11 лет после опубликования книги «Аллилуйя», во 2 номере харьковского еженедельника «Календарь искусств» за 1923 год, Нарбут напечатал стихотворение «Белье», которое, по сконфуженному признанию редакции журнала, вызвало «несколько писем от читателей с просьбой “разъяснить непонятные стихи”» [30]. Просьба непонятливых читателей была уважена: поэт выступил с необходимыми разъяснениями, а завершил свой комментарий следующим выводом: «Такова диалектика этого стихотворения. Оно – более чем понятно и, пожалуй, – примитивно» [31]. Эта проходная, не оставившая в биографии Нарбута значимого следа ситуация, тем не менее, содержит ключ едва ли не ко всему творчеству поэта [32].
Сырая, демонстративно необработанная хроника сельской и провинциальной жизни, «жирного быта хутора» (С. Городецкий) [33] – вот та перетекающая в содержание форма, которую избрал Нарбут для книги «Аллилуйя». В самой своей примитивности, в самой своей корявости эта жизнь, согласно концепции поэта, есть непреднамеренная, а потому особенно органичная – как и в каноническом образце – сложно организованная – хвала («аллилуйя») Высшей Созидающей Силе – своеобразный псалом во славу Создателя.
Все это, на наш взгляд, и позволяет понять, почему элементарный материал, использованный Нарбутом для построения «Аллилуйя», властно потребовал от поэта сложности и даже вычурности приема.
3.
Попробуем теперь, в поисках развернутой иллюстрации к целому ряду высказанных нами наблюдений общего порядка, детально разобрать первое, магистральное стихотворение нарбутовской книги – «Нежить».
М. Л. Гаспаров указывает, что это «стихотворение, в нарушение всех традиций, вообще не соблюдает цезуры, поэтому в его 6-ст. ямбе нет опорных ударений, ритм становится трудноуловимым, и стих кажется тяжел и громоздок. Это перекликается с его нарочито грубой тематикой (избяная нечисть приносит в печной трубе жертву небу) и затрудненной лексикой (щуры – избяная нечисть, архаизм горе – вверх, сыровец – недоготовленный квас, голомозый – растрепанный, и др.)» [34]. Перечислим некоторые из этих «и др.»: ситуативное занапастилась – пропала, куда-то делась (от запропастилась и напасть); прапращур – предок; щуренок – крысенок (от украинского шур – крыса); хопая – хапая, хватая; турят – выбрасывают; архаизм кровию – кровью; архаизм полымя – пламя; архаизм втуне – напрасно; ситуативное чесалом – рукой (которой чешут за пазухой).
Все стихотворение строится как несколько сменяющих друг друга картинок, иногда сопровождающихся авторскими пояснениями: 1-я картинка (вид снаружи): из избяной трубы валит дым; авторское пояснение: это избяная нечисть приносит жертву «небу» («Творца благодарят за денное и нощное,// без воздыханий, бдение – земные чада»). 1-я картинка, таким образом, служит «продолжением» эпиграфа, предпосланного всей книге «Аллилуйя» (из 148 псалма Давида (7–13): «Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны. Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его. Горы и все холмы, и дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки»).
2-я картинка (вид изнутри): живописуется избяная нечисть – «домовиха рыжая», только что спрыгнувшая с лежанки; ее муж, вытирающий «тряпкой бороду», после того, как он пил недоготовленный квас; их «клоп»-ребенок, вынутый из люльки; и растрепанный старик, горюющий по покойнице-жене.
3-я картинка: «в помойнице» <в углу или снаружи той же избы?> «болтается» крысенок. «…булькая, прикинувшись гнилой веревочкой,// он возится, хопая корки, реже – мясо,// стегает кожуру картошки (елка-елочкой!)// и, путаясь, в подполье волочит все разом». Взрослые, более сильные крысы заставляют несчастного крысенка добывать еду не только для себя, но и для них:
А остальные: – Эй, хомяк, дружней подбрасывай, —
сопя, на дверника оравой наседают:
он днем, как крестовик [35], шатается саврасовый,
пищит у щеколды, пороги обметает.
4-я картинка: обитатели избы задыхаются, «глотая сажу дымохода»; 5-я картинка: на пасеке (они же?) «клубками турят дым, перетряхая пчелами».
6-я картинка: солнце стоит над полем – оно похоже на бельмо расслабленного, вялого <и слюнявого?> божества, которое даже не в силах принять посылаемую жертву:
Но меркнет погани лохматой напряжение, —
что ж, небо благодарность восприняло втуне:
зарит поля бельмо, напитанное лению,
и облака под ним повиснули, как слюни.
Сравним с фрагментом лагерного письма Нарбута к жене: «…можно подумать, что читаешь роман Г. Уэллса “Машина времени”, – ту главу, где говорится о конце земли, потухающем солнечном глазе» [36].
7-я картинка (вид изнутри): обитатели избы<включая крысенка?> «размостились по» ее «углам»; 8-я картинка: в это же время «на пасеке// колоды, шашелем поточенные, стынут».
9-я картинка (крупный план): «Рудая [37] домовиха роется за пазухой,// скребет чесалом жесткий волос: вошь бы вынуть»; 10-я картинка (еще один крупный план): «крайняя хата» той же деревни; уха в миске задернута «пленкой перламутра», и на эту пленку любуется ангелоподобное дитя:
и в сарафане замусоленном на цыпочки
приподнялся над ней ребенок льнянокудрый.
Легко заметить, что простые картинки, в совокупности составляющие стихотворение «Нежить», объединены в единый каталог причудливыми, зачастую алогичными, связями. Так, описание благодарственного курения «небу» на пасеке появляется в стихотворении, надо думать, лишь потому, что оно тоже творится дымом, как и курение, отправляемое «нечистью» в избе. Поскольку эффект «жертвы небу» на пасеке – побочный, неосознанный, то есть метафорический, можно предположить, что и в «избяных» фрагментах стихотворения описывается вполне бытовая сценка – малопривлекательная рыжая баба («раскоряка тощая») варит в печке для своей семьи похлебку из бычьих языков. Дым из печки поднимается кверху – автором эта сценка воспринимается как метафора жертвоприношения нечистой силы «благому» «небу» (возможно также, что бычьи языки – это всего лишь метафорическое изображение сизых клубов дыма):
Из вычурных кувшинов труб щуры и пращуры
в упругий воздух дым выталкивают густо,
и в гари прожилках, разбухший, как от ящура,
язык быка, он – словно кочаны капусты.
Кочан, еще кочан – все туже, все лиловее —
не впопыхах, а бережно, как жертва небу,
окутанная испаряющейся кровию,
возносится горе: благому на потребу.
Еще более немотивированно появление в стихотворении «Нежить» крысенка (щуренка), который никаких жертв «небу» не приносит. Этот крысенок, буквально на наших глазах, рождается из фонетической игры, затеянной поэтом. Первая строка стихотворения завершается упоминанием о «щурах и пращурах», в восемнадцатой строке употреблено слово «прапращур», а еще через строку – диалектизм «щуренок» (сходный звуковой комплекс возникает еще в нескольких стихотворениях книги: «щурятся», «шурша», «крюшоном», «причухравший», «трущобе», «щуплых орешка»).
Н. Бялосинская и Н. Панченко прозорливо указали, что финальные строки первого стихотворения книги, где неожиданно появляется «ребенок льнянокудрый», перекликаются с последним стихотворением «Аллилуйя» – «Упырь», изображающим ребенка-«старичка» – «идиота с набрякшим лицом» [38]. Добавим, что эта связь была подчеркнута автором во втором издании «Аллилуйя» (1922), где последнее стихотворение прямо называлось – «Ребенок». Н. Бялосинская и Н. Панченко полагают, что «от сочетания первого стихотворения с последним» «книга становится трагедийной» – «ребенок-упырь и ребенок льнянокудрый обрамляют эту трагедию» [39].
Можно было бы предположить, что в отмеченной исследователями особенности композиции «Аллилуйя» полемически отразился следующий фрагмент из самого известного философского трактата Григория Сковороды «Начальная дверь к христианскому добронравию»: Бог «со временем, напечатуясь в душе нашей, делает нас из диких и безобразных монстров, или уродов, человеками, то есть зверьками, к содружеству и помянутым сожительствам годными, незлобивыми, воздержанными, великодушными и справедливыми» [40]. В книге Нарбута вроде бы всё наоборот – портрет «незлобивого» ребенка в начале книги сменяется в конце изображением ребенка-«монстра». (Напомним, что эпиграфами из Григория Сковороды сопровождаются три заключительных стихотворения «Аллилуйя», а первое авторитетное собрание сочинений украинского философа вышло в свет в том же, 1912 году, что и вторая книга Нарбута) [41].
Не будем, впрочем, забывать, что в первом стихотворении «Аллилуйя» упоминается не только ангелоподобный ребенок из «крайней хаты», но и грудной ребенок-клоп «домовихи рыжей», которая «клопа из люльки, чуть распоротой// по шву на пузе, – вверх щелчком швыряет рьяно». В финальном стихотворении – «над люлькой – приземистой мамки// щепетильная дмётся копна». Так что никакого особого трагизма в перекличке образов из первого и последнего стихотворений, похоже, нет. В последнем стихотворении дается развернутый комментарий к метафоре «ребенок-клоп» из первого: здесь этот ребенок жадно, как клоп, высасывает молоко из своей «мамки». А «льнянокудрый ребенок» так и продолжает себе жить «в крайней хате», на отшибе – вне магистрального макросюжета «Аллилуйя».
4.
В заключение этой статьи нам представляется уместным сказать несколько слов о некоторых до сих пор не отмеченных подтекстах второй книги Нарбута, чтобы пополнить ими уже и так достаточно обширный список.
Помимо обязательных и очевидных Бодлера и Гоголя, исследователями назывались «русско-украинская литература ХVIII–XIX вв. – народная псалтырь, Г. Сковорода, В. Нарежный, Е. Гребенка, Н. Котляревский, П. Кулиш и др. <…>…ирои-комическая поэма, эпический гротеск XVIII века: В. Майков, Н. Осипов, А. Нахимов, И. Барков <…> капитан Лебядкин, художник И. Я. Билибин» (Л. Чертков) [42], «…озорной фольклор украинских бурсаков» (О. А. Клинг) [43], «Гойя, Босх, голландская живопись эпохи расцвета» (Р. Д. Тименчик) [44], «“Протодьякон” И. Е. Репина и “Кочегар” Ярошенко» (в связи со стихотворениями «Архиерей» и «Шахтер») (Н. Бялосинская, Н. Панченко) [45].
Среди частных дополнений к этому реестру – хрестоматийно-известное пушкинское стихотворение «Утопленник (простонародная сказка)», которое, без сомнения, послужило ритмико-синтаксическим и лексическим образцом для второго стихотворения книги «Аллилуйя» «Крепко ломит в пояснице…».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?