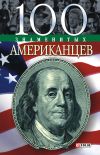Текст книги "КОГИз. Записки на полях эпохи"

Автор книги: Олег Рябов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

IV. Литерарни листы

Мальчик играл на тротуаре. Он что-то складывал из пустых консервных банок, ржавых гвоздей и нескольких паркетных дощечек. В его игре они представляли собой то подъемный кран, то бульдозер, и мальчик разговаривал вслух, комментируя свой мир. Он даже не заметил, как, постепенно передвигаясь на четвереньках, выбрался с тротуара на проезжую часть.
Огромная груженая фура, дымя и воняя жженой резиной, с противным, заглушающим все шумы улицы скрипом, медленно, очень медленно и долго тормозя, остановилась в трех метрах от него. Мальчик удивленно поднял голову и, глядя на внезапно выросшего над ним горячего вонючего механического монстра, испуганно и тихо, но внятно произнес: «Чур-чурок! Я же сказал – чур-чурок-не-игрок!»
1И какая муха меня укусила? Когда я видел Мишку Уральцева, сразу же начинал ерничать. Ведь дружим почти сорок лет, любим, уважаем, тянемся друг к другу, а как только остаемся один на один, вместо того чтобы выпить или песню спеть, он как-то зажимается, будто ждет подвоха, и я, как дурак, обязательно или гадость скажу, или глупость. Вот и сегодня: я настраивал телевизионную антенну на крыше своего маленького дачного домика, почти курятника, и торчал наверху в одних только плавках с молотком в руках, когда Мишкин «Мерседес» остановился на дорожке, ведущей к его участку, в нескольких метрах от меня. Он вышел из-за руля, точнее, почти выкатился и встал, опершись на капот, задрав голову и щурясь от солнца.
– Здравствуйте, уважаемый!
От неожиданности я сел на «конек» и повернулся к нему:
– Привет, Башка! Я чего-то не пойму: домики у нас с тобой вроде недалеко друг от друга, а встречаемся раз в год!
Вообще-то Уральцев сумел построить всех еще в институте, точнее, со времен комсомольской юности. В отличие от всех комсомольских вождей, которые до шестидесяти лет оставались Витями и Левами, он уже в двадцать лет заставил всех, даже однокашников, обращаться к нему по имени-отчеству – Михаил Андреевич. Но это при посторонних. А так он, конечно, для меня оставался просто Башкой, как на первом курсе института, когда он получил такое «имечко» – уж больно он был умен, или сообразителен и хваток по-деревенски. Да и то сказать: за эти годы он и секретарем райкома был, и зампредом райисполкома, и директором какого-то завода, и кандидатскую с докторской защитил, и даже стал каким-то академиком. Не настоящим, которым Академия наук деньги платит, а членом какой-то такой специальной академии, куда за вступление самому приплачивать приходится.
– Да нет, не раз в год – уже года три не виделись. Да я ведь сюда редко приезжаю – только попариться в баньке, а так в Зеленом Городе живу – мы с Алевтинкой там квартиру купили. И близко, и цивильно. А ты большим бизнесменом стал, мне рассказывали: офис, секретарша, автомобиль с водителем да охранники?

– Врут все, Башка! Завистники. Ну, офис есть, секретарши и охраны – нет, а автомобиль – «Волга», что от батьки достался – царствие ему небесное, так на ней и езжу. А офис мне, Миша, необходим, ты ведь меня знаешь: я человек общественный, общественно переживающий, общественно ответственный, но не колхозный. Я со всеми вместе одну лямку тянуть не хочу – мне нужна своя лямка. То, что произошло с нами сейчас, – начиналось в 68-м в Коми АССР, в стройотряде. Ты помнишь? Из-за твоей обиды я в больницу вовремя не попал, легкое чуть не потерял. А получилось все по-моему.
– Да, я очень хорошо помню. Только это была не обида, а звериный страх и за тебя, и за себя, и еще за многих-многих. Я только месяца через три успокоился. Мне кажется, ты до сих пор не понял, что произошло и что могло произойти, не спрячь я тогда эту бумажку в карман. Эта забытая бумажка могла аукнуться не только тебе и мне, у многих других судьба могла по-другому повернуться.
2Что мы тогда строили в 68-м в Коми АССР? То ли аэропорт, то ли газопровод «Сияние Севера», то ли трассу какую-то – не помню. Столько всего строили за свою жизнь! Но в те два месяца летней студенческой жизни много чего происходило впервые: и крыши гудроном заливали, и дороги под асфальт щебенили, и сотни тонн бетона укладывали в опалубки под фундаменты, и плотничали, ставя новые бараки, и лежневки укладывали по мерзлоте и низкорослой полярной тайге. Конечно, были и футбол, и костры, и песни, но главное событие 68-го года, даже спустя сорок лет, комментировать не надо – Чехословакия.
Штаб нашего политеховского стройотряда был в Ухте, это было большое начальство, а наш факультетский отряд человек в шестьдесят базировался в четырех недостроенных бараках рядом с площадкой будущего аэропорта довольно далеко от Ухты.
Мы радовались жизни, зарабатывали свой длинный рубль и по вечерам слушали «Спидолы». «Немецкая волна» и «Голос Америки» держали нас в курсе событий, смачно прокомментировав нам час «Ч», когда советские десантники и танкисты в мгновение ока оккупировали Прагу и наши старшины и сержанты разоружали морально раздавленных чехословацких майоров и полковников прямо в местных пивных.
Как и главный редактор «Правды» был автоматически кандидатом в члены Политбюро, так и я, будучи редактором факультетской стенгазеты, входил в бюро комитета комсомола факультета. Потому я не удивился, когда однажды вечером к нам в барак зашел всегда серьезный Мишка Башка, секретарь комсомольского бюро факультета, и с озабоченным видом позвал меня в кухню пошептаться.
– Завтра в Ухте будет митинг, посвященный пражским событиям. Будут большие гости из Горького и Москвы, из ЦК комсомола. Я буду выступать, и по моему выступлению будет принято и подписано письмо в ЦК партии. Там, в Ухте, – Лева Ямпольский, Сериков, Вадим Увалов, все очень серьезные люди, и мы должны подготовиться. Я тебя прошу, напиши обращение странички на полторы-две. После отбоя, часиков в двенадцать, я тебя жду у себя в домике, и мы поработаем вместе.
Но штабная «шишига» пришла за Мишкой через час, и он на ходу, пробегая мимо нашего домика, постучал в окно и крикнул:
– Привезешь мне выступление в Ухту, в штаб отряда.
У нас с Юркой, моим другом, соратником и соавтором, была трехлитровая банка «Агдама», и мы, попивая его и закусывая тамбовским окороком с мягким батоном, такого понаписали – типа «руки прочь от демократической Чехословакии, строящей социализм с человеческим лицом». Когда на следующий день Мишка Уральцев вылез на трибуну и развернул наш текст, который я успел ему сунуть за мгновение до этого, он стрельнул по нему глазами, а потом с каким-то тоскливым укором посмотрел в мою сторону. Глубину этого взгляда, этой печали, а точнее, совокупности тех чувств, что были устремлены на меня, я не могу передать, но помню до сих пор.
3Потом я примитивно заболел: простуда, ангина, воспаление легких, температура сорок. Лежу в отдельном амбулаторном бараке, в котором хранятся гвозди, топоры и бензопилы. Норсульфазол и аспирин не помогают. Все, у кого были «хвосты» – задолженности по экзаменам, – уехали домой, в Горький, на неделю раньше. Я попросился у Мишки уехать с ними, но он не отпустил: «У тебя же нет пересдачи, значит, остаешься с нами – ты можешь еще понадобиться!»
Понадобился! Последние дни августа, наряды закрыты, бойцам выдали аванс – автобусами всем отрядом наши поехали отовариваться в Ухту. В лагере остались трое. Я, весь потный, мокрый, в бреду, в свитере, ватнике, ватных штанах, под двумя одеялами в мокрой постели. Постель мокрая все два месяца постоянно: если оторвать половицы в нашем бараке, то под ними на расстоянии – нагнись да зачерпни – стоит и мерцает свинцом болотная ледяная вода. Остался «бугор», который сварил себе руку кипящим гудроном на заливке крыши, он повадился каждый день ходить к сестричке в аэропортовский медпункт на перевязку, и у него там сложился «амур». Третий – Хайдар Гимальдинов, который придумал, что ногу себе растянул. На самом деле ему просто денег жалко, он все матери привезет – вдвоем живут.
Этот день для меня до сих пор как кем-то пересказанный кинофильм, а тогда, при температуре сорок, я тем более ничего не понимал, все плыло. Два крепких, молодых, здоровых мужика появились у нас в бараке незадолго перед обедом.
– Ну, студенты, вставайте, выручайте.
– А что случилось?
– Знаете, тут километрах в полутора от вашей точки лежневка новая в сторону Вуктыла проложена?
– Знаем!
– Так вот, у нас там машина тонет. Лежневка раскатилась в самом неподходящем месте. Если сейчас мы ее не спасем, к утру машина утонет!
…Дальше было как в бреду, как во сне: сломали замки на складе, вытащили бензопилы «Дружба», канистры с бензином, заправили. Где по колено, а где и проваливаясь по пояс в болото, что-то делали, заводили куда-то тросы, чтобы могучий трехосный военный «Урал» мог вытащить провалившийся в какую-то лужу самосвал «Татра». Наши ребята приехали вовремя и, сменив нас, троих инвалидов, действительно помогли работягам, попавшим в беду. Под вечер пришли эти шоферы в наш амбулаторный барак. Каждый поставил на стол по две бутылки. Их скромные этикетки сегодня мало кто помнит: «Спирт питьевой» по пять шестьдесят две. Слов благодарности никто не произносил: все было принято как само собой разумеющееся.
Наутро я выздоровел – температуры не было, кашель прошел, осталась лишь легкая слабость и противный осадок во рту.
4Кашлять серьезно я начал в октябре, кашлять и потеть. Кашлял я так, что не давал спать домашним. Участковая врачиха Репьева, настоящая дура, в течение трех недель ходила ко мне домой, продлевая больничный, и каждый раз констатировала ОРЗ, пока наконец не созрела и не вызвала «Скорую помощь», вписав неряшливым почерком свой окончательный диагноз – тиф.
Меня отвезли в инфекционную больницу. Деревянный корпус обогревался печками, которые мы топили с утра до вечера. И хотя старые печки грели плохо, а установившиеся ноябрьские морозы и тягучий ветер с Оки выстуживали помещения очень старательно, к вечеру мы умудрялись накочегарить температуру в нашей палате градусов до тридцати. И тогда на корточках около открытой печной дверки, кто в белых подштанниках, кто в голубых кальсонах, мы курили, пуская в печку струйки дыма, не обращая внимания на нянечек, медсестер и дежурного врача.
Сейчас, через много лет, точнее, прожив много лет, я понимаю, что в моей жизни кое-что – и очень часто – зависело от счастливых случайностей. Так вот: после недельного пребывания моего в тифозном бараке к нам случайно заехала какая-то комиссия во главе с большим светилом из лучшей городской 5-й больницы. Светило-профессор был маленький, плюгавенький, лысый, какой-то сморщенный и серый. Вся эта комиссия, зайдя в нашу палату вслед за этим сморщенным старичком, почему-то остановилась у моей кровати. Профессор со мной даже не разговаривал: он задал два вопроса лечащему врачу, посмотрел историю болезни, оттянул мне веко, пожамкал мне живот, потом ухом прислонился к моей спине и что-то внимательно и долго там выслушивал. Потом медленно и тихо заговорил, непонятно к кому обращаясь:
– Глупцы! Немедленно отвезите его в железнодорожную больницу, к профессору Альперту, на нашей машине. Пока мы продолжим осмотр, успеете. Пусть Альперт больного просветит рентгеном и письменно сообщит мне диагноз, заключение и рекомендации. А тебе, – постучал меня по груди, – советую послушать не письменные, а устные рекомендации этого Альперта. Все, пошли в следующую палату, – и профессор повернулся ко мне спиной, уводя комиссию в коридор.
С туберкулезным профессором Альпертом разговор был неприятный, но емкий, многозначительный и запоминающийся, как и сам профессор, весь засыпанный табачным пеплом, плешивый и с неудачно подобранным стеклянным глазом. Покрутив меня, голого по пояс, перед рентгеновским аппаратом, он недолго что-то писал на клочке бумаги для приславшего меня старичка, потом сунул этот клочок мне в руки со словами:
– Я лучше позвоню ему. А тебе вот что скажу. Дело твое хреново и очень хреново: правое легкое у тебя темное! Затемнение очень большое. Кстати, ты куришь?
– Да! А что, надо бросить?
– Нет! Если сейчас бросишь, процесс только ускорится: будешь кашлять – легкое будет рваться еще быстрее. Ты еще кровью не кашляешь?
– Нет! – сказал я и соврал: уже дважды – один раз дома и раз в больнице – я откашливал кусочки слизи, но не темные, а алые, оба раза – после надсадного кашля.
– Слушай, студент, меня внимательно. Несколько месяцев назад ты перенес воспаление легких, и очень сильное, на ногах. Судя по шрамику под мышкой, у тебя с детства туберкулезная интоксикация, то есть предрасположенность. Но в этом я могу ошибиться. Сейчас у тебя идет очень нехороший процесс – начальная форма чахоточки, то есть туберкулеза. Каверна, дыра в твоем легком, которая вот-вот образуется, будет сантиметра три-четыре, и мы ее уже не заштопаем. Лечится это только покоем, питанием, хорошим настроением и неприятным лекарством, которое я не могу тебе прописать, потому что лекарство это цыганское, и тебе с батькой твоим надо сходить к моей теще – она цыганка и поможет тебе. Не смотри на меня так – с твоим отцом мы хорошие друзья, и я ему сегодня, да прямо сейчас, и позвоню.
Дальше ничего интересного не произошло. В декабре меня выписали из больницы, я оформил в институте академический отпуск и устроился работать лаборантом к Ивану Катаеву, вспыхнувшей новой ученой звезде. Звезде – потому что он защитился, как говорили в научных кругах, «по-горьковски»: защищал кандидатскую диссертацию, а в Москве, в ВАКе, ему присвоили докторскую – этим путем прошли до него наши будущие академики Андронов да Гапонов.
Кроме этого, я ежедневно утром пил цыганское лекарство, рецепт которого я все же опишу.
Берутся десять яиц и десять лимонов, яйца укладываются рядышком на большую глубокую тарелку и обкладываются кашицей, полученной из измельченных, протертых, очищенных от цедры лимонов. Через сутки, когда лимонная кислота съест кальциевую скорлупу, яйца аккуратно ложкой вынимаются из тарелки, и из них делается яичница. Оставшейся в тарелке лимонно-кальцинированной кашицей обкладывают новые десять яиц. Так делают трижды. После чего этот лимонно-кальциевый сок размешивают со стаканом растопленного сала (рекомендуемая последовательность: барсучье, медвежье, собачье, свиное; в моем случае – медвежье). Добавляют стакан очищенных листьев алоэ, пропущенных через мясорубку, поллитра жидкого меда, банку какао «Золотой ярлык» и бутылку коньяку. Лучше всего эту дрянь закусывать селедкой.
5В это время, после больницы, я неожиданно близко сошелся с одноклассником (или одногруппником) по институту – уже бывшим, так как я оставался на второй год, – Витькой Калядиным. Про таких, как он, в доброе старое мирное время, до революции, говорили: родился с серебряной ложкой во рту, а позднее, наверное, – с партбилетом в… Отец у него был большой партийный функционер, и Витькиной любимой присказкой было: «Нерешаемых вопросов для нас не существует!» Витька ходил вразвалочку, перетряхивая себя с ноги на ногу, и постоянно шевелил всеми пальцами рук. Он любил встать чуть-чуть поодаль центра какого-нибудь события или действия и почти сразу дать неожиданный совет – будь то заливка бетона, решение задачки по термодинамике или состав сборной СССР по хоккею.
Вот и в тот замечательный предпоследний декабрьский вечер мы сидели у Витьки дома и смотрели хоккей по телевизору, когда пришел его отец с работы, слегка навеселе и чем-то очень довольный. Сначала он уселся с нами и активно стал смотреть хоккей, повизгивая и подпрыгивая во время острых моментов. А после матча он почему-то обратился к нам с Витькой:
– Сейчас я вам прочитаю одну небольшую статью, которая по своему значению сравнима с «Апрельскими тезисами» Ленина. Ну, если я и преувеличиваю, то ненамного. По крайней мере крови из-за нее уже пролилось, да и еще прольется. – Витькин отец вытащил из пальто небольшую, но пухлую брошюру в грязно-голубой обложке и положил перед собой, разыскивая по карманам очки. Я сразу понял, что лежало перед нами на столе. Это был так называемый «белый ТАСС» – ежемесячник, издаваемый где-то в Кремле для членов Политбюро и первых секретарей обкомов с обложкой, украшенной грифом «Совершенно секретно» и помеченной двузначным числом: каждый экземпляр имел свой номер. Для диссидентствующей элиты нашей страны этот сборник был чем-то вроде «Черной ленты» или «Летучего Голландца» – легендой. Именно в этом сборнике печатались разного рода открытые или закрытые письма, сведения о голодовках Галанскова и Добровольского в мордовских лагерях, описывались события в Новочеркасске и демонстрации антисоветчиков на Красной площади. В этом сборнике, непонятно для кого и зачем, был напечатан и знаменитый манифест «пражской весны» чешского писателя Людвига Вацулика «Две тысячи слов», который еще по одноименному изданию, где он впервые появился, назывался среди интеллигенции «Литерарни листы».
Эту-то статью и прочитал нам Витькин папаша, предварив небольшой, довольно продуманной речью, а точнее, репликой.
– Вот вы должны понять, насколько опасна бывает правда, если ее попользует человек, не переступивший «порога боли». Помните, как в «Театральном разъезде» у Гоголя патриот в кавычках обращается к собеседнику, а вероятнее всего, к нам: «Но зачем об этом говорить – ведь это ж наши раны?!» Вот и эти «Литерарни листы», или «Две тысячи слов», – вроде бы все правда, если звучит из наших уст, а этот негодяй-борзописец вывел людей на улицы, кровь пролилась.
Витькин отец начал читать:
«…Большая часть народа с надеждой восприняла программу социализма. Но за ее осуществление взялись не те люди. Скверно то, что у них не было обыкновенной мудрости… чтобы они позволили постепенно заменить себя более одаренными людьми…
…Коммунистическая партия народное доверие постепенно начала разменивать на должности, пока не получила их все, и тогда у нее ничего не осталось. Это осознают и те из коммунистов, чье разочарование так же велико…
…ее союз с государством привел к тому, что исчезло преимущество глядеть на исполнительную власть со стороны… Выборы потеряли смысл, законы – вес…
…ни одна организация не принадлежала на самом деле ее членам, даже коммунистическая…
…демократизация. Этот процесс начался в коммунистической партии. Мы должны об этом прямо сказать – те, которые от партии уже ничего хорошего не ждали…
…правда не побеждает, правда просто остается, когда прочее уже разбазарено…»
Я слушал этот текст совершенно ошарашенный и мимо ушей пропустил комментарии и пространные словоизлияния Витькиного отца. Но больше всего я был поражен Витькиной реакцией на мою просьбу, с которой я к нему обратился у входной двери, уже напялив шапку:
– Вить, а дай мне на день этот журнальчик дома почитать. Я вам первого его занесу.
– Да возьми, чай, говна-то мне не жалко! – И мой друг через минуту вынес брошюру из комнаты.
6Когда я позвонил Валерке Пашуто, нашему инженеру, а одновременно и катаевскому аспиранту, он долго не мог понять, чего я хочу.
– Валера, я знаю, как тебе не повезло – дежурить в новогоднюю ночь! Хочешь, я за тебя отдежурю?
– Я что-то не понял?
– Повторяю! Если хочешь, я могу за тебя просидеть новогоднюю ночь в лаборатории, в институте.
– У тебя что, обострение? Ты же вроде не в психушке, а в дристушке лежал?
– Нет, Валер, я просто поругался со своей девушкой. А объяснять свои личные конфликты родителям я не хочу. Мне легче сказать, что назначили дежурным по институту.
– Ну, что ж, студент, с меня и моей Наташки тебе пузырь. Ждем в гости первого января. Дежурство твое всего двенадцать часов. С девяти вечера до девяти утра. На вахте тебе по пропуску ключ от лаборатории дадут под расписку. А вообще-то в новогоднюю ночь в институте будет тридцать человек дежурить. Из них в первом корпусе пятнадцать. Так что там нескучно будет!
Целью моего ночного дежурства была портативная печатная машинка «Оптима», личная машинка Катаева, стоявшая у него под столом. Тогда печатные машинки выдавали в спецотделах организаций, и шрифты всех машинок были сняты, скопированы для облегчения идентификации. По возможностям использования в преступных целях это устройство стояло где-то между охотничьим ружьем и автоматом Калашникова. Я не умел печатать на машинке и не представлял себе трудоемкость своего предприятия, но был уверен в успехе.
После проводов старого года и встречи нового в вестибюле института, где присутствовали дежурный электрик, дежурный пожарный, два вохра и еще трое таких же, как я, лаборантов, веселье продолжилось, но я его покинул, весь распираемый изнутри адреналином и жаждой деятельности.
Утром на мой звонок дверь в дом неожиданно открыл брат Саша. Он давно уже жил и работал в Серпухове под Москвой и появлялся дома лишь по большим праздникам. Мы с ним обнялись, и он потащил меня курить в ванную комнату.
– Родители уехали на лыжах кататься в Кузнечиху. Я чайник только что заварил. Сейчас покурим, и я буду тебя кормить. – Однако обладание новой информацией и материальным богатством в виде машинописи «Двух тысяч слов» (журнальчик я успел занести Витьке домой сразу после дежурства) распирало меня настолько явно, что брат неожиданно замолчал, внимательно посмотрел на меня и сказал совсем другим тоном: – Ну, давай рассказывай, что у тебя случилось.
Я без лишних разговоров вытащил из кармана неряшливо и неумело отпечатанный ночью текст и протянул Саше. Он сразу углубился в чтение, но это прочтение было каким-то беглым, без эмоций, и я чувствовал, что Сашины мысли витают где-то очень далеко.
– Здорово! Это очень здорово, – сказал брат после того, как я рассказал ему всю историю с новогодним дежурством и перепечатыванием манифеста из «белого ТАССа». – А сколько у тебя сейчас экземпляров этих «Литерарни листы»?
– Три! – ответил я.
– Слушай, мне как раз три надо. Ты можешь мне удружить: дай мне все три экземпляра, сейчас.
Любовь к старшему брату – это чувство, которое может понять только младший брат: преклонение, обожествление и все-подчинение. В тот же момент я отдал все три экземпляра выстраданного текста брату, приговаривая какие-то глупости вроде:
– А ты знаешь, что Дубчек вместе с Катушевым у нас в политехе учились?
– Нет, не знал! Это интересно. А скажи, у тебя много всякого «самиздата», кроме этого, еще есть?
– Ну, есть «Воронежские тетради», «Стихи к роману», «Купюры к “Мастеру”», письмо Федора Раскольникова, Камю «Чума в Оране».
– Слушай, а ты мог бы все это подарить мне сегодня, и мы с тобой вместе сделали бы одно хорошее дело и, я думаю, очень важное!
– Да, конечно, могу! Даже рад буду, если мы что-то вместе сделаем, – я пошел в комнату, достал из письменного стола папку с «самиздатовскими» рукописями и машинописями и принес их в ванную к брату. Он взял папку, не торопясь, в течение минут десяти, молча, перелистал ее всю и неожиданно, как-то сурово стиснув зубы, спросил:
– Ты все это мне даришь?
– Да!
– И я могу это дарить кому угодно и делать с этим что угодно?
– Да, – ответил я недоуменно.
Саша закрыл дверь в ванную комнату, открыл форточку, взял с подоконника коробок спичек и начал методично, листок за листком, сжигать все мое богатство, наполняя белоснежную ванну хлопьями черного пепла.

Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?