Текст книги "Прощание"
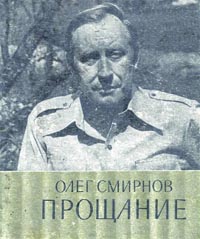
Автор книги: Олег Смирнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
30
Крукавец снял мазепинку с пришитым Агнешкой жестяным трезубцем, одернул кургузый пиджак, перед зеркалом в шифоньере пригладил чуб, поправил съезжавший набок галстук-удавку. Не приучен он к этим интеллигентским ошейникам, хоть и считается учителем. Но к священнику не заявишься абы как одетым. И с пустыми руками не заявишься, потому и приволок пару бутылок горилки, брусок сала, круг колбасы, немецкие рыбные консервы, моченые яблоки. Целую корзинку! Хозяин дома благосклонно принял содержимое корзины, бутылки спрятал в шкаф, повел рукой: проходи, сын мой. В сыновья ему Крукавец не годился, но был все-таки лет на десять – двенадцать моложе. Разница! Да ведь и не кто-нибудь это, а священник. Служитель бога. Никто, никакой представитель власти не пользуется у крестьян таким влиянием, как священник, как ксендз. Да и он, Степан Крукавец, о боге вспомнил, прежде его не очень жаловал. Потому и пришел вечерком к священнику поговорить, рассеять сомнения, успокоить душу. С почтением пришел. Хотя и сам не маленький – старший над местными полицейскими.
Священник пригласил Крукавца садиться, тот присел на краешек венского стула, стесняющийся, скованный. Сверкали зеркала, хрустальная люстра, натертый воском паркет – дом священника лучший, богатейший в округе. Даже служанка есть. Крукавец стеснялся себя, своих красных, обветренных лап, съезжающего в сторону галстука-удавки, кургузого пиджачка, своей грубости, неотесанности – и смятенности. Да, так было на сердце. Выговориться надо, послушать священника надо, успокоит, это он умеет – успокаивать паству. За тем и Крукавец пришел.
Но беседа не завязывалась. Крукавец прокашлялся. Священник сверкнул золотыми очками, здесь и очки сверкают! Он был поджарый, лысеющий, с выпуклым лбом, с тонкими губами и тонкими пальцами. «Выпить бы», – с тоской подумал Крукавец. Совсем стал, как Мельник, который Антон, не Андрей. Хлещет с некоторых пор на манер Мельника Антона – стаканами, становясь развязным, болтливым, как и тот. Любовниц своих и Агнешку позабросил, пес с ними, бутылка его полюбовница. Она не подведет, согреет и обласкает. Под градусом и сомнения, страхи, терзания притупляются и жизнь не так уж плоха. А тут сидит трезвый и молчит. Говорить надо!
– Вы, отец мой, все знаете, – сказал Крукавец.
– Спрашивай, сын мой.
– Я буду по правде, как есть. Можно?
– Иначе незачем было приходить к духовному пастырю. Слушаю тебя, сын мой.
Сын, может, и не сын, и отец, может, не отец, но пастырь – то так. Нужно откровенно, чего же в прятки играть? Вся жизнь, однако, и есть игра в прятки. Да и сейчас Степан, который не Бандера, а Крукавец, хитрит, пытается переиграть паскуду по имени судьба, которая хочет схватить его за глотку, эту мертвую хватку он по иным ночам ощущает своим горлом.
– Отец мой, Германия очень сильна?
– Очень.
– А Советы?
– Сильны. Возможно, сильней Германии.
Крукавец вытаращился. Пастырь не опасается, говорит в открытую? Крукавец отдышался, спросил:
– Вы что же, отец мой, считаете, что Россия победит Германию?
– А вот этого я не говорил.
Хитрит, изворачивается? Да нет, он же действительно ни о чьей победе не заикался. Но неужели он не за Гитлера, ведь Андрей Шептицкий за немцев, Андрей Шептицкий их любит больше, пожалуй, чем украинских националистов. Что за пастырь? Или он Крукавца пытает, что-то хочет выпытать, а после донести? Не может того быть, духовный же пастырь, ты, Крукавец Степан, вовсе свихнулся! Давай напрямки, для этого же пришел.
– Отец мой, но если Советы сильней, то почему германские войска вон уже где?
– Советы еще не мобилизовали все свои силы, они только разворачиваются.
– А успеют ли развернуться? – Крукавец позволил себе ухмыльнуться. – Адольф Гитлер объявляет, что скоро в Москву войдет!
– Успеют ли? Истина скрыта в облаках. Но что разворачиваются, несомненно. Можно судить по тому, как растет число партизан здесь у нас, на Волыни, в Галиции.
– Партизаны – это бандиты.
– Пусть так, сын мой. Но число их растет, и они, становятся все более дерзкими. А ты не боишься их, сын мой?
– Не боюсь, – сказал Крукавец по возможности твердо.
– Напрасно. Они беспощадны, и тебе следует это учитывать. – И священник униатской церкви начал перечислять: в том местечке партизаны казнили старосту, на том хуторе – полицая, в лесу – двух полицаев.
Крукавец был наслышан про эти случаи, но в устах духовного пастыря они приобретали новый и невероятно зловещий смысл. Ну и священничек! Называется, успокоил душу. Да как ее успокоить? Поначалу казалось: партизаны – это кучки удравших в леса, не сумевших эвакуироваться коммунистов, ну еще кучки военных из разбитых немцами частей. Думалось: военные сдадутся – голод не тетка, немцы вон куда продвинулись, коммунистов переловят, и конец. Но шло время, и партизаны набирали силу. Тошно жить, сознавая: придут из лесу и вздернут тебя на суку, в лучшем случае пристрелят, как суку. Поиграйся, поиграйся словами, Степан, только не доиграйся в делах своих. Где же выход?
– Успехи германской армии, – сказал Крукавец, – это наши успехи…
– Истинно, сын мой. Ее успехи – наши успехи. Мы идем за Адольфом Гитлером!
Ну вот, а Крукавец едва не принял его за некую разновидность красного священника, попадались и такие среди церковнослужителей – не красные, а так, розовенькие. Петляет, как-то уважаемый хозяин дома, духовный пастырь, и туда повернет и сюда. А свои, местные партизаны, прикокнут в любую полночь. Их нужно бояться, прав, прав священник. Но если боишься, то как же ты будешь бороться с ними? Он спросил об этом хозяина, и тот ответил:
– Бояться – не равносильно трусить. Бояться – равносильно быть осторожным. Чтоб враг не застал тебя врасплох. И еще бояться – значит соблюдать разумность, трезвость в своих поступках, не прибегать к излишней жестокости.
– Да, отец мой, – ответил Крукавец, и в который раз перед ним возникли застреленные им советки. Потом много было другого, но три советки положили начало этому многому другому, за которое могут взыскать.
– Я не призываю тебя, сын мой, к мягкотелости, к дряблости. Ты воин, ты должен быть твердым и жестоким. Но в меру! А чрезмерная жестокость вызывает в народе отрицательные чувства, идет во вред нашему общему движению, борьбе за самостоятельную и независимую Украину…
В народе отрицательные чувства? На народ Крукавцу наплевать, а вот партизаны могут влепить свинца или вздернуть на веревке.
– Да и германские друзья бывают недовольны, когда наши эксцессы предаются широкой огласке…
– Германские друзья отмачивают не хуже националистов, – сказал Крукавец. – Не слыхали?
– Кое-что слыхал. Но что позволено немцам, не всегда позволено нам, это историческая закономерность…
– Я молюсь за здоровье наших фюреров, за Степана Бандеру да Андрея Мельника.
Священник сказал:
– Предпочтительней молиться за одного, двоевластие нетерпимо, фюрер должен быть один, я имел в виду – вождь, глава.
– Я молюсь за здоровье главы униатской церкви графа Андрея Шептицкого! – поспешно сказал Крукавец.
– …митрополита Андрея Шептицкого, – сказал священник.
Крукавец заметил, что взгляд у священника зоркий, цепкий, подумал: ему очки не нужны. Носит, чтоб прятать глаза, а самому высматривать.
– Видишь ли, сын мой, – говорил священник, – знамя национализма не следует пятнать без надобности. Разумеется, борьба есть борьба, и всякое происходит. Бывают вынужденные шаги, когда без крайних акций не обойтись. Но в принципе следует держаться в рамках. Иначе, кроме осложнений, мы ничего не получим… Мои прихожане, например, жаловались на крайности, допускаемые оуновцами, полицией…
– Так наша же власть должна быть страшной! – перебил Крукавец.
– Тайно – да, страшной, явно – гуманной, понял, сын мой?
– Понял. Чтоб было шито-крыто-перекрыто?
Впервые за вечер хозяин поморщился, сказал со строгостью:
– Сын мой, не огрубляй. И не упрощай. Скрытность – сильный наш козырь. И церкви и националистического движения. Народу не надо все видеть, что у нас и как происходит. Но он должен быть на нашей стороне. В противном случае движение выдохнется, без опоры…
Крукавец думал по этому поводу другое: как ОУН скажет, так и будет, народ беспрекословно выполнит, но высказывать свое суждение, не стал – слова священника о скрытности были тут же приняты к исполнению. Ну его, не успокоит, не рассеет. Будь сам себе советчиком. Ради приличия посидел еще полчасика, но было неинтересно, было скучно. Священник монотонно и заученно, как проповедь, говорил о святом предназначении националистического движения, призванного возродить великую Украину. И Крукавец вежливо улыбнулся. Попил чаю, раскланялся, сопровождаемый хозяином, вышел на крыльцо, надел мазепинку. Священник, прощаясь, сказал:
– Помни, сын мой: великое дело требует великих душ, будь достоин своей миссии.
– Помню, отец мой. Спасибо за беседу.
Крукавец шел по улице, и дождь будто шел за ним следом. Его любимая погода, а вот сегодня не радовала. Злила: плетись по грязи, мокни. Сидел бы дома, так нет, поплелся на разговор со священником, дурак. Но и дома – что за радость? Куда надо было пойти? Кому он нужен? Никому. Но и ему никто не нужен. Будьте все трижды прокляты! Улица была пустынна, хотя во дворах слышались живые, ненавистные Крукавцу звуки. «Кось, кось!» – звали лошадь возле беленой хаты под соломенной крышей. Собака бегала по проволоке от хаты до хлева: «Гав, гав!» – надрывается, пристрелить бы, парабеллум в кармане, разжился у немцев, обменял на горилку. На колокольне ударил колокол. Заведение священника, с коим беседовал: на церковных куполах четыре креста, пятый – на звоннице, звони, колокол, звони. По ком? И над кем завтра встанет могильный крест?
Он шел мимо богатых дворов с добротными хатами, амбарами, хлевами, клунями, обсаженных грабами, обнесенных изгородями, и мимо бедняцких хат, не огороженных, с развалившимися печными трубами, – как занесло их в центр, их законное место – на краю села. В центре был и майдан, и Крукавец вспомнил: в июне здесь богатеи наспех сколотили из досок столы и, встретив немцев с хоругвями, угощали за этими столами праздничным обедом, поили самогоном и белой, будто молоко, сивухой, а немцы угощали шнапсом, на майдане же выбирали потом старосту. Еще раньше, в сороковом году, на майдане выбирали колхозное правление и председателя, которого при немцах повесили. Сколько надежд было у Крукавца на приход немцев! И что же? Они пришли, а кто он? Всего-навсего полицейский, пусть и старший над другими. В июле он чуть ли не со слезой умиления читал в бандеровских листовках, как националистическая часть во главе с Романом Шухевичем, опередив немцев на семь часов, вошла во Львов, и над ратушей, над городом, вечно хранимым каменными львами, взмыло сине-желтое знамя. Дурак слезливый, где твои надежды?
Он побродил по майдану – площадь для сходов и праздников казалась вытоптанной не людьми, а скотом, – снова шатался неприкаянно по сельским вечерним улицам и думал: к кому податься, с кем бы выпить крепенько? К какой из баб зайти, или к кому из хлопцев, или домой, к Агнешке? И внезапно решил: к Мельнику! Когда он постучал, Мельник через запертую дверь хрипло, пропито спросил:
– Кто? Кого носит?
– Я, Крукавец.
Щелкнула щеколда, Мельник отступил вглубь. Крукавец шагнул в сени, и обдало запахом чего-то закисшего. Мельник открыл дверь в хату, Крукавец шагнул в комнату, и обдало запахом самогона и чеснока. В углу сумрачно, печально светится образ божьей матери, перед нею на божнице – пучок засохшей травки. В другом углу – постель, на ней под рядном спит жена Мельника. Не остерегаясь разбудить ее, Крукавец гаркнул:
– Слава Украине!
– Слава героям! – гаркнул в ответ Мельник.
Этим националистическим приветствием им следовало обменяться сразу вместо «здравствуй» или «вечер добрый», Крукавец тут промешкал. Невелика вина, да и Мельник невелик барин. Без приглашения плюхнулся на лавку, спросил:
– Не помешал? Принимай гостя.
– Это можно. – Голос уже без испуга, окреп, уверенно-хозяйский. – Жинка!
Женщина на постели завозилась, ногой отбросила рядно, села – в ночной льняной рубашке, протерла глаза:
– Матка боска, кого к ночи принесло?
– Поворачивайся живо, – сказал Мельник. – Яичнго пожарь, сала нарежь, колбасы, соленых огурцов давай.
Позевывая и ворча, в накинутой поверх рубашки драной кофтенке, жена сноровисто затопила печь – хворост потрескивал за милую душу, – березовым веником подмела под столом, собрала еду. Мельник заглянул в боковушку, повозился у посудника, принес литровую бутыль. А у Крукавца – шиш, заявился с пустыми руками, не по обычаю. Начнем пить, дорогой хозяин, будь ты проклят! Ты ненавидишь меня, я тебя. Квиты. Когда-нибудь и всерьез расквитаемся. А сейчас я у тебя в гостях. Будем пить, разговоры плести. Я умней тебя, грамотней. И ты боишься меня, это приятно. Вынимай зубами кукурузную кочерыжку из горлышка, разливай. Пьем, Мельник Антон, батяр и сволочь! А ты знаешь, сифилитик, вор, козел вонючий, шкура продажная, что я могу тебя нечаянно пристрелить и сбросить в овраг.
31
Павших в операции на станции партизан Скворцов помнит каждого в лицо, – как когда-то павших на заставе бойцов-пограничников. Он упорно внедряет в обиход, чтоб партизан именовался бойцом, по-армейски. И не без успеха… Ночью Скворцов лежал, закинув руки под голову, маялся бессонницей, и его посетила мысль: как будет на Земле, когда перемрут участники нынешней войны, солдаты и партизаны, что будет с народной памятью? Само собой, сперва надо, чтобы люди пережили войну, дотянули до победы. Кто-то дотянет! И что же все-таки будет в мире, когда лет через двадцать, тридцать, сорок после победы они один за другим умрут от старости, ран и болезней? Кто сохранит память очевидцев и участников войны? В жизнь придут новые поколения. Сохранят ли они народную память об этом времени, равного которому, по-видимому, нет в истории? Или память будет тускнеть? Глохнуть и слепнуть? Не может того быть!
Ночью надо бы спать, думать – днем. Скворцов думал и днем. О многом думал. О тактике, например. Отряду нельзя топтаться на пятачке, действия должны быть маневренными: нанесли мы удар здесь, а уж, глядь, очутились там. Ищи-свищи ветра в поле. А чтоб действия были маневренные, хотя бы часть отряда посадить на лошадей. Подводы, конечно, штука неплохая, но тихоходная. Кавалерия – вот что надобно. Для начала посадить на коней разведку. А раздобыть немецкую машину? Шоферы есть. Да, да, необходимо наносить стремительные удары и столь же стремительно уходить. Это нынче сошло с рук, обошлось без преследования. Еще: не попробовать ли проводить дальние рейды? То есть значительно расширить зону действий отряда, выходя не только за пределы района, но и области. Нужно улучшить агентурную работу. В селах есть свои люди, их бы активизировать, и тогда мы сможем получать более обильную информацию, планировать боевые операции на более достоверной основе. Все-таки это радостно: при забитости местного населения, при страхе перед расправой люди помогают нам.
А как быть с численностью отряда? Она должна расти. Чем больше отряд, тем мощней его удары. И если раньше Скворцов сомневался, стоит ли увеличивать численность отряда, то сейчас сомнения отпали, практика доказала, что прав Волощак. И если раньше Скворцов колебался: вырастешь, а немцам проще обнаружить крупный отряд, – то и колебания отпали, практика доказала, что численность отряда тут не имеет решающего значения – при условии, разумеется, что ты не отсиживаешься в кустах, а действуешь. Решающее тут иное: бей внезапно, стремительно, мощно – и уходи. Ну, а если ввяжешься в бой, если тебя окружат? Воюй! Рви кольцо и опять же уходи. Чтоб опять нанести удар. Будет время – скажут: партизаны помогли Красной Армии, их удары сливались с ее ударами, и вот итог: враг бежит. Ах, не скоро подводить этот итог, не скоро! И где Красная Армия, и что там, за линией фронта, думают о нас, оставшихся в немецком тылу, и как будет с нами после возвращения сюда наших войск? Одно можно сказать: мы не виноваты, что отстали от своих, мы боролись, как могли.
Совместную операцию в предместье, на станции провели неплохо. И одна из причин успеха – били сжатым кулаком. Три отряда – это не растопыренные пальцы… Наверное, Волощак прав, ратуя за объединение отрядов – в свое время. И командовать таким объединенным отрядом самому Волощаку. Почему? Потому что, как думается Скворцову, в партизанской войне для командира чрезвычайно важно знание местных условий, даже важней, чем военные навыки, а если командир к тому же секретарь райкома партии, то это, видимо, идеальная фигура – при грамотном строевике, заместителе или начальнике штаба. Понятно же: партизанская война в корне отличается от той, большой, прямой, что ли, войны, идущей на фронте. Не наверное, а безусловно прав Волощак, советуя укрупнять отряд на данном этапе. И не только за счет добровольцев, но и мобилизуя парней, молодых мужиков. Сперва Скворцову казалось: что за прок от мобилизованных, да и всякая нечисть может просочиться с ними. Подискутировали они, Скворцов, Емельянов, Новожилов, Федорук, особенно активничал Павло Лобода, подрали глотки, однако Иосиф Герасимович убедил: Советская власть не отменена, Конституция СССР – тоже, а по ней, по Конституции, положено военнообязанных призывать на службу.
Конечно же, чохом, без разбору, брать неразумно. Кое-кто больше пользы принесет вне отряда, на своем месте. Вот, скажем, Стефан Тышкевич, молодым, правда, его не назовешь. Служил в польской армии, есть военный опыт, в отряде пригодился бы. Но еще больше пригодился он – лесник: как и условился с ним Скворцов, уходя в леса, его сторожку партизаны использовали в качестве запасной, хотя и маленькой, базы. Когда однажды отрядные разведчики, напоровшись на немецкий заслон и полицаев, отрывались от преследователей с боем, они нашли прибежище в лесниковой сторожке; Тышкевичи укрыли их, перевязали раненых, покормили, вывели через топи в лес, на партизанскую тропу; и всегда снабжают наших разведчиков информацией. Надо будет при случае заглянуть к Тышкевичам.
А не дальше как позавчера вечером произошла сцена, которая до сих пор стоит перед глазами Скворцова. С Новожиловым, Лободой и охраной он завернул на хутор, обсаженный грабами: соломенная крыша хаты и клуни, изгородь, перелаз, за двором картофельное поле, изрытое, картошка убрана, вдали, за вербами, речка и пруд, кладбище на взгорке, за кладбищем – господский парк. Ездили верхом в Прилужье, на рекогносцировку, конец неблизкий, устали, кони заляпаны грязью, понуры. Ну, и вздумал Скворцов передохнуть, покурить в тепле и сухости, горячим чайком побаловаться. Чаю им дали, хотели дать и самогону, но Скворцов так шевельнул бровью, что Новожилов с поспешностью проговорил: «Алкоголь не употребляем, уберите!» Хозяйка, молодая, пышнотелая, усмехнулась: «А сало с колбасой употребляете?» – «Употребляем», – сказал Скворцов. «А хозяину можно выпить?» – спросил молодой и тоже раздавшийся на добрых харчах мужчина в вышитой крестиком сорочке. «Можно», – ответил Скворцов. Хозяин сказал с усмешкой, похожей на усмешку хозяйки: «Оно как-то неудобно пить без гостей, но приходится, для храбрости».
Скворцов пригляделся к нему. Он напоминал украинца: вислые усы, чуприна, вышитая сорочка, но говорил на чистейшем русском. Кто он? Как попал сюда? Хозяйка и хозяин перехватили оценивающий взгляд Скворцова, она перестала усмехаться, нахмурилась, он же усмехнулся еще откровенней и сказал: «Удивляет, как я шпарю по-русски? Нечему удивляться: родом из Костромы, до призыва обитал там, до двадцать второго июня – старший сержант, до двадцать девятого – лесной скиталец, в настоящий момент – примак. Есть вопросы?» – «Есть!» – вскинулся Лобода. «Есть, – сказал и Скворцов, жестом осаживая Лободу. – Вопрос, в частности, такой: почему не в армии?» – «Так где ж она? За ней не угонишься». Лобода снова вскинулся: «Отсиживаешься? Прикрываешься бабским подолом?» Скворцов сказал: «О партизанах слыхали?» – «Кое-что». – «Так вот мы партизаны!» – «Догадался». – «А вам не кажется, старший сержант, что пора вспомнить: вы военнослужащий». – «Был». – «Нет, есть. А вот примак – был…»
Хозяин задумчиво выпил стаканчик, похрумкал огурцом. Сказал с той же задумчивостью: «Это вы, товарищи-граждане, вроде бы стыдите меня? Взываете к моей гражданской совести? Между прочим, она у меня всегда была… По воинской специальности я радист, служил в Луцке, а двадцатого июня прибыл в командировку в Ковель, тут и встретил войну. Честно: дрался не хуже прочих. Попал в окружение, скитался по лесам. Я спрашиваю вас: как мне было поступать? Армия ушла, мне путь – или в плен, в лагерь, или к бабе, в примаки. Голодный, одичавший зашел к ней, не прогнала, приняла, вроде мужа я…»
Хозяйка повела полными, налитыми плечами, с надрывом сказала Скворцову: «Что вам надо от нас? Угостили вас ужином, как людей, и будьте ласковы…» – «И впрямь, не дают жить, – сказал хозяин. – То немцы проверяют, то полицаи цепляются: москаль, москаль, – теперь вот вы, партизаны… Оставьте меня в покое!» – «Не оставим, – сказал Скворцов. – Присягу давал? Так выполняй ее! За нарушение присяги знаешь что полагается?» И хозяин перестал усмехаться, переглянулся с хозяйкой, угрюмо сказал: «Пугаете, товарищи-граждане? Насильно возьмете?» Лобода вскипел: «Нужен ты!» Скворцов сказал, отодвигая от себя стакан с чаем: «Возьмем. Ты нам нужен. Радист нам нужен». – «Рация есть?» – «Пока нету». – «Ну, вот…» – «Пока с винтовкой будешь дружить». Хозяин вскинул голову, посмотрел на Скворцова, на хозяйку. И она вскочила, заголосив: «Ратуйте, люди добрые! Грабят!» Назавтра можно было снисходительно подивиться этому простодушному и неуместному «грабят!», но в тот вечер Скворцова поразила эта внезапная драма, ибо на его глазах и по его воле рушилось непрочное, военное счастье молодой, не жившей как следует женщины.
Углубленный в себя, старший сержант молчал, и угрюмость сходила с его лица, оно становилось моложе и будто худело. Наконец он крякнул, махнул рукой: «А, была не была! Иду с вами, товарищи. А то после передумаю, все ж таки баба у меня мировая… Но я к тебе, Марийка, буду наезжать, а?» Марийка зло выкрикнула: «Коли уходишь – уходи! И больше ко мне ни ногой!» Но когда, наскоро одевшись, бывший примак, ныне снова сержант, шагнул к выходу, женщина повисла у него на груди, голося: «Микола, коханый, куда ж ты? Не пущу!» Микола, смущенный, растерянный и расстроенный, отомкнул ее руки на своей шее, пробормотал: «Еще свидимся». – «Не свидимся! – закричала Марийка. – Если дядьки прознают, что ты в партизанах, меня сожгут!» Старший сержант не дослушал, толкнул дверь плечом.
У охраны были подменные кони, одного предложили Николаю. Он неуклюже взгромоздился, бормотнув: «Наездник я аховый». Видно было, что аховый. Зато одет добротно, по погоде: яловые сапоги, кожушок, кожаная на меху шапка с козырьком, поверх – брезентовый плащ, с капюшоном, Марийка приодела, в том и выпустила. Скворцов ехал рядом с Новожиловым и думал о Николае, о старшем сержанте. Понимает ли тот, что случилось с ним в этот ненастный, мглистый вечер? Ведь во мгле ему забрезжил путеводный луч, ведь он обрел надежду и право стать в строй.
Назавтра Скворцов, как и другие командиры, получил от Федорука добротную, не хуже, чем у бывшего примака, надежную одежку – кубанку с малиновым верхом, полушубок, немецкие сапоги с подковками, польский френч, галифе. Рваную, латаную-перелатаную, изношенную пограничную форму Скворцов спрятал в трофейный ранец – гимнастерку, брюки, фуражку. Когда-нибудь еще наденет. Или просто сохранит как память о пограничном прошлом.
Весь отряд был теперь экипирован по-зимнему. Пестрота, смесь цивильных полушубков и шапок с трофейным немецким, а также польским обмундированием, добытым с какого-то склада. Чтоб тепло было! А отличительный знак – красную полоску – недолго пришить наискосок. Иван Харитонович Федорук действовал энергично и предприимчиво, кое-где даже диктаторски, зато и запасы продовольствия пополнялись и резервные базы строились. Нашивать алую полоску было обязательным, неукоснительным требованием Скворцова, ибо в округе обитали не одни партизаны, а группы, кучки, шайки дезертиров и бандитов: выдавая себя за партизан, они грабили местное население. Отсиживались «зеленые» по глухоманным займищам, избегая боевых столкновений с немцами, с полицаями. А вот с партизанами вступали в бой, когда партизаны их прижимали. Одним таким боем Скворцову пришлось руководить самому. Он вел две роты (около ста человек) – предстояло атаковать разгружавшуюся на полустанке роту полевой жандармерии (около ста пятидесяти человек), – но по пути зашли в село, и выяснилось: полчаса назад в нем побывали «зеленые» – грабили, бесчинствовали. Вообще-то отклоняться от маршрута и основной цели было не очень разумно, но время лишнее имелось, да и гнев душил: «Догнать мерзавцев!» Их догнали на опушке: колонна из пяти подвод, нагруженных одеждой и продуктами, втягивалась в лес; подводы остановились, с них открыли беспорядочную стрельбу. Скворцов приказал окружить подводы, и зажатых в кольцо бандитов почти всех перебили, лишь одиночки удрали в лес. Отбитые подводы Скворцов велел вернуть в село, а сам подсчитал свои потери: трое раненых. Слава богу, убитых нет, но и раненые – еще до боя с полевыми жандармами – тоже не в радость, непредвиденное.
А вот бой с жандармами сложился пакостно, совсем не так, как планировалось. Во-первых, их было не сто пятьдесят, а все двести, если не больше (усиленная рота), во-вторых, разгрузка проводилась под прикрытием спаренных пулеметов, и, когда партизаны сунулись к полустанку, пулеметы ударили с четырех сторон. Словом, не партизаны жандармов пощекотали, а жандармы – партизан. Хорошо еще, после неудачной атаки ноги унесли. Выручило то, что немцы не погнались за ними в болото. Промокшие, воняющие болотной жижей, кое-как выбрались из топи, оторвались от преследования. Скворцов подумал: «На арапа полезли – и получили по зубам. Вот он еще один наглядный пример в пользу объединения отрядов. Мелкими силами, легковесным наскоком многого не добьешься».
* * *
В землянке натоплено, но сыро, стены осклизло блестят, с пола поддувает, сквозит и от двери. Скворцов и Емельянов за березовым столиком, застланным клеенкой, читают листовку, которую сочинил ученый доктор-филолог, редактор отрядной стенной газеты, он же штабной писарь – грамотно пишет, хотя почерк не шибко красивый, – он же и лектор, он же вместе с радистом принимает сводки Совинформбюро. В селе Волчий Перевоз, в колхозном срубе, полусгоревшем, заброшенном, партизаны обнаружили вполне исправный радиоприемник «Колхозник», приволокли в отряд, и теперь у этого «Колхозника» ночи просиживает доктор-филолог, карандашиком записывает в ученической тетради, что по словам диктует Москва. А Москва диктовала сообщения «От Советского Информбюро», из которых явствовало: положение на фронте – дрянь. Бывали сообщения и повеселей, если Информбюро передавало о героических подвигах на отдельных участках фронта или если по радио передавали заметки из «Правды», «Известий», «Красной звезды». Такие бодрые, духоподъемные, как выражался Емельянов, сообщения размножали на пишущей машинке и разбрасывали по селам.
А размножать ли оперативные сводки Совинформбюро, – тут Скворцов и Емельянов поспорили. Скворцов считал: размножать, Емельянов возражал: зачем же распространять о себе отрицательные сведения, хватит того, что гитлеровская, пропаганда этим занимается. И, поколебавшись, Скворцов с ним согласился. Вот когда положение на фронте улучшится, тогда закладывай побольше копирки в «ундервуд», – пишущую машинку добыли при налете на полицейский пост, старенькая, буквы западают.
Читая сводки Информбюро, Скворцов думал: это самые трудные для страны, для Красной Армии месяцы войны. Армия отступала. Но ощущение было таково: скоро станет полегче. Не очень логично, однако Скворцов верил в этом случае не логике – своей интуиции.
Листовки, которые сочинял ученый филолог, нравились Емельянову и не нравились Скворцову. Они извещали о конкретном факте, – там-то партизаны разгромили немецкий обоз, там-то казнили старосту или полицая, там-то раздали местному населению пшеницу, которую немцы увозили в Забужье, – но факт обставлялся пространными рассуждениями об империалзме, о фашизме, о международной обстановке, все общие слова. Скворцов считал: это лишнее, конкретность топят в словесах. Емельянов придерживался противного мнения: это необходимо, чтобы придать листовке обобщающий характер и большую политическую направленность. Скворцов не спорил:
– Сам решай. Ты более компетентен в этих вопросах.
– Как ты в боевых вопросах, – отвечал Емельянов улыбаясь.
А вот улыбка его нравилась Скворцову! Ничем не примечательная – обнажаются желтоватые зубы, уголки рта подрагивают, нос смешно морщится, – а приятно. Потому, наверное, что глаза мгновенно добреют, и вроде бы мешки под ними уменьшаются. Емельянов жалуется на поясницу, на почки, видимо, оттого и отеки в подглазьях. Врача же в отряде все нету…
Повертев листовку, Емельянов сказал:
– Одним иудой меньше. Помнишь, как того старосту ликвидировали?
Скворцов кивнул. Еще бы не помнить! Жалобы местных жителей на этого гитлеровского прихвостня шли давно. Мерзкий был человечек, злобный. И кому мстил? Своим же односельчанам. Еще до прихода немцев составил списки коммунистов, членов колхозного правления, сельсовета, пришли немцы – передал в комендатуру, коммунистов схватили – кто не ушел с советскими войсками. Ночами устраивал засады у шляха, убивал окруженцев из обреза. Выдал жену старшины-пограничника, укрывавшуюся с сынишкой в селе, она очутилась в концлагере, мальчика приютила семья мельника. Однажды немец-ефрейтор отпускал жителям керосин, староста увидел в очереди этого мальчика с бидоном, выволок из очереди: «Геть отсюда, крапивное семя!» Но к старосте подбежал ефрейтор, обругал по-немецки, налил мальчику полный бидон керосина. Староста написал донос на этого ефрейтора, а мальчика подкараулил, забил до смерти. Ну, и много другого было на счету у старосты, бывшего кулака.
Партизаны ворвались в село в предвечерних сумерках, полицаи удрали огородами, староста же промешкал. Кинулся было в бег, а три партизана уже во дворе, автоматы нацелены в грудь. У него так и подкосились ноги. Здоровенный, крепкий мужик, но тут не может подняться, ему: «Встать!» – а он оседает, ползает на коленях, пытается схватить сапоги стоящих над ним, поцеловать: он все сделает, что прикажете, только не убивайте. Ну, и в слезах да соплях весь, трясется, как осиновый лист, из хаты высыпали дети, таращат глазенята на отца. Живодер, а как держать ответ – обмочился. Когда его под руки поволокли со двора, от него и впрямь понесло мочой. Времени было в обрез, предателя надо было кончать, но Скворцов приказал: не здесь, уведите от детей. И приказал: не вешать, расстрелять. Подумал с горечью: «Единственное, что могу сделать для его пацанов».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































