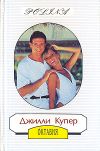Читать книгу "Ты где?"

Автор книги: Ольга Кучкина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
11. Любовь
Происходившее между ними в момент чтения рассказа происходило на таком градусе, что случившееся затем не могло не случиться. Оба были распахнуты до предела. Так на пике актерской игры в театре благодарный зритель проникается высоким чувством по отношению к актеру, и актер отвечает на это еще более высоким накалом игры. Незримый душевный пинг-понг, который и есть счастье.
Опомнившись первой, она выскользнула из его объятий. Он вскочил со скамейки и схватил ее за руку, боясь, что она уйдет. Она не уходила. То есть уходила, но тянула его за собой. Не разрывая рук, они побрели вслепую куда-то, по-прежнему связанные между собой той связью, которая дает подобная распахнутость – состояние благословенное и редкое.
Вопреки тому, что связь не ослабевала, а, наоборот, крепла, они сразу принялись ссориться. Какие-то вылезали пустяки. То ли перебежать дорогу перед быстро едущим автомобилем, то ли переждать, пока проедет. То ли поправить челку, то ли оставить распавшиеся посередине пряди, как он это сделал после того, что поцеловал ее в губы, настаивая:
– А так еще милее.
Он хотел по-своему. Она по-своему.
Он спросил:
– Ты эгоистка?
Она удивилась:
– Первый раз мне задают такой вопрос.
– На то и рассчитано.
– На что?
– Что буду первым.
– Звучит как-то двузначно. – Она засмеялась.
Он засмеялся тоже:
– А по-моему, наоборот, однозначно.
Она проскакала прямо и наискосок как школьница на расчерченных какими-нибудь маленькими девочками мелом квадратах на асфальте. Нетерпеливое прощание с зимним сезоном, в какой снег и лед не давали чертить.
– Ты не ответила. Эгоистка?
– Наверное. А ты?
– Я нет. Я не эгоист. Я эгоцист.
– А в чем отличие?
– Эгоцист – самый страшный эгоист. Все творческие люди – эгоцисты.
– Что это значит?
– Что они ставят себя в центре мира.
– Папа не эгоцист.
– Но может, он и не творческий человек?
– Ты нахал.
– Заметь, я только ставлю вопрос, а не утверждаю. Мир держится на вопросах, а люди думают, что на утверждениях.
Свежий вопрос, которым он с ней поделился: люди, привечающие самородка, действуют во имя его или во имя свое?
– Смотря какие люди, – разумно среагировала она.
– Майзели, конечно. Кто интереснее твоих Майзелей – никого.
– А самородок?
– А не догадываешься?
– А ты прямо знаешь про себя, что самородок?
– Ты же прямо знаешь про себя, что красавица.
– Да, но время от времени сомневаюсь. Притом глубоко.
– Так и я тоже. Притом очень-очень-очень глубоко. Тем глубже, чем перед этим не сомневался.
– Мне кажется, Алик ни в чем не сомневается, – вздохнула Злата.
Похоже, она того и хотела: под видом инфантильной искренности нанести поражающий удар.
У нее получилось.
Он остановился.
– Чтобы я никогда не слышал от тебя этого имени, – надтреснутым, как старое дерево, голосом проговорил он.
Она остановилась также.
– Разве я дала тебе повод распоряжаться мной и моим поведением?
– А разве нет?
Затруднившись с ответом, она фыркнула:
– Время вышло, я иду домой.
Повернулась и, не прощаясь, пошла в сторону дома.
Он выждал какие-то секунды и пошел в противоположную сторону.
Обернулись одновременно.
Ранним-ранним, очень ранним утром Маша Майзель, сидя за стаканом теплого молока и бессмысленно кося взглядом во вчерашнюю Затейливую, уловила какое-то движение в коридоре: вроде бы промелькнула фигура в коротком, не по росту, Златином халатике, из-под которого торчали худые длинные волосатые ноги. Не столько торчали, сколько направлялись в ванную. Ни Гриша, ни Злата в это время суток не поднимались. Алик Залесский, жених? Насколько Маша знала свою сложную, с порывами и сомнениями, идеалами и упрямством, пылким сердцем и холодной головой, Злату, ночное присутствие Алика в доме исключалось. Возможно, в доме у Алика что-то и совершалось, но с легимитизацией последней близости под родной крышей Злата не торопилась.
Сказать честно, Машу отчасти напрягал предстоящий брак. Да, они целовались, сидя у Златы в комнате, а то и провожаясь в прихожей, Маша несколько раз невольно становилась свидетелем этого безобидного и естественного для жениха и невесты занятия. Но когда Алик отсутствовал, Маша наметанным глазом замечала, что Злата нисколько по нему не скучает, напротив, обыденная скука слишком часто посещает ее. И сейчас, когда Алик заседал на своей конференции в Мюнхене, ежедневно звоня оттуда, выражение скуки и даже некоторой досады отчетливо читалось Машей на лице Златы. Не развеивали скуку и такие интересные для любой невесты темы, как свадебное платье и обручальные кольца, которые Алик непременно желал купить в Германии. Никто не гнал Злату замуж, сама захотела. То ли возраст – уже двадцать два, то ли близящееся окончание универститета, то ли усталость от предков, которых любила, конечно, но это не должно означать навечной жизни с ними. К деликатным мотивам в семье относились деликатно. Не то чтобы вообще не ссорились, но как минимум не выясняли отношения.
Коротко говоря, это не Алик.
Это не Алик, простучала пальцами по столу Маша.
Единственная из семьи, ранняя пташка, Маша уезжала на работу к восьми. Однако бывало, что она просыпалась ни свет ни заря, особенно, если предстояла сложная операция, и коленца, какие выкидывало подсознание, нарушали сон. Тогда вставала, пила теплое молоко, после чего удавалось покемарить еще пару часиков, а дальше уж следовал черед утреннего кофе, машины, больничного кабинета и операционной. Сегодня, ясно, еще поспать не удастся. Как ни странно, вернувшись в постель, она уснула мгновенно и чуть не проспала. Стоя, допивала кофе, когда в кухню вошла Злата, растрепанная, рассеянная, загадочная, запахиваясь в тот самый халат, который Маша видела полтора часа назад на другой фигуре.
– С ума сошла? – без обиняков взяла быка за рога Маша, ставя чашку на стол.
– Кажется, да, – прислушалась Злата к себе.
– И что сие означает?
– Не знаю.
– Если ты не знаешь, кто знает?
– Маша, не гони картину, – поморщилась Злата.
– Как не гнать, как не гнать, когда у тебя через две недели свадьба! – шепотом закричала Маша.
– Разбудишь папу, – вяло предупредила Злата.
Маша подошла к Злате и вдруг крепко прижала ее к себе.
– Тебе было хорошо, девочка? – спросила она ласково, как подруга спрашивает подругу.
– Ох, Маша! – закусила губу Злата.
Маша молча гладила Злату по волосам. Злата уткнулась ей в плечо. Маша столько лет этого не делала – Злата не делала этого столько же.
– А Алик? – тихонько, чтобы не сбить настрой минуты, напомнила Маша.
– Что Алик? – Злата оставила плечо Маши. – Алик одно, а это другое. На сто процентов другое.
Маша засмеялась. Она поняла Злату. Будучи женщиной до мозга костей, женщиной в превосходной степени, она поняла ее больше, чем Злата понимала сама себя.
Десять дней Злата ходила как сомнамбула, на вопросы не отвечала, телефонные звонки выводили ее из себя, от нервного ожидания началась аллергическая чесотка. Никто не звонил. То есть звонили, конечно, в том числе вернувшийся Алик, но все не те. По возвращении Алика, с белым платьем и кольцами, как и было задумано, Маша ждала от своей эмоциональной девочки чего угодно, но не того, что та выдала: встретила жениха как ни в чем не бывало, и все покатилось своим чередом, будто ничего и не случилось. Как две капли воды похожая на себя прежнюю, Злата не отменяла и не переносила свадьбы, и Маша, глядя на нее, чувствовала свое сердце, которое раньше вело себя не то чтобы бесчувственно, но тактично, не выделываясь и не выделяясь, не акцентируя внимания на себе; теперь сердечный такт, он же ритм, сбился и требовал понимания и участия.
Перепелов пропал.
И Маша ни разу не посмела спросить Злату, что между ними стряслось.
12. Расставание
А что стряслось – страсть и стряслась. Неконтролируемая, вырвавшаяся из-под спуда привычного и обыденного, задуманного и решенного. Решенного отдельно Златой, собравшейся замуж, и отдельно Перепеловым, собравшимся в первые писатели России. Злата нравилась ему до мерцания черных точек в зрачках, когда он смотрел на нее, задыхаясь от желания. Будь она не дочь Гриши Майзеля, проблемы бы не возникало. Он соблазнил бы девушку без малейших укоров совести, как соблазнял предыдущих девушек. Не исключено, что связь длилась бы сколь угодно долго. Однако он продолжал бы сохранять свободу. Речь не о штампе в паспорте, хотя и о нем тоже, но прежде всего о внутренней свободе, необходимой творческому человеку с потенцией столь же сильной, сколь и целенаправленной. Девушка, женщина, жена могла быть в этих обстоятельствах только чем-то второстепенным. А по отношению к дочери Гриши Майзеля, он отдавал себе в том отчет, оно нехорошо, некрасиво.
Отчетность, отчетливость составляли его сильные стороны. За свою короткую, но битком набитую жизнь он встретил множество лиц, туманно видящих, туманно мыслящих и воображающих, что за их туманностями – бездонные глубины, что обеспечивало им опору, порождая самоуважение, а то и самодовольство. Что отсутствовало в Перепелове, то отсутствовало. Вперясь ясным взором в мир, он такой же взор обращал на себя. Со времен валявшегося на грязном кафельном полу булочной смятого училкиного рубля, повлекшего за собой обвал событий, минули века, в которые он обучался и обучился привычке додумывать все до конца, ничего не бросая на полдороге.
Счастливый и несчастный, самодостаточный, но не самодовольный, он той ночью честно объяснил Злате, почему не может стать ей мужем и почему не смеет оставаться любовником.
– Раньше бы думал, – звенящим голосом, словно металлическую сетку меж ними натянула, отмела Злата ту подробность, что она же и инициировала близость, а не он.
И не преминула сделать ответный ход: напомнила о предстоящем замужестве, не предполавшем супружеских измен.
Последнее обстоятельство отдельно грузило Перепелова. Почему-то он убедил себя, что Злата – девушка и он у нее, по правде, будет первым. Оказалось, что нет. Годы, люди, жизнь в России после СССР заставили молодых, да и немолодых людей переориентироваться в некоторых щекотливых областях. Бытовой либерализм плавно вытек из политического либерализма. Общепринятая советская унитарность ушла на дно, утянув за собой строгие бытовые предписания и привычки. Сношались легко. Начиная со школы. Сбегались, снюхивались, разбегались. Возможно, так виделось со стороны? Для Перепелова, лично припозднившегося, проблем в этой сфере не было. Пока не явилась Злата. С появлением этой тонкой и звонкой девушки он обнаружил с удивлением, что легкое отношение к своим и чужим связям набрало вес. Тяжесть повергла едва ли не в депрессию. Депрессия объяснялась обыкновенной человеческой ревностью. Сверхчеловеком он не был. Отелло в нем проснулось и дурацким образом забушевало.
Он ушел, а она стала ждать, когда он придет обратно.
13. Дембель
А у него нашлось занятие: он пил. Он не был алкоголиком. Как и сильно пьющим. Он был пьющим по обстоятельствам. И сейчас пил, не столько обмывая дембель с однополчанами, сколько желая, подобно поручику Лермонтову, забыться и заснуть. Однополчане, не раз во время службы досаждавшие, выводившие из себя, в эти минуты представлялись самыми близкими, самыми понимающими, да что там, самыми родными, роднее не бывает, и стукались стаканами, стукались костяшками пальцев, сжатых в кулак, пили в память сержанта Шрайбмана, погибшего при исполнении обязанностей, а конкретно, на учениях, при обезвреживании учебного террориста, обнимались, взбудораженные переменой жизни, переменой участи. Перемена участи, сколь бы малыми размерами ни характеризовалась, производит в человеческих существах встряхивание разных взаимодействующих частиц, отчего и рождаются противоречивые, не стыкующиеся проявления. Сходятся конец и начало, возможно, как напоминание о том начале, что мы не запомнили, и как репетиция того конца, что не запомним. А кто такие мы? Что в нас запоминает или не запоминает? Сознание? Только ли оно? А что весь состав, который принимает и отсылает сигналы, не всегда уловимые или вовсе не уловимые сознанием, но оттого не исчезающие, пока не исчезнет отпущенный нам срок? Штык в землю, пропущенный сигнал атаки, карцер, нелепая драка с чеченцем Вильямом, отмороженное ухо и отдавшаяся в горячке прямо в санчасти фельдшерица – все что-то значило, все с чем-то рифмовалось и прорастало важным. Как прорастало важным неуловимое, не рядом и рядом, какой-то последыш какого-то бедствия, эхом отдающегося между печенкой и селезенкой, бог ты мой, сколько событийного, пропущенного через сознание и пропущенного сознанием, оказывающего на нас скрытое воздействие, не менее сильное, чем явное!.. Глубокая философия на мелких местах меланхолически бродила в хмельном мозгу Перепелова, пока он увеличивал дозы.
У Вильяма на квартире и отмечали выход на гражданку. Добродушная и гостеприимная семья, в чьей фамилии писалось три буквы а, Даааевы, жила на Горького, старший Даааев работал каким-то начальником в системе городского хозяйства и был любитель театра, оттого и сына назвал Вильямом в честь Шекспира. Вильям с детства посещал Большой и Художественный, хотя на его душевной структуре это мало отразилось, по складу скорее хозяйственник, нежели отец, он прославился в части тем, что, согласно солдатскому репертуару, менял шило на мыло, мыло на жало, жало на сало, которое обожал, как если б не чечен, а хохол. Он и предложил Перепелову пожить у них, пока тот не обретет своего жилья, свободная комната имелась, с большим окном, выходившим непосредственно на Моссовет, а отец и мать, давно московские чеченцы, имевшие не много детей, по чеченской традиции, а одного ребенка, по московской, – они против друга сына не возражали. Перепелов, получив предложение, одобрительно потрепал Вильяма по плечу, как бы вознаграждая товарища согласием, а не благодаря за услугу. Высокая самооценка диктовала поведение, принимаемое окружающими за должное.
Вечерело. Субботний день, впереди майские, веселье, меж тем, начавшись в полдень, сбавляло обороты, уставало, утомлялось, парни теряли кураж, в атмосфере разливалась странная, беспричинная, необъяснимая тревога, покалывающая иголками, пошли придирки, насмешки, цеплянье друг к другу.
Господи, да Злата же! Бедствие – с ней! Это она сей час, сию минуту уходит, ушла, навсегда ушла от него!
Мысль о Злате яростно пробилась сквозь пьяный дурман, доводя до умопомешательства. Хоть бы какое движение – оно принесло бы облегчение. Но какое? Он не двигался, потому что все направления оборачивались тупиками.
Внезапно пронзило: он должен защитить ее. От чего защитить – не открылось. Если не считать, что от Алика. Но Алик – ничтожество. Существовало что-то посильнее Алика. Чувство, что в то время, как ей грозит опасность, может быть, смертельная, он скрывается у друзей, за возлияниями, трус, негодяй, эгоцист, сделалось нестерпимым.
Он поднялся, сделал прямую стойку, как бы проверяя вестибулярный аппарат, обнял по очереди сослуживцев-собутыльников, сказав каждому: будь. И покинул высокое собрание, влекомый целью.
Демобилизованный Перепелов подошел к Дому литераторов, в доску пьяный и оттого державшийся как трезвый. Дежурный встал из-за стойки:
– Вы приглашены?
Он по слогам выговорил:
– Со-ответ-стве-нно.
И, в разведке не служа, но наводимый нюхом разведчика, пошел, не отклоняясь от маршрута, туда, куда вели ступеньки вниз. Что празднование будет в нижнем буфете, упомянул Гриша, между прочим. А он, между прочим, запомнил.
На нового гостя не обратили внимания. Лишь Маша глянула издалека и покачала головой с непонятным выражением лица. Празднество разгоралось, как разгорается свет уличных фонарей, побеждая сумерки. Стояло много маленьких столиков, должно быть, так полагалось у еврейских интеллигентов, подумал пьяный Перепелов, а не один большой, как полагается на русских свадьбах, на двух русских свадьбах он побывал, в татарском городе Казани и немецком городе Энгельсе, дуриком попавши. Нынешняя третья. Люди ходили от стола к столу, толпились, гомонили, веселье мешалось с каким-то надрывом, создавая невообразимый коктейль. Злата не сидела ни во главе никакого стола, а то приближалась, с бокалом шампанского в руке, то удалялась, его не видя, смеясь, взнервленная, как и многие здесь. Алика Залесского Перепелов не запомнил и оттого не мог идентифицировать среди сплошь торжественных черных костюмов, делающих их носителей похожими на ворон, а собрался бить ему морду. Впрочем в данную секунду Перепелову было не до Алика, план действий начертался сам собой, и он прямо, не отклоняясь, ему следовал. Вдвинувшись в малый кружок, в центре которого задержалась Злата, он схватил ее за руку:
– Идем со мной.
Увидев его за мгновенье до протянутой руки, она побледнела, как бледнели героини в старинных русских романах. Кружок, из дам, девиц и каких-то блеклых, верно, университетских юношей, до того балаболивший вразнобой, умолк и с недоумением вперился в Перепелова.
– Идем, – повторил Перепелов и для большей убедительности объяснил окружающим: – Я ее муж, а она моя жена.
– Ты опоздал, – с трудом выговорила Злата, тряхнув челкой так, чтобы она прикрыла ей глаза.
С ее характером вынь-да‑положь, она, не заполучив желаемого, запретила себе думать о нем. И внезапно ей это удалось. Волшебство послушно пропало. Он больше не грезился ей как единственный желанный, без которого – петля. Не тот. Не тот. Не тот. Кто из женщин не сталкивался с похожим коленцем, какое вдруг выкидывает фокусница-любовь, когда вдруг наступает прозрение, или, лучше сказать, инозрение, когда вдруг пелена спадает с глаз, и мы больше не хотим того, которого вот только что умирали, хотели. На месте богатства обустроились скудость, тоска, опустошение, потеря.
Седьмым или семнадцатым чувством Перепелов угадал потерю и сделал то единственное, что подсказал инстинкт, что содержало шанс вернуть власть над Златой: схватил ее в объятья и истомившимся вампиром впился в ее рот. Она, слабея и забывая все на свете, а его вспоминая каждой клеточкой, каждым капиллярчиком, каждым волоконцем телесной материи и каждым квантом духа, подчинилась ему.
Долгие годы для них будет живее живого пейзаж, в каком сошлось: выброс в атмосферу чернобыльских радионуклеидов и выброс любовной энергии, отчаянно бросившей их друг к другу.
Плавным движением Злата отцепила и скинула с волос фату, взяла за руку Перепелова, и он повел ее за собой, и она пошла за ним, покинув чужую свадьбу, где невесте больше было нечего делать, и даже не оглянулась на Алика Залесского, в секунду забыв о его существовании и вычеркнув из своей жизни как не бывшего.
Оглянулся Перепелов. Глазам его предстала немая сцена, точь-в‑точь о какой читал у Гоголя в Ревизоре: вся группа, вдруг переменивши положенье, остается в недоумении…
Перепелов засмеялся, Злата потянула его к себе, они нежно поцеловались и полетели над землей в прекрасные нежные небеса, с отблеском розовых восходов и багряных закатов, и с той черной изнанкой, что не видна невооруженному глазу, видна лишь глазу, вооруженному кратким или длящимся прозрением, с той изнанкой, какой быть ей ближайшие тридцать и дальнейшие три тысячи лет.
Примерно так нацарапает Перепелов в записной книжке, услышав сообщение ТАСС, еще хмельной, но уже не от алкоголя, а от Златы.
В тот памятный день они опустились на Тверской, где прожили у Даааевых четыре месяца строптиво и нежно, притираясь и остолбеневая, составляя физически и душевно одно целое и расходясь по углам, отчего становилось невыносимо, после чего смыкание в целое приобретало еще большую сладость и силу, пока она не обнаружила, что беременна, и начала длительно ныть, плакать, проявляя не свойственные ей черты, жаловаться на то, как ей плохо в чужом доме, прося вернуться в родной, что и раньше предлагал новоявленному студенту Литинститута его преподаватель Гриша Майзель, пока он, наконец, не уступил, найдя новую прелесть в том, чтобы уступить, а не навязывать свое, и это придало их отношениям новую краску, и мнилось, что их счастью не будет конца.
…А Вильям Даааев уехал на чеченскую войну и там погиб. На чеченской стороне…
14. Алик
Развод оформили быстро, оскорбленный Алик Залесский, прежде единомышленник, а отныне ярый оппонент Гриши Майзеля, разошедшийся со старшим соратником буквально во всех литературных и жизненных вкусах, прислал по почте письменное согласие, и так же быстро бракосочетались, живот у новой новобрачной был незаметен, но предъявлена справка о беременности, к тому же пара отличалась отменной красой, что произвело на исполненную персонального ли, служебного ли рвения работницу ЗАГСа отдельное впечатление. Справка, хоть и не поддельная, а подлинная, ничего не гарантировала и ни от чего не защитила. Злата выкинула мертвого младенца. Острее всех в семье переживала Маша, кляня себя за врачебное невнимание, а Злата ее утешала. Еще две попытки завести детей завершились так же плачевно. Предполагаемое объяснение носило ненаучный, даже лженаучный оттенок: Перепелов как биологическая сущность настолько переливался в свое письмо, что этим и исчерпывал себя, больше пресуществиться ему, видимо, не светило. Любя Злату как сумасшедший, он и писал как сумасшедший, с письмом получалось, с ребенком нет. Получилось через два с половиной года, когда Маша решительно взяла дело в свои руки и пролечила Злату у себя в клинике, от чего прежде та с глупым упрямством отказывалась. Так семья увеличилась на одного Сеньку.
Тем временем Залесский, нисколько не тушуясь, выдал первый залп по первому тексту Перепелова, прогремевшему в либеральной прессе. Выступление либерала Алика представила на суд общественности газета Ночь с реноме, прямо противоположным реноме Затейливой. Близкие к последней издания, не всем из которых отвязное нахальство Перепелова пришлось по душе, критикам Перепелова тем не менее отказывали: неубедительно, вяло, неталантливо, а то и попросту бездарно, с просвечивающей личной завистью. Подставляться, печатая бессильные и унылые возражения, никому не хотелось. Залесский, заряженный не менее Перепелова, в мгновение ока превратившийся из либерала в охранителя, позволил себе безудержную откровенность не хуже любого постмодерниста. Перемена участи, как мы помним, неизбежно производит встряску целого организма.
Разделавшись с Перепеловым-литератором, Алик в финале открывал карты, прямо заявляя, что прикончил соперника как теоретика и практика разнузданного и безответственного стиля жизни. Выписанный автором групповой портрет вовлеченных в трагифарс персонажей, включая доселе ближайших, чуть не ставших ему родственниками, относился к наиболее выразительным фрагментам статьи.
Гриша констатировал:
– Эк, как закипает кровь уязвленного! Что бы ни писал, все с холодным носом, а тут горячки полные штаны!
Финальным абзацам предшествовали срединные, истово защищавшие отечественную культуру от нашествия новых варваров, отстаивавшие культурную последовательность, культурную основательность, культурную логику и преемственность, в противовес тому, что, по мнению Залесского, открывало дорогу фашизму или, по меньшей мере, нацизму.
Занятно, что печатала это Ночь, грешившая скрытой, а то и явной симпатией если не к Гитлеру, то к Муссолини наверняка, – при произнесении речей главный редактор старательно выворачивал губы, подражая дуче.
Прореагировали бурно со всех сторон. И оттого, что Залесский не побрезговал коричневым цветом издания, и оттого, что коричневое издание предоставило свои страницы автору из голубого лагеря – такой оскорбительный намек тоже прозвучал. Время наступало смутное и путаное. Как кости, ломались старые убеждения, в точках слома нарастали новые хрящи. Размежевывались предыдущие товарищи, вставали в строй настоящие. Глашатаи одних истин уступали глашатаям других. От вчерашних не оставалось и следа, булькали и уходили под воду, из водной массы усатыми сомами выплывали завтрашние. Шизофреническая реальность порождала шизофреников.
Относились ли к шизофреникам Перепелов и Залесский? Возможно, советская власть укатала бы обоих в психушку, не столь по медицинской линии, сколь по идеологической. В новой России двери психушки распахивались меньше на вход, больше на выход. Нетерпеливые стреляли и стрелялись, терпеливые приспосабливались к дням открытых дверей, они же дни открытых убийств, в прямом и переносном смысле.
Перепелова ничего не обескураживало. Злата, тогда в первый раз беременная, борясь с интоксикацией, искала уловить минуту, в какую броситься с ласковым женским утешением к мужу, поддержать его в его рефлексии. Но никаких признаков пресловутой рефлексии не обнаруживалось, и, следовательно, надобности в утешении не просматривалось.
Как-то не выдержала:
– Тебя правда ни капли, ни капли?
– Что ни капли, ни капли?
– Не задевает?
– Что?
– То, что написал о тебе Алик?
– Меня задевает, когда ты продолжаешь интимно называть этого тухлого пижона Аликом. Хотя алик, он алик и есть.
– Что значит алик? – озадачилась Злата.
– Персонажка Вампилова так говорила. Вспомнилось. Ни к селу ни к городу, правда.
На том их странный, без разъяснений, разговор закончился, потому что Перепелов, внезапно охваченный нежностью, прильнул к еще не выдающемуся животу Златы, повторяя как мантру:
– Мальчик… мальчик мой… ты ведь уже не зародыш, а мальчик… и ты меня слышишь… ты слышишь меня… запомни, мальчик… имеет значение, что есть ты, ты а не другие… не поддавайся другим… они ноль… костяшка пусто-пусто… пусто-пусто…
Злате страшно захотелось задать вопрос, какой задают в похожих ситуациях тысячи женщин: а я? К ее чести, не задала. Не про нее речь, про мальчика, и это пришлось ей по душе.
А мальчику не суждено было внять перепеловской мантре.
Кровавым комочком он полетел в таз.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!