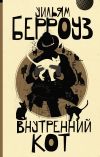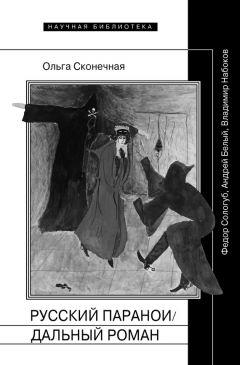
Автор книги: Ольга Сконечная
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Рожденная бредом вселенная требует новой причинности. Все интерпретаторы отмечают, что паранойя тяготеет к особой связности или системе, Канетти называет это «манией каузальности», «когда каузальность становится самоцелью. ‹…› Обоснование становится страстью, находящей себе выражение по любому поводу»[70]70
Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad marginem, 1997. С. 484.
[Закрыть]. По словам Мазина, комментирующего Фрейда, восстановить мир для параноика означает «собрать его на других причинных основаниях». «Пересмотру подвергаются именно причинно-следственные связи». 25 мая 1897 года в рукописи, отправленной Флиссу, Фрейд указывает на то, что смещению при паранойе подвергается каузальный порядок[71]71
Мазин В. Между доктором Шребером и доктором Фрейдом. С. 214.
[Закрыть].
Для мании преследования такой измененной каузальностью, особой связностью или «рационализацией» явится идея заговора. «Когда подступит нечто странное, оно будет разоблачено как кем-то инспирированное»[72]72
Канетти Э. Масса и власть. С. 484.
[Закрыть]. Заговор направлен против больного, и главным заговорщиком выступает Флехсиг, а также и Бог. При мании величия заговор сохранится, ибо сохранится и «режим» преследования, но этот заговор обретет акцент избранничества, станет знаком Божьей любви.
Все клиницисты отмечают роль вербальных галлюцинаций при паранойе. Фрейд, выведший грамматические формулы проекции, впервые мыслит особый язык психоза. Семиотической работой предстает у Ясперса «первичное бредовое переживание». Оно есть непосредственное знание о значениях, «непреодолимо навязывающее себя»[73]73
Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика, 1997. С. 136.
[Закрыть]. По Лакану, все значения стягиваются до одного-единственного, загадочного, но неоспоримого смысла. Он ни к чему не отсылает и потому создает ощущение абсолютной полноты и непроницаемости. Является последняя правда, ни на что не похожая, всеобъемлющая и не покрывающая никакого опыта. Психоз открывается «мерцанием огромного значения», чего-то бесконечно пустого и полного. «Душегубство» – называют его голоса. Оно имеет отношение только к субъективности больного, распаду его «я». Впрочем, согласно Лакану, психоз определяется не особенностью значений, но той новой, отчужденной позицией, которую занимает субъект по отношению к языку. Шребер более не участник коммуникации, но свидетель или регистратор собственной, утратившей цельность самости. Голосами-«регистраторами» полон его мир. Отчужденная позиция являет себя в особой форме психотической речи, предстает в «тяжелых», автономных означающих, которые, в отрыве от значений, «поют в одиночку». Говорение при психозе непосредственно связано c телесностью (идея этой связи в особенности подчеркивается Канетти и Делезом: говорение, или означивание, как схватывание словами принадлежит позиции власти, телу деспота). Поэтому специфическими параноидальными героями могут быть спроецированные вовне органы, части тела.
Бред подобен эндоскопическому исследованию, говорит Фрейд, бред содержит «феномены кода», согласно Лакану. Бред воссоздает собственную «машинерию», по замечанию Ясперса. Иными словами, бред рисует собственное устройство, обнажает «прием», то есть фиксирует работу «лучей», их соединения, разъединения. Бред предстает как некое метаописание.
Бред отмечен архаикой, мистикой, мифологией, метафизикой. В случае Шребера – вопреки мировоззрению бредящего. В психозе, по Фрейду, рождаются силы, сметающие вековые усилия сублимации. Боги и духи, населяющие Шребера, демонстрируют ее руины. Мистическое поднимается со дна, точно потревоженные бурей песчинки. Бог всплывает из бессознательной глубины скептически мыслящего человека, когда ломаются его внутренние устои. Бред исполнен архаикой для Юнга, ибо само наше бессознательное – хранилище душевной жизни древних. Согласно Ясперсу, шизофрения (под которую у него подпадает паранойя) имеет отношение к этапам проявления Духа и потому с особой частотой дает нам космические картины светопреставления и рождения новых миров. Психоз вырывает человека из его ограниченного, «укромного» существования, «сметает границы». «Философ в нас не может не быть заворожен этой экстраординарной действительностью»[74]74
Ясперс К. Общая психопатология. С. 372.
[Закрыть]. По Лакану, метафизика и мистика психоза следуют из «задетого» им «означающего», «Имени Отца», которое и приводит в нашу иудеохристианскую реальность Бога, Божий страх и любовь, как и сам принцип символического творения, творения из Слова. Нарушение символического также приводит Бога, но Бога особенного, не Творца-дарителя, но хитреца, соперника и захватчика.
* * *
Попробуем выдвинуть тезис, дабы оправдать дальнейшую стратегию.
Паранойя выступает попыткой создать некую компенсаторную целостность, иерархию, водворить недостающее тождество: насильственно установить внешнюю причину, подчеркнуть границу в противопоставлении себя другим, установить линию сегрегации. У Канетти эта идея связана со стремлением власти к самотождественности, неподвижной позиции в противоположность творческому началу изменчивости и текучести. У Лакана этой компенсаторной псевдоцелостностью отмечено само наше паранойяльное «я». Делез развивает идею Канетти, доводя ее до уравнивания паранойи и рациональности, ибо последняя также является насилием упорядоченности, власти тождества и вместе с ним всех философских категорий над неструктурируемым бытием.
Необходимость этой компенсаторной или насильственной целостности наступает в момент распада предшествующего единства или – если мы выходим за рамки клинического – на стыке культурных эпох. На эту мысль наводит Лакан, с его параллелью между возникновением нового означающего (философии, религии, искусства), переворачивающего прежний строй значений, и – психотического переживания. Важно также и то, что у Делеза и Гваттари паранойя соотнесена с шизофреническим процессом распада и хаоса, который она должна укротить, унять, уплотнить в формы. (Согласно авторам «Анти-Эдипа», эти процессы характерны для капитализма со свободными «декодированными», «детерриториализированными» «потоками», которые власть стремится перекодировать и подвергнуть новой территориализации, или, по Шреберу, «креплению к землям», или, по Делезу, телу государства.)
Если мы покидаем русло клиники, то можем заметить, что эпоха, приходящая на смену прежней, предстает как нарушение прежних тождеств, как вторжение иррационального. (В рамках психоза тут сходятся все интерпретаторы. В психозе происходит возврат к дорациональному, архаичному (Фрейд, Юнг), экзистенциальному (Ясперс) и т. д.) В случае символизма это был переход или возврат к мистике на фоне царствующего рационализма и позитивизма.
В этой ситуации параноидальность будет выступать как старая модель видения, схватывания мира, как те законы, которые больше не могут подчинить открывшийся новый опыт, но все еще силятся сделать это. Преследование явится здесь преследованием со стороны износившихся форм познания, стремящихся оформить сверхчувственное, связать его собой или свести его к обыденному.
Символизм заявляет о себе как об ином способе познания реальности, которая отныне предстает символической, взывающей к прочтению, взаимодействию с воспринимающим. Чтение знаков бытия обретает статус миросозидания, нового творения. Чтение способно вырвать познающего из плена данности, но, в случае ошибки, – заточить его в грезе им же обозначенного или вызванного к существованию мира. Символизм демонстрирует ошибки чтения, маневры на поле знаков.
* * *
Вереница символистских романов, проникнутых страхом преследования[75]75
Ср. о преследовании как фигуре, характерной для раннего, «диаволического», в терминологии автора, символизма у А. Ханзена-Леве: Русский символизм. Cистема поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб.: Академический проект, 1999. С. 349.
[Закрыть], открывается читателю. Два из них: «Мелкий бес» и «Петербург» – сделались литературной эмблемой эпохи. В той же тональности выдержаны другие, менее зрелые или менее признанные: «Тяжелые сны», «Серебряный голубь», «Записки чудака», «Московский чудак», «Москва под ударом», «Маски» и также, во многом, «Котик Летаев» и «Крещеный китаец». Явленная в них мания в большей или меньшей степени обладает статусом клиники. Ее верность обеспечена специальной начитанностью авторов, всерьез озабоченных психопатологией. Известно, что Сологуб был прилежным читателем С. Корсакова и Р. Крафт-Эбинга, а Белый обнаруживал знакомство с трудами Корсакова, В. Х. Кандинского и, по собственному признанию, «совал нос» в Мейнерта[76]76
Белый А. Начало века. М.: Художественная литература, 1990. С. 180.
[Закрыть], фрейдовского учителя. Оба непосредственно столкнулись с больной «натурой»: Сологуб в лице коллеги[77]77
Улановская Б. Ю. О прототипах романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» // Русская литература. 1969. № 3. С. 181–184.
[Закрыть], ставшего «моделью» Передонова, Белый – близкого друга, Сергея Соловьева, чей галлюцинаторный опыт воплотился в кошмаре Дудкина в «Петербурге»[78]78
Об этом подробно: Ljunggren M. Andrej Bely’s «Peterburg». The Dream of Rebirth.
[Закрыть]. Оба писателя наблюдали картину болезни, чтобы использовать ее в своих целях. Цели эти явно не исчерпываются воссозданием казуса, индивидуального или массового, как и воплощением биографического опыта. Они значительно шире. Психический феномен предстает здесь не только свойством некоего лица или лиц. Зарождающееся внутри героев переживание выходит вовне и пронизывает саму романную ткань, окрашивая интонацию повествования и ритм природной жизни, начиняя собой городской пейзаж и быт, пропитывая исторические, литературные, мифологические слои романов. Оно имеет отношение к самому акту познания, творящего действительность, или к тому характеру связи, который это познание устанавливает между здешним и запредельным. Во всех этих текстах работает «логика интранзитивности», как определил ее И. Смирнов, где «посредующее звено между мирами» подвергается «отрицанию», где «берется под сомнение… tertium comparationis». По словам автора, часть символистских текстов воплощает не что иное, как негативное «посредничество»: «фиктивное», «губительное», «непознаваемое», «аннулированное»[79]79
Cмирнов И. П. Психодиахронологика. С. 136.
[Закрыть]. В первую очередь, о такого рода «посредничестве», или ненадежной, нарушенной коммуникации, идет речь в параноидальном романе.
Глава 2
Истоки
Часть 1
Философская азбука
Как известно, символисты не только оглядывались на многовековую культурную традицию, но буквально вписывали ее в свои тексты, цитируя, сочетая ее элементы, переиначивая их в собственных литературных и идеологических целях. Я никоим образом не претендую здесь на общее представление философских идей, питавших Ф. Сологуба или Андрея Белого. Эта задача огромна, и она во многом осуществлена в обстоятельных исследованиях русского символизма. Я хочу лишь указать на некоторые «буквы» философской азбуки, возникающие в символистских текстах и непосредственно аранжирующие и/или явившиеся истоками параноидальных ходов символистской поэтики.
ШопенгауэрОдин из истоков символистской параноидальности – шопенгауэровская идея мировой воли и устройства происходящего от нее бытия. Воля как субстрат всех вещей, их неразложимое и вечное «что», «находится» вне закона достаточного основания – вне времени и пространства и соединяющей их в материю причинности. Последние есть формы ее воспринимаемости, или «объектности» в отношении познающего субъекта. Действия рассудка производят реальность: «Правильно познанное рассудком – это реальность»[80]80
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М.: Наука, 1993. С. 58.
[Закрыть]. Именно рассудок наделяет бытие закономерностью и целесообразностью. Воля же «безосновна» и ничем не мотивирована, кроме самоутверждения, ибо она есть не что иное, как воля к жизни, вечное стремление к осуществлению, проявлению, разворачиванию самой себя. Так, у истоков бытия находится не завершенная, покоящаяся в себе идея, но вечное хотение и, значит, переживание неполноты – вопреки собственным параметрам абсолюта. Отсюда – изначальное противоречие, внутренняя «раздвоенность» первосубстанции, которая в процессе объективации пожирает самое себя, так как «кроме нее, нет ничего, а она – голодная воля»[81]81
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. С. 27.
[Закрыть]. Воля метафизична, но при этом жаждет овладеть все новой материей, оспаривая у себя же право на нее, вытесняя свои же силы, господствовавшие над этой материей прежде. Так, объективация, или распадение на физическую множественность, есть конкуренция всего со всем. Ибо в каждой точке пространства настоящее теснится будущим, и в каждый момент времени пространство норовит уйти к более ловкому соседу. Борьба объемлет физический мир, и с особой изощренностью выступает она у представителей его высшей расы.
Будучи индивидом, заточенным в свои границы, человек есть «объект среди объектов». Он, подобно всякому феномену, обладает только относительным бытием, соположен с другим и следует за предыдущим. Он – только звено в цепи причин и следствий, к которым сводится материальное бытие. Это относительная и, значит, ничтожная величина, становящееся, но, согласно Платону, никогда не сущее. Это пылинка, заброшенная в бесконечность пространства и времени. Но человеческая малость сочетается в нем с огромностью притязаний, ибо он несет в себе то, что не знает границ и меры, существует в каждом во всей полноте и могуществе. Человек – это носитель воли, находящей свое непосредственное проявление в его теле. «Поэтому каждый хочет все для себя, хочет всем обладать, или, по крайней мере, подчинить все своей власти, а то, что ему сопротивляется, хочет уничтожить… готов… уничтожить мир, лишь бы несколько дольше сохранить собственное Я, эту каплю в море. Такая настроенность есть эгоизм, свойственный каждой вещи в природе»[82]82
Там же. С. 431.
[Закрыть].
Хотя человеческое сознание, по Шопенгауэру, является отражением воли, оно замутнено и обманчиво, и порождаемый им мир явлений, реальность – только видимость, «покрывало Майи». Наш интеллект ограничен законом основания, его каузальностью, которая не постигает тайны бытия. Именно воля, а не интеллект, первична в человеке, – подчеркивает философ[83]83
См. об иррационализме Шопенгауэра: Автономова Н. Рассудок. Разум. Рациональность. М.: Наука, 1988. С. 138–141.
[Закрыть]. Сначала воля, а интеллект потом: мы «познаем» то, что «хотим», а не хотим того, что познаем[84]84
Ср. об этом как об одной из точек пересечения Шопенгауэра с Фрейдом: Элленбергер Г.‐Ф. Открытие бессознательного: история и эволюция динамической психиатрии. СПб.: Янус, 2001. Любопытна приводимая автором точка зрения Томаса Манна: «Манн, глубоко погрузившись в метафизику Шопенгауэра в юности, заявляет, что во время ознакомления с психоанализом Фрейда его “переполняло чувство, как будто все это ему понятно и хорошо знакомо”» (С. 260).
[Закрыть].
Познание в рамках причинности – не раскрытие воли, но служение ее целям или, иначе, слепой бесцельности, которой является самоутверждение. Познавая разрозненные явления, человек не созерцает мир, но подглядывает за ним, выслеживает врагов, отыскивает ловушки. Поэтому здесь царят «преследование и страх». Преследование, охота, захват жертвы, убегание как способы познания запечатлены природой в самом теле человека (все это потом прозвучит у Канетти в его описании параноидальной сущности властителя): в хватающих руках, зубах, быстрых ногах и т. д. Чем более пленено познание человека волей, тем опаснее видится ему мир: «Эгоисту кажется, что он окружен чуждыми и враждебными явлениями»[85]85
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. С. 469.
[Закрыть].
Отчуждение – свойство каузального сознания, так как индивид сталкивается с собственной скрытой силой, которую не узнает под чужой личиной. Воля же видит вокруг «размноженный образ самой себя». Поэтому мученик и жертва есть одно: воля «в страстном порыве вонзает зубы в собственную плоть… открывая, таким образом, в мире то противоречие, которое присуще ей»[86]86
Там же.
[Закрыть].
Но ограниченным и плененным индивидуацией предстает не только обыденный эмпирический ум, но и наука, ибо она есть тоже «знание по мотивам», знание причин и следствий, знание, в котором рассудок поддерживает обобщенное и бесплодное действие разума.
Подчеркнем: знание, так как его описывает Шопенгауэр, есть по сути «параноидальное» знание. Познающий, подобно Шреберу, «все относит к себе», к живущей в нем эгоистической инстанции, которая проступает для него во всех явлениях, движет ими.
Философ и сам говорит, что до безумия здесь один шаг: «Если исходить из познания единичного, а не идеи, то неминуемость законов природы вызывает удивление, а потом даже и страх. ‹…› Нас изумляет вездесущность сил природы. ‹…› Связь между причиной и действием, в сущности, не менее таинственна, чем выдуманная связь между заклинанием и вызванным им неизбежным явлением духа»[87]87
Там же. С. 258.
[Закрыть]. Иными словами: в обязательности исполнения причинной связи, свойственной законам природы, человеку может открыться нечто умышленное и, если он думает только в интересах своей воли, этот умысел неизбежно представится направленным против него. Так, рациональное легко подвергается демонизации, оно – на опасной грани от магического.
Но граница безумия подступает к нам и с противоположной стороны, на которой «закон основания в одном из своих видов как будто наталкивается на исключение, например, если кажется, что какое-либо действие происходит без причины, или возвращается умерший, или каким-либо иным образом прошлое или будущее становится настоящим, или далекое – близким»[88]88
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. С. 450.
[Закрыть].
Получается, что устои нашего рассудочного и разумного (абстрактного) познания оберегают наши рубежи, но и угрожают им своей мнимостью, зыбкостью. Познание дробного, или (что то же) существование в дробности, разделенности, в рамках индивидуации, есть слепое, бессмысленное состояние «я», всегда находящегося на грани мании преследования.
Но человеку ведомо иное познание, познание, свободное от интересов воли и отражающее ее вечную объектность, – «платоновские идеи». Таким познанием является не наука, а искусство, стоящее вне эмпирического (рассудочного), но и вне абстрактного (разумного). Это познание есть интуиция гения, способность к чистому созерцанию. Здесь объект предстает изолированно: вне отношения к субъекту (и так приближается к своей идее), а субъект растворяется в объекте, сливается с ним. Здесь преодолеваются чары индивидуации, и воля познает себя в незамутненном образе вечности.
Есть, однако, и иной способ выхода из индивидуации. Он демонстрируется философом отдельно, как бы на полях, в известном смысле противореча духу его учения, призывающего к аскетическому отказу от самости. Вместе с тем он чрезвычайно важен для демонической стратегии символизма. Оказывается, некоторым дано особое переживание, «всемогущество воли», и оно позволяет им вступить в глубинную связь, «nexum metaphysicum», которая лежит за внешней причинностью и проходит не между явлениями, но через сущность вещей в себе. Так объясняется магия: «Должно быть возможно воздействие на вещи изнутри, а не только, как обычно, извне… так же как мы, основываясь на причинной связи, действуем в качестве natura naturata, мы способны действовать и в качестве naturae naturans…» «Стены, разделяющие и обособляющие индивидов… все-таки могут иногда допускать коммуникацию, как бы за кулисами, или наподобие скрытой игры под столом»[89]89
Шопенгауэр А. О воле в природе // Мир как воля и представление. Т. 2. С. 86.
[Закрыть]. Магу, таким образом, дано преодолеть эти стены не ослаблением, но, напротив, усилением в себе властной эгоистической субстанции, не смирением перед природой, но, напротив, обладанием ею. Идея освобождения от морока множественности оборачивается господством над ним. Одержимый волей становится повелителем ее духов, обращает их на службу себе[90]90
Заметим, что Шопенгауэр стремится противопоставить свою метафизическую магию ее мистическому истолкованию. Мистическое сознание выносит вовне волевой импульс, вручает его богам, в сношения с которыми вступает маг или магнетизер. В эпоху же монотеизма, или «божественной монархии», маг, не решаясь заключить частный союз с Единым творцом, «ищет прибежище» у дьявола (Шопенгауэр А. О воле в природе. С. 87–88). У Фрейда же человек поступает так же со своим бессознательным желанием, проецируя его на небо.
[Закрыть].
* * *
Наметим здесь параноидальный вектор, заданный шопенгауэровской мыслью. Найденный философом перводвигатель есть начало, определяющее собой агрессивный, эгоистический, бессмысленный строй бытия. Последний осуществляется в формах познания, которое, находясь на службе у воли, – относительно, не субстанционально, лишено метафизического смысла. Рассудок, как и разум, в своем рвении, в своей направленности на объект, может легко обернуться безумием, в котором он примет бессмысленную и бесцельную игру мировой воли за тайный умысел мироздания, направленный против него. (Эту тему мы найдем в «Мелком бесе».) Однако тот, кто преодолеет слепоту земного мышления по мотивам, приобщится к субстанциональному началу, воле в себе. Отсюда происходит символистская тема единения с роком, тема высокого эгоцентризма и тема художника, вступающего в заговор с мировой волей против дробного мироздания. (Мы найдем ее в чистом виде у Логина в «Тяжелых снах», но она отзовется в магических притязаниях всех персонажей параноидальных романов, как и в позиции их авторов.)
НицшеНицше и русский символизм – сложнейшая, противоречивая и поистине бездонная тема. Я коснусь ее лишь в связи с ницшевским освещением, или ницшевскими прототипами тех фигур, у Сологуба и особенно Андрея Белого, которые относятся, как представляется, к поэтике параноидального романа.
Дробление и псевдоединство
У истоков бытия лежит противоречие – говорит Ницше в «Рождении трагедии», своей первой книге, еще признающей «вещь в себе» (первоединство) и мир кажимости, или посюсторонней множественности. Противоречие живет в самом сердце Первоединого, поэтому дробление как разрывание целого – это жест, воспроизводящий глубинную сущность мироздания. Поэтому Дионис, бог дробления, взрыва, нарушения границ, и дионисийский художник трагедии более всего соприкоснулись с последней тайной жизни, со страданием и радостью первосущего, вечно творящего и вечно разрушающего мир индивидуации. Последний, по Ницше, может быть оправдан в вечности только как эстетический феномен и, значит, – только благодаря дионисийскому художнику, магически вторящему этому созиданию-разрушению бытия. Дробление – это динамика, а дионисийское состояние раздробленности – это трагическое состояние собственной нарушенности, разорванности. Оно прямо противоположно успокоенности в границах индивида, в блаженном, не знающем тревог аполлоническом забвении.
Ранняя ницшевская космогония циклична: мироустроительная сила «подобна гераклитовскому ребенку, который, играя, расставляет шашки, насыпает кучки песку и снова рассыпает их»[91]91
Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Наука, 1990. Т. 1. С. 155.
[Закрыть]. Однако она так же эсхатологична, ибо Ницше говорит о «конце индивидуации», о победе над ее чарами и пришествии третьего Диониса. Если повторяемость – это ритм игры, то необратимость как абсолютный конец, разрыв, исчезновение, приход нового – катастрофична.
Дионисийский герой катастрофичен. Он – «благая весть» о грядущем, подчеркивает Ницше, и о финале нынешнего. Для нас важно это переживание финальности в сочетании с особым знанием как ожиданием и «подозрением». Подозрение – это некое углубленное зрение, которому вот-вот откроется тайна и которое вместе с тем угадывает неподлинность наличного бытия, его скорую гибель. Подозрение – это нарушение автоматизма восприятия и попытка вырваться из защитных принципов индивидуации. Подозрение перетекает в переступание, или преступление, то есть нарушение границ и мер, и оказывается связано с ловлей и преследованием. Границы и меры буквально врезаются в тело Диониса, рвут на части. «Тот, кто своим знанием низвергает природу в бездну уничтожения, на себе испытывает это разложение природы»[92]92
Там же. С. 90.
[Закрыть]. Трагический герой «путается в сетях индивидуальной воли», он преследуем пространством, настигаем временем, уловлен причинностью. Олимпийские боги, эти воплощенные principia individuationis, мстят ему, отнимая рассудок и жизнь.
Так происходит с преступным мудрецом Эдипом, который, женившись на матери, пытается повернуть колесо времени или причинности, так происходит и с Прометеем, посягнувшим на огражденную от человека собственность богов.
Раздробленность – это также тема бессознательного и безумного (что в контексте дионисийского мудреца и художника – одно и то же. Подо-зрительное, или про-зревающее, переходящее границы, магическое знание – это знание по ту сторону рассудка, по ту сторону «я». Так, гений «чудесным образом уподобляется жуткому образу сказки, умеющему оборачивать глаза и смотреть на самого себя; теперь он в одно и то же время – субъект и объект, в одно и то же время – поэт, актер и зритель»[93]93
Там же. С. 75–76.
[Закрыть]. Вместе с тем, соединенный в акте творчества с Первосущим, он делается центром, «вокруг которого вращается мир», его «я» «не сходно с “я” бодрствующего эмпирически реального человека, а представляет собой единственное вообще, истинно сущее и вечное, покоящееся в основе вещей “я”, сквозь отображения которого взор лирического гения проникает в основу вещей»[94]94
Там же. С. 74.
[Закрыть].
Выходу из себя, чрезмерности противостоит пребывание в рамках. Аполлон противостоит Дионису. Однако, по Ницше, оба принадлежат эстетической стихии и нуждаются друг в друге. Подлинным врагом трагического оказывается не Аполлон, но «теоретический человек» Сократ. Сократ, или разум, есть вырождение аполлонического, абсолютное застывание границ и мер в логике. Сократ – это гимн сознанию, невыносимый оптимизм науки, претендующей на постижение тайн мироздания. Именно Сократ начал «плести» эту рациональную «сеть», покоящуюся на «несокрушимой вере», «что мышление, руководимое законом причинности, может проникнуть в глубочайшие бездны бытия… не только познать бытие, но даже и исправить его»[95]95
Там же. С. 114.
[Закрыть].
Здесь начинается важная для нас тема насильственной рационализации, рацио как ловушки, сети, которая силится захватить, рассчитать, привести к тождеству, упорядочить неисчислимую и ничему не равную стихию бытия[96]96
О противостоянии Ницше рациональным «тождествам», «категориям мышления», метафизике и т. д.: Делез Ж. Ницше и философия. М.: Ад Маргинем, 2003. С. 95–98.
[Закрыть].
Определяются два полюса (в дальнейшем две «силы»):
– дробление, или взрывание как динамическое, бессознательное, безумное, разрушительно-созидательное, преступно-чрезмерное, магическое (имеющее отношение к тайне бытия). Позже Ницше назовет это волей к власти;
– псевдоединство: нечто, порожденное мышлением, устойчивое, упорядоченное, равное самому себе и претендующее на первичность и истинность.
Ко второму полюсу отойдет весь вымороченный сознанием мир «ценностей»: мораль, категории разума, метафизика и христианство (этот «платонизм для народа»), наконец, религия нового времени – позитивизм, или «мифология» атома.
По Ницше, инстинкт жизни «примыслил» к ней то, чем она может быть измерена, оценена, обозначена, упорядочена. Забота о самосохранении потребовала от нас установить цены, меры, эталоны. Но это лишь «чистые понятия» нашего поверхностного сознания, спроецированные на небо и сгустившиеся в образе Всевышнего как Первотворца, или первосубъекта, причине причин, начале начал. Или, напротив, они спустились на землю и там разрослись фантасмагорией материальности, застыли пресловутой неделимостью вещества. «Это мы, только мы выдумали причины, последовательность, взаимную связь, относительность, принуждение, число, закон, свободу, основание, цель; и если мы примысливаем, примешиваем к вещам этот мир знаков, как нечто «само по себе», то мы поступаем снова так, как поступали всегда, именно мифологически»[97]97
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 257.
[Закрыть].
Субъект как предрассудок
Уже в первой книге дионисийское познание предстает как чистое действие: художник не создает отдельный от себя образ, но как бы переливается в него. Остается не субъект и объект, но акт творения, мысли. Впоследствии, когда уже выкинута «вещь в себе», вместе с Кантом и Шопенгауэром, единственно сущей остается у Ницше его «воля к власти», которая есть только движение или сила – сила господства и сила подчинения. Остается одна «достоверность», или «реальность» – реальность инстинктов и аффектов: благородных, здоровых, аристократических, и низких, болезненно-плебейских. Все остальное производно. Производны «я», субъект, душа, – отсюда Творец, Бог, наконец – суверенный свободный индивид. Производны – от слабости, мести, обиды на силу за то, что она сила. Ведь обижаться можно только на некую субъективную самотождественность, на сознающего, на волящего, а не на воление, не на действие, но на деятеля. Деятель виноват, деятель несет ответственность. «Требовать от силы, чтобы она не проявляла себя как сила, чтобы она не была желанием господства… жаждою врагов, сопротивлений и триумфов, – столь же бессмысленно, как требовать от слабости, чтобы она проявляла себя как сила. ‹…› Совершенно так же, как народ отделяет молнию от ее сверкания, и принимает последнее за акцию, за действие некоего субъекта, именуемого молнией, так же и народная мораль отделяет силу от проявлений силы, как если бы за сильным наличествовал некий индифферентный субстрат, который был бы волен проявлять либо не проявлять силу. Но такого субстрата нет; не существует никакого “бытия”, скрытого за поступком, действованием, становлением; “деятель” просто присочинен к действию – действие есть все»[98]98
Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 431.
[Закрыть]. Психологический атавизм, или «моральный предрассудок», заставляет нас расчленять нерасчленимое: действие на субъекта как причину и действие как следствие. Подобное расчленение есть мифологизация, наивное одушевление. Все происходит из инстинкта и аффекта. Самосохранение и обида порождают Творца (causa sui), который ответствен за все, и его противоположность, Сатану, субъекта зла или вины. Порождает душу, с ее греховностью, мыслящего субъекта, носителя сознания. «По сути, народ удваивает действие, вынуждая молнию сверкать: это действие-действие, одно и то же свершение он полагает один раз как причину, и затем еще раз как ее действие. Естествоиспытатели поступают не лучше, когда они говорят: “сила двигает, сила причиняет”, и тому подобное, – вся наша наука, несмотря на ее расчетливость, ее свободу от аффекта, оказывается еще больше обольщенной языком, и не избавилась от подсунутых ей ублюдков, “субъектов” (таким ублюдком является, к примеру, атом, равным образом кантовская “вещь в себе”)[99]99
Отметим, что Ф. Г. Юнгер интерпретирует критику рациональности Ницше таким образом, что под нее подпадает и антирационализм Белого, в том числе в его антропософской ипостаси и выпадах против недооценки воображения Кантом: «Рассудок постигается здесь как окостеневшая способность воображения. Эта способность воображения здесь оказывается как бы текучей. Мир способности воображения, которая уже не изолирована и не разделена рассудком» (Юнгер Ф. Г. Ницше. М.: Практика, 2001. С. 128).
[Закрыть]; что же удивительного в том, если вытесненные, скрыто тлеющие аффекты мести и ненависти используют для себя эту веру и не поддерживают в сущности ни одной веры с большим рвением, чем веру в то, что сильный волен быть слабым, а хищная птица – ягненком; ведь тем самым они занимают себе право вменять в вину хищной птице, что она – хищная птица…»[100]100
Ницше Ф. К генеалогии морали. С. 431.
[Закрыть]
Поиск причины как болезнь
К. Ясперс разоблачал вторичность фрейдовских открытий по отношению к гениальной интуиции Ницше. Тот, в самом деле, прежде Фрейда писал о «вытесненных» и «тлеющих» аффектах[101]101
Ср. о психологизме Ницше как самой слабой стороне его гения: Юнгер Ф. Г. Указ. соч. С. 115 и др.
[Закрыть], которые «пользуются верой» в потустороннее. Иными словами, предугадал психологический механизм проекции вместе с его культурно-историческими последствиями – мифологией, метафизикой, религией[102]102
См. об этом: Элленбергер Г. Ф. Открытие бессознательного. С. 329–335.
[Закрыть]. Подобно Ницше (но здесь только до некоторой степени), Фрейд связал «смутное познание» параноиков с научным детерминизмом. Разумеется, Ницше как идеолог иррационального был куда радикальнее! У него само примысливание субъекта как причины восходит к параноидальному инстинкту поиска вины (Ницше, впрочем, еще не пользуется этим клиническим термином, выражаясь языком характерологии: зависть, месть, злопамятство, ненависть). А последний вытекает из «морального предрассудка» противоположностей. Кто сказал, что вообще есть противоположные понятия, скажем добро и зло? Есть только сила и слабость, здоровье и болезнь. Сила действенна, а слабость – рефлексивна и, значит, вторична, реактивна[103]103
См. деление ницшевских «сил» на «активные» и «реактивные» у Делеза: Делез Ж. Ницше и философия. С. 102–161; Он же. Ницше. СПб.: Machina, 2010. С. 31–52.
[Закрыть], рассудочна, злопамятна. На стороне силы, таким образом, бессубъектность как безответственность и – «невинность». Но что оказывается на стороне слабости? Можно ли сказать, по Ницше, что и она не виновата, но лишь равна своей неудачной природе? Не виновата (ибо вина – это предрассудок), но достойна осуждения, даже – проклятия.
Здесь слышна противоречивость[104]104
Ср. о противоречивости отрицания Ницше рационального у Е. Н. Трубецкого: «Всякое логическое отрицание есть активное проявление нашего разума и постольку – самоутверждение разума. Когда предметом нашего отрицания становится самый наш разум, самая наша логика, т. е. то самое, что отрицает, мы впадаем в явное противоречие. Наше сомнение в мысли изобличается самым движением нашей мысли, которая сомневается» (Трубецкой Е. Н. Философия Ницше. Критический очерк // Ницше: Pro et Contra. CПб., 2001. С. 726). Ср. также трактовку Ницше в пределах рационализма у Автономовой: «Поначалу, когда иррационализм только начал складываться в нечто философски самостоятельное, отличное от религиозного мистицизма… он строился преимущественно на материале тех же самых понятий, которые использовались господствующими рационалистическими системами» (Автономова Н. Рассудок. Разум. Рациональность. С. 144–145).
[Закрыть], которую мы хотели бы подчеркнуть.
Вспомним, что Ницше, безусловно, был создателем оригинальной поэтики болезни. Кровообращение, обмен веществ, пищеварение становятся фигурами его стиля. Он – первый диагност человечества, симптомолог[105]105
Ср. о Ницше, который «прочертил болезненные линии европейского мышления, сделав их симптомами своего безумия»: Аронсон О. Игра случайных сил // Делез Ж. Ницше и философия. М.: Ад Маргинем, 2003. С. 12.
[Закрыть] его заболеваний. Физиологические ритмы вторгаются в высшие сферы и определяют дух нации, ее характер, сплетаются с ее философией и историей. По его собственному признанию, он «обонял» потроха всякой души. Здесь, в физиологии, намечается у Ницше та удивительная инстанция, которую можно назвать бессубъектной активностью[106]106
Ср. у В. Подороги о Ницше: «Как же мыслить тело? Мыслить тело можно, только преодолевая классические оппозиции “субъект – объект”, “дискретное – непрерывное”, “микрокосм – макрокосм”, т. е. экспериментируя с такими аналогиями, образами, метафорами, которые не только разрушают эти оппозиции, но и формируют представление о телесной активности как о непрерывном потоке психосоматических событий, ни одно из которых не может быть «фиксировано» в рефлексивной процедуре декартовского типа» (На высоте Энгандина. Фридрих Ницше // Подорога В. Выражение и смысл. М.: Ad Мarginem, 1995. С. 174).
[Закрыть], безличной вредоносностью и порчей. Слабое само по себе заражает, инфицирует, портит кровь (и, значит, расу). Так, злопамятство еврейских жрецов отравило здоровую кровь народов-воинов монотеизмом. Немецкая мысль, подпавшая христианскому нигилизму, страдает от дурного пищеварения. Разложение, упадок движимы дурным ростом клеток. Они распространяются раковой опухолью. «Отравление», «опухоль», «дурная кровь», «анестезия» – слова из ницшевской поэзии болезни, которые всплывают в параноидальном дискурсе Серебряного века, в особенности у А. Белого. У Ницше – это сам порочный процесс, который имеет носителей – или переносчиков – иудеев, христиан, современных немцев, но как бы не восходит к индивидам, неопознаваем в лицах, за исключением разве что легендарного нигилиста Сократа или «паука рацио» Канта. («Я никогда не нападаю на личности»[107]107
Ницше Ф. Ecce Homo // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 705.
[Закрыть].)