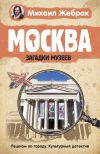Читать книгу "Визуальная культура Византии между языческим прошлым и христианским настоящим. Статуи в Константинополе IV–XIII веков н. э."

Автор книги: Парома Чаттерджи
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Начиная с конца IV века на протяжении еще как минимум столетия императоры и императрицы постоянно стремились собирать останки христианских святых. В источниках отмечается, что реликвии чаще всего помещались в непосредственной близости и/или соединении со статуями. В 440-х годах христианский историк Сократ Схоластик отмечает, что, когда императрица Елена послала домой частицу Святого Креста, Константин незамедлительно «скрыл ее в своей статуе. А его статуя, утвержденная на высокой порфировой колонне, находилась в Константинополе среди так называемой Константиновой площади. Это написал я хотя и по слуху, однако о подлинности сего события говорят почти все жители Константинополя» [Сократ Схоластик 1996: 39]. Из гвоздей, которыми Христос был прибит к кресту, Константин «сделал себе шишак и забрало и употреблял это во время войны». Сократ также утверждает, что, когда еретик Арий «находился уже близ так называемой площади Константина, на которой воздвигнута порфировая колонна», ему внезапно стало плохо, – получается, что комплекс из колонны и императорской статуи обладал достаточной силой, чтобы отпугивать врагов православия [Wisniecki 2019:66; Сократ Схоластик 1996: 60]. Что еще интереснее, Филосторгий (сам арианец) приписывает волшебную силу не реликвиям, помещенным внутрь статуи-колонны или под ее основание, а непосредственно самой статуе [Ibid.: 66]. Очевидно, христианские реликвии и статуя императора как вместе, так и по отдельности воспринимались в ранние века – а возможно, и позднее – как нечто особенное[40]40
Беате Фрике исследует связь между статуей и реликварием в своей книге «Павшие идолы, поднявшиеся святые: Сент-Фуа в Конке и возрождение монументальной скульптуры в средневековом искусстве» («Fallen Idols, Risen Saints: Sainte Foy of Conques and the Revival of Monumental Sculpture in Medieval Art», 2015).
[Закрыть].
Еще одна характеристика, объединявшая в эпоху Поздней Античности мощи и реликвии со статуями, – это способность к прорицанию. Хотя источники упоминают этот аспект очень редко, Роберт Вишневски пишет, что прорицание не считалось чем-то маргинальным или малозначительным. Когда Григорий Богослов обличал императора-вероотступника Юлиана, он говорил о могуществе священных реликвий: «Они… являются (epiphaneiai), прорекают; сами тела их, когда к ним прикасаются и чтут их, столько же действуют, как святые души их; даже капли крови и все, что носит на себе, следы их страданий, так же действительны, как их тела» [Ibid.: 70; Григорий Богослов 2007: 6].
В «О церемониях» (De Cerimoniis) X века содержится немало свидетельств той важности, которая придавалась реликвиям, и сравнительной нехватки икон в имперском контексте[41]41
См. статью о «De Cerimoniis», написанную Майклом Маккормиком для «Оксфордского словаря Византии» под ред. Александра П. Каздана («Oxford Dictionary of Byzantium», 2005, онлайн-версия). См. также [Cameron 1992: 106–136] и комментарии в [Macrides 2011: 219].
[Закрыть]. Этот трактат, составленный императором Константином VII Багрянородным, в мельчайших подробностях описывает большие и малые церемонии, восхваляя императорский двор и его служителей. Не столь важно, имели ли на самом деле место описанные в книге церемонии; нас интересует тот факт, что они были сформулированы для некоей цели, будь то создание процедуры на будущее и/или компилирование практик из прошлого.
В трактате ничего не говорится о статуях, однако автор постоянно выстраивает связь между визуальными выражениями императорской власти и собранием реликвий. В первой же главе («Процессия к великому храму») упоминается посох Моисея, также священные реликвии, хранившиеся в храме Пресвятой Богородицы, три «больших и красивых креста», находившиеся в крестильне этого же храма, и «драгоценнейший Крест святого Константина» из церкви Святого Стефана Первомученика [Constantine Porphyrogennetos 1829: 8–9]. Наиболее заметными объектами являются кресты, выполненные из серебра и золота. И даже хотя в этой главе описывается посещение императором собора Святой Софии, автор не упоминает ни единого священного изображения, которое можно было найти в этом величественном здании. Император воздавал почести Евангелию; целовал патриарха; возносил благодарность Господу в императорских вратах и у алтарной перегородки (которая, вероятнее всего, была украшена иконами, хотя в тексте об этом не говорится); целовал напрестольную пелену и кланялся до земли перед чашами для причастия, дискосами, фрагментом пеленки младенца Христа и «позолоченным золотым распятием» в амбулатории, а далее проходил в часовню для церемонии почитания «драгоценного Креста, содержащего в себе частицы, которые свидетельствуют о страстях Господа нашего и Бога» [Ibid.: 16].
На протяжении всей главы объектами императорского внимания и поклонения остаются различные элементы алтарного убранства и кресты – те, о которых известно, что в них хранятся реликвии, либо обычные. Кроме того, автор упоминает атрибуты императорской власти: скипетры и инсигнии, знамена, скрижали (под которыми, вероятно, подразумеваются таблички с надписями, закрепленные на скипетре, либо книги/обложки книг) [Ibid.: 15 (см. сноску 2)] и короны. Это ожидаемо, учитывая характер текста, но тем не менее обращает на себя внимание тот факт, что описание регалий сопровождается отсутствием описания священных изображений. Таким образом, автор выражает желание и потребность императорской власти ассоциироваться скорее с реликвиями, нежели с иконами. За исключением образа Христа в Хрисотриклинии, т. е. тронном зале, нескольких изображений во Влахернах (большая часть которых, как сообщается, была выполнена из серебра, а в одном случае говорилось о мраморном рельефе), иконы Богородицы в церкви Святого Димитрия, а также намека на чудотворную икону, хранившуюся в авраамитском монастыре (известном под названием Ахиропиитос, из чего один ученый делает вывод, что там хранилась реликвия из категории ахиропиита, т. е. нерукотворная), мы не находим никаких иных упоминаний[42]42
См. комментарии в [Carr 1997: 87].
[Закрыть].
Сравнительная скудность упоминаний священных образов в трактате «О церемониях» соответствует той тенденции, которая хорошо исследована историками, – в IX–X веках в различных пространствах Большого дворца основное внимание уделялось именно мощам и реликвиям. В самом центре дворцового комплекса стоял храм Богоматери Фаросской, где, по словам Робера де Клари, хранились ценнейшие реликвии христианства, включая частицы Животворящего Креста, копье Лонгина, гвозди и кровь Христову [Klein 2006: 79]. Кроме того, множество реликвий хранилось в Новой церкви (Неа Экклесиа), построенной по соседству с дворцом в эпоху Василия I (даты строительства: 876-80 гг.), и в оратории Святого Стефана. По определенным праздничным дням в специальных местах дворца размещались кресты [Ibid.: 80]. Императорскую клятву при восшествии на престол приносили, положив руки на частицы Креста, которые император также возил с собой в военные походы. В эпоху императора Маврикия эти частицы брали в битву – их закрепляли на навершии золотого жезла, а в позднейшие эпохи они хранились в реликвариях, иногда обильно украшенных изображениями, – примером может послужить Лимбургская ставротека [Ibid.: 89]. Таким образом, в военном контексте икона и реликвия действовали вместе. Однако если речь идет о Большом дворце, то главный упор делался именно на реликвию.
Наконец, обратимся к последнему корпусу документов, в котором реликвиям придается по меньшей мере то же значение, что иконам, если не выше, – к рассказам паломников. В отличие от воспоминаний путешественников [Ciggaar 1996], главная задача таких текстов – рассказать обо всем маршруте священного пути и о священных объектах, увиденных по дороге. Как продемонстрировал Джордж Маджеска, русские паломники стремились в Константинополь, чтобы увидеть реликвии [Majeska 1984]. Именно их глазами ученые могут взглянуть на великолепную подборку реликвий, хранившихся в различных частях собора Святой Софии, включая реликвии Страстей, стол, за которым Авраам угощал ангелов, железную кровать мучеников, а также огромное количество мощей. Интересно, что расположение многих реликвий было привязано к колоннам: примером служат порфирные колонны в северо-восточной экседре, колонна в северо-западном приделе, где было якобы погребено тело святого Григория Чудотворца, которого перепутали со святым Григорием Богословом, и колонны, об которые паломники терлись больными частями тела в надежде на исцеление [Ibid.: 79]. Русские пилигримы все-таки упоминают некоторые образы в соборе: икону Спасителя, расположенную поблизости от реликвий Страстей [Ibid.: 82], икону Богородицы в кивории неподалеку от северного придела [Ibid.: 80], икону Христа над царскими вратами, икону Богородицы во внутреннем притворе и образ архангела Михаила в притворе. Однако в каждом случае икона упоминается лишь потому, что ее свойства ассоциируются с реликвиями, или потому что она является чудотворной. Как проницательно отмечает Карр, упомянутые иконы «с одной стороны, связаны с историями, а с другой… с выделениями: обычно они источают миро, кровь или воду. <…> Ревностные паломники увозили с собой именно эти выделения… а не копии икон. <…> Характерно, насколько редко в их рассказах упоминается какое-либо место, если оно примечательно только наличием иконы» [Carr 2002: 86–87].
В другом эссе 1990-х гг. Карр говорит о недостаточном количестве источников, в которых упоминались бы иконы, существовавшие при Византийском дворе. Анализируя источники, он подводит итог: «Нет упоминаний знаменитых икон – таких как Одигитрия, Влахернетисса, Агиосоритисса, Христос Антифонитис, Христос Халкитис. Более того, даже упомянутые иконы фигурируют почти исключительно в качестве пространственных маркеров для совершения ритуалов. Они не являются ни целями для процессий, ни смысловыми центрами церемоний. <…> Аналогичным образом ясно, что иконы не играли никакой роли во время императорских свадеб, коронаций и похорон» [Carr 1997: 87]. Это важные наблюдения, которые многое говорят о роли иконы в целом. Далее Карр доказывает, что единственной иконой, закрепившейся в придворном контексте, была Богоматерь Одигитрия и что это произошло в более позднюю эпоху, когда к власти пришла династия Комнинов [Ibid.: 96]. Однако важность Одигитрии «не существовала по умолчанию, а была приобретена, причем приобретена за счет других икон Константинополя» [Ibid.: 89]. Тот факт, что использование и выставление икон при Византийском дворе не было чем-то само собой разумеющимся и что потребовалось немало времени, прежде чем Одигитрия завоевала свой особый статус, представляется крайне интересным. Не следует полагать, что священные образы были единственным (или даже основным) элементом визуальной идентичности Византии в определенные периоды и в определенных пространствах.
Существует особый корпус текстов, в которых действительно встречаются упоминания икон без обязательной привязки к реликвиям (хотя и реликвии тоже упоминаются в больших количествах). Я имею в виду агиографии, или жития святых, – основной литературный жанр Византии на протяжении большей части ее истории. Доказано, что пространные эпизоды, посвященные созданию и рассматриванию икон в агиографических текстах X и XI веках, способствовали открытию дискурса по вопросам визуального представления (присутствие и отсутствие, евхаристия и икона и т. д.) [Chatterjee 2014]. Но если в этом жанре священный образ наделен объемным и сложным контекстом, то в других такой контекст характерным образом отсутствует. В некоторых житиях, созданных после эпохи иконоборчества, основным мотивом является почитание икон. Учитывая, что крайне малое количество реальных икон действительно пользовалось религиозным почитанием, логично будет предположить, что именно агиография стала первичным текстовым пространством, посвященным иконе. Но даже в этих текстах встречаются упоминания статуй. Иногда они выполняют роль идолов, оттеняя собой православную икону. Однако в некоторых случаях их сопровождают такие характеристики, как долговечность, способность к прорицанию и красота, которые приписываются статуям в других литературных жанрах. Пример: мраморная икона святого Андрея, как утверждается, обладала невероятным портретным сходством и была снабжена надписью еще при жизни святого. В эпоху Константина V иконоборцы попытались ее уничтожить, но у них ничего не вышло [Kazhdan, Maguire 1991: 19]. Это совпадает с тем, как «ведут себя» статуи в некоторых патриографиях (см. главу 2), когда их напрасно пытаются уничтожить, но они остаются невредимы.
Более широкие следствия и вопросы
Давайте вкратце подведем итоги по проанализированным источникам (это выборочный подход, но в последующих главах мы добавим красок): во многих первичных источниках (за исключением агиографий) иконы не получают особого внимания, которым в определенной степени пользуются статуи и реликвии. Возможно, это связано с риторическим выделением; и действительно, нельзя исключить, что в Константинополе все-таки существовало какое-то количество священных образов, находившихся у всех на виду, о которых по какой-то причине просто не стали упоминать в письменных текстах. Но даже если так, это означало бы, (а) что такие объекты считались бы менее значительными с точки зрения текстуальной точности, и это уже в какой-то степени ставит под вопрос их значимость в общем визуальном репертуаре столицы, и (б) что статуи обладали таким же статусом, как реликвии, а в некоторые моменты, возможно, даже их превосходили. Вторичная литература рассматривает множество скульптурных объектов, однако авторы, за исключением Бассетт, не предлагают всеобъемлющего анализа круглых статуй и/или не обращают на них исключительного внимания [Bassett 2005]. Все-таки Демус полагает, что свойства скульптуры, как круглой, так и рельефной, оказали длительное и важное влияние на визуальный дискурс [Demus: 1976; Pentcheva 2010:1]. Из более современных исследователей его поддерживает Пенчева. Некоторые, в особенности Карр, обратили внимание, как удивительно редко упоминаются священные образы в тех контекстах, где они, казалось бы, должны встречаться чаще и в больших количествах. Однако следствия этой тенденции в пересечении с ролью статуи и реликвии еще не были в должной степени исследованы.
Последствия описанной выше ситуации самым непосредственным образом связаны с нашим пониманием иконоклазма, или иконоборчества. Хотя ученые мимоходом отметили, что иконоборцы не были противниками любого визуального изображения как такового, я полагаю крайне важным тот факт, что на протяжении этого периода практически все статуи в Константинополе (и, вероятно, не только в нем) остались нетронутыми. Если верить текстовым источникам, они пережили иконоклазм и сохранились на более долгий срок и в лучшем состоянии, нежели некоторые христианские изображения. Именно эта способность, с моей точки зрения, и стала залогом приписываемого им могущества, которым не отличались иконы. Более того, в тот период их существование в столице казалось чем-то само собой разумеющимся. Авторы – защитники икон – изо всех сил старались оправдать священные образы и принизить идолов[43]43
См. работу Чарльза Барбера [Barber 2002].
[Закрыть]. Однако не сохранилось никаких свидетельств, что в процессе определения истинных и ложных образов какая-либо сторона использовала в качестве примера хотя бы одну из константинопольских статуй. В «Житии Андрея Юродивого» статуи на Ипподроме соблазняют женщину, чтобы она вступила с ними в соитие, но в дальнейшем их не уничтожают, а просто лишают предполагаемой способности к совершению зла [Ryden ed. 1995: 305].
Такое сравнительно постоянное присутствие статуй выглядит тем более удивительным в контексте недавней переоценки роли иконы в Византии. И хотя авторы работ по православным образам не изучали статуи как таковые, их исследования выглядят интересными. Для начала рассмотрим свидетельства, используемые для оценки роли святых икон до иконоклазма. Следует упомянуть фундаментальный труд Эрнста Китцингера, и на это есть как минимум две причины. Во-первых, Китцингер решительно утверждает, что рост поклонения перед иконами имел место в частном пространстве в первые века их истории [Kitzinger 1954: 98][44]44
По словам автора, как только иконы стали частью домашнего обихода, «исчезла возможность контролировать, как с ними обращались и не было ли злоупотреблений».
[Закрыть]. Во-вторых, в подробнейшем списке перечисленных им икон нет практически ни одной, которая была бы связана с Константинополем. В разделе «Палладионы» Китцингер пишет о выраженном сдвиге, когда из частного пространства икона перешла в публичное, однако в качестве примеров приводит тетрапилоны в Александрии, Антиохии и Кесарии. Предполагается, что знаменитое изображение Христа над Халкийскими воротами, со снятия которого отсчитывается эпоха иконоклазма, было выставлено на всеобщее обозрение в то же время, что иконы в Александрии и других городах [Ibid.: 110–112]. Однако ученые не обнаружили никаких доказательств, что икона Христа в принципе когда-либо находилась на этих воротах – до эпохи императрицы Ирины, которая в пропагандистских целях заявила, что восстанавливает все разрушенное императорами-иконоборцами[45]45
См. фундаментальное исследование Мари-Франс Озепи [Auzepy 1990: 445–492], а также [Brubaker, Haldon 2011: 151] и комментарий Яся Эльснера [Elsner 2012: 368–394].
[Закрыть]. Возникает вопрос, присутствовали ли иконы на улицах столицы в таких же количествах и с той же последовательностью, что статуи.
Важная деталь: некоторые ученые полагают, что культ икон – в особенности Богородицы – появился гораздо позднее и всегда занимал подчиненное положение на фоне более устоявшегося культа реликвий [Pentcheva 2006: 52–56]. С точки зрения Грабара, постепенный рост популярности икон пришелся на VI–VII века [Grabar 1943–1946: 343ff]. Следуя этой логике, иконоклазм выглядит как реакция на постоянное увеличение использования и присутствия икон[46]46
См. комментарии в [Kitzinger 1954: 115–116]. Другие важные работы о формировании и росте культа икон [Cameron 1978:79-108; Cameron 1979:205–234; Cameron 1992: 1-42].
[Закрыть]. Пенчева интересно комментирует то, каким образом новый подход сказался на уже установившейся хронологии: получается, образы Марии, которые являлись наиболее важными константинопольскими иконами (в противопоставление ахиропиита-нерукотворным, сочетавшим в себе свойства иконы и реликвии), не принимали участия в общественной жизни Константинополя в период до иконоклазма и заняли полноценное место как элемент процессий только в X веке, когда споры о роли икон были завершены [Pentcheva 2006: 52–56]. Кроме того, Лесли Брубейкер и Джон Хэлдон в своем исследовании, посвященном доиконоборческим источникам, утверждают, что вопреки сложившемуся мнению именно иконофилы, а не иконокласты изменили практику почитания икон и что культ икон был впервые утвержден официально только в 787 году, в эпоху Второго Никейского собора. Далее Брубейкер и Хэлдон упоминают первого императора, за которым закрепилась слава иконоборца, – Льва III: «Самое большее, что можно сказать о действиях Льва, – он ограничил возможность размещения образов в общественных местах, а также, возможно, создание и демонстрацию определенных типов икон» [Brubaker, Haldon 2011: 177].
Сложно сказать, действительно ли Лев снял икону Христа с Халкских ворот, и византисты хорошо об этом знают. Однако учитывая все, что сказано выше, а также устойчивость мифа о таком поступке императора, нельзя ли допустить, что икона была снята – или люди верили, что она была снята, – поскольку она находилась в непривычном для иконы месте? Это отличало бы ее от других икон, которые в то время, вероятно, не были включены в открытые городские пространства. Впрочем, поиск ответа на этот вопрос не входит в задачи настоящего исследования. Достаточно сказать, что если положение (буквальное и фигуральное) иконы в общественных пространствах Константинополя по-прежнему находится под вопросом, то в случае статуй подобных сомнений нет – они присутствовали в больших количествах и в целом неплохо пережили иконоклазм.
И действительно, о важности этих артефактов, которую они снискали даже в глазах чужаков, свидетельствует ситуация, сложившаяся в городе по итогам Четвертого крестового похода. Венецианцы, забравшие себе львиную долю сокровищ и земель Византии, захватили также множество икон, из которых значительное число было выставлено на Пала д’Оро, золотой иконостас собора Святого Марка, известной также как «икона икон»[47]47
Это описание приводится по мемуарам Сильвестра Сиропулоса, диакона собора Святой Софии. Подробное рассуждение см. в [Klein 2010: 194–196].
[Закрыть]. Кроме того, они сорвали роскошные переплеты с византийских манускриптов, повторили в убранстве собора Святого Марка византийские мозаики и заявили о своих правах на целый ряд бесценных реликвий, хранившихся ранее в византийской столице. При этом для украшения городского пространства они вывозили из Константинополя совсем другие объекты. Желая воссоздать у себя дома форумы и в особенности Ипподром, венецианцы установили на Пьяццетте и Пьяцце Сан-Марко монументальные статуи бронзовых коней, тетрархов, Карманьолу и многочисленные колонны [Barry 2010: 7-62; Nelson 2007: 143-51]. Реликвии и иконы, захваченные или купленные в Константинополе, отправились в часовни при храмах и монастырях, однако на общественном фасаде Светлейшей Республики, т. е. на площадях Пьяцца и Пьяццетта, не появилось ни единой православной иконы. Вместо этого там было представлено скульптурное наследие столь успешно разграбленной империи.