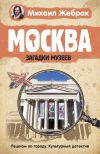Читать книгу "Визуальная культура Византии между языческим прошлым и христианским настоящим. Статуи в Константинополе IV–XIII веков н. э."

Автор книги: Парома Чаттерджи
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Статуя в истории
Помимо того, чтобы вернуть статуе ее законную роль неотъемлемого элемента византийской визуальной культуры, важно рассмотреть устоявшийся дискурс о скульптурном изображении в целом. История статуи весьма обширна и восходит к классическим, позднеантичным и иудео-христианским традициям, причем некоторые из них непосредственно питали период (IV–XIII века), рассматриваемый в настоящем исследовании. В качестве физического объекта статуи часто обращали на себя визуальное и иное внимание, поскольку в них видели тех богов, которых они изображали. Вместе с тем они служили и «предметом размышления» о таких вопросах, как богоявление, желание и видение, не говоря о прорицании, темпоральности и мимесисе[48]48
Среди таких исследований можно назвать [Stewart 1990; Dillon 2006; Dillon 2010; Steiner 2001; Neer 2010; Platt 2011]. Раннее в этой главе приводятся также исследования о римских и эллинистических статуях.
[Закрыть]. Каждая глава в настоящей книге посвящена отдельному аспекту этого феномена, происходящего из античного и позднеантичного мира. Здесь я приведу несколько самых ярких примеров, чтобы проявить тематические параллели с дальнейшими материалами моего исследования.
Замечательным примером служит рассказ Геродота о встрече Гекатея Милетского с фиванскими жрецами. В VI веке до н. э. Гекатей, логограф и этнограф, посетил Египет и попытался произвести впечатление на фиванцев, перечислив своих предков на шестнадцать поколений назад вплоть до богов. В ответ его привели в храм и показали 345 деревянных статуй верховных жрецов, созданных ими еще при жизни. Геродот во время своей предположительной поездки в Египет тоже как будто видел эти статуи. Эта история говорит не только о знании прошлого и «младенчестве греческой цивилизации перед лицом великой древности Египта» [Moyer 2002: 70–71] – статуя в ней служит осязаемым символом этой временной пропасти, внушающей страх и благоговение, а также генеалогической эмблемой [Ibid.].
Известно о нескольких случаях, когда в Античности статуи оказывались повергнуты и/или полностью разрушены. Пол Космин полагает, что манипуляции со статуями служат маркером разрыва в формировании истории и исторического времени или, напротив, их последовательного развития. И хотя Космин в основном говорит об империи Селевкидов, его наблюдения совпадают и с основными темами настоящего исследования. Свержение статуи императора означало не только отказ ему подчиняться: «в рамках общей гражданской культуры эллинистического мира разрушение статуи царя было распространенной, публичной и прозрачной идиомой, служившей для периодизации истории сообщества» [Kosmin 2018: 147]. Эта идея легко накладывается на византийскую картину мира, причем не только по отношению к портретам императора (пример – император Лев, приказывающий снять с ворот икону Христа). На Западе статуи (или идолы) тоже обозначали поворотные точки истории, «будучи визуальным объектом для размышления, который формирует историю и ход времени» [Akbari 2014: 619].
Такой же интерес представляет устойчивая связь между скульптурным изображением и способностью к прорицанию, сформировавшаяся в неоплатонической традиции [Athanassiadi 2015: 123]. И хотя Ямвлих, один из самых известных неоплатоников, возможно, осудил подобные практики, этот тип гаданий вошел в стандартный обиход и даже стал считаться чем-то престижным[49]49
См. дискуссии об отношении Ямблиха к статуям в [Addey 2014: 252–256].
[Закрыть], особенно в контексте теорий о конце света, или Апокалипсисе. Множество исследователей, занимавшихся вопросом апокалипсиса, в целом признавали, что в описаниях видений о конце света статуям принадлежало особое место, однако этот вопрос еще не получил внимательного рассмотрения.
Наиболее известное видение такого типа фигурирует во второй главе Книги пророка Даниила, и это, возможно, самое раннее описание апокалипсиса в истории иудаизма[50]50
См. также комментарии в [Kosmin 2018: 140–146].
[Закрыть]. Царь Навуходоносор II, величайший из правителей Вавилона, живший за четыреста лет до составления Книги Даниила, видит страшный сон. Проснувшись, он призывает к себе мудрецов, чтобы они истолковали значение сна, но сначала описали его сюжет. Мудрецы возмущаются такому нечестному требованию, и царь приговаривает их к смерти. Однако накануне казни к Навуходоносору является пророк Даниил и выполняет его желание:
Тебе, царь, было такое видение: вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его – из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю.
В своей интерпретации Даниил описывает конкретные империи и срок их жизни, сопоставляя их непосредственно с частями статуи. Форма статуи становится визуальной метафорой, позволяющей проиллюстрировать разделение времени и пространства. Более того, материалы, из которых она выполнена, выстраиваются в иерархию – от самого роскошного и драгоценного (золото) сверху до наименее обработанного и устойчивого (глина) снизу. Космин описывает статую целиком как нечто «переходное, непрочное, неустойчивое и идолообразное» [Ibid.]. В религиозном контексте Книги Даниила все эти описания абсолютно верны. Но в то же время истукан предстает вечным, непобедимым и устойчивым по сравнению с любым артефактом – кроме камня, который его обрушивает. Иными словами, именно статуя воплощает в себе величайшие империи и их владык, поскольку статуя имеет наибольшую ценность. Ее намеренно противопоставляют камню – природному, необработанному объекту, к которому не прикасались руки человека, – и так еще яснее становится ценность статуи по человеческим стандартам. И хотя это само собой очевидно, все-таки подчеркнем, что в постепенном разрушении статуи проявляется ход времени по мере того, как человечество шаг за шагом вступает в эру вечного и божественного.
Иудейская традиция не отставала от других ни в отношении к статуям, ни в разработке темы апокалипсиса. Еврейская версия конца света описана в Книге Зоровавеля, созданной в начале VII века в Палестине, и в этом тексте статуям уделяется определенное место. Как гласит легенда, прекрасная мраморная статуя девы станет женой сатаны и родит от него ребенка – последнего и величайшего из врагов Израиля. В основе этой истории лежит инверсия стандартного христианского нарратива, согласно которому дева остается невинной даже после того, как рождает мессию; в Книге Зоровавеля «дева» вступает в соитие с сатаной и приносит в мир своеобразного Антихриста. Что особенно актуально для нашего исследования, здесь мы видим, как христианский троп идолопоклонничества обыгрывается с еврейской точки зрения, когда Сатана вступает в отношения со статуей [Himmelfarb 2017: 56–57].
Как предполагает Алексей Сиверцев, в образе статуи из Книги Зоровавеля также отражается вся сложность отношения византийцев к античным идолам, в особенности «глубокое чувство единства… с классическим прошлым и оторванности от него» [Sivertsev 2011:162–170]. Марта Химмельфарб сначала допускает, что троп статуи появился в ответ на «скульптурный ландшафт» Византии, но в последующем отказывается от этой позиции, поскольку, с ее точки зрения, в VII веке производилось мало трехмерных изображений, а вместо них процветали мозаики и фрески [Himmelfarb 2017: 56]. Тем не менее преобладание произведений искусства этого типа никак не мешает тому потенциалу воображения, который уже был вложен в статуи. Как уже не раз отмечалось выше, статуй в столице было так много и они так сильно отличались друг от друга, что иногда (на самом деле довольно часто) они оказывались во всех смыслах куда заметнее, чем произведения христианского нескульптурного искусства. Упадок и/или полная остановка производства новых статуй никак не сказалась на могуществе тех, которые уже существовали. Углубляясь в византийский социальный контекст, Сиверцев пишет, что Зоровавель опирается на византийскую культуру и становится ее участником, хотя при этом отрицает некоторые ее аспекты и подвергает их инверсии [Sivertsev 2011]. Тема прекрасной заколдованной статуи – предвестницы падения царств – соответствовала топосам тогдашней византийской литературы. Книга Зоровавеля отлично вписывается в контекст происходивших тогда Византийско-персидских войн. Роли, предписанные статуе (предрекать кульминационный момент, отмечать собой конец эпохи, способствовать апокалипсису), выглядят логично в общем контексте довизантийской традиции, а также идей, сложившихся позднее в самой империи.
Организация глав
В каждой из последующих глав я исследую какую-либо категорию византийской литературы и определяю, какую роль в них играли статуи. В категоризации источников я придерживаюсь скорее жанрового, нежели хронологического подхода. Каждый текст, само собой, отличается от других образцов того же жанра и от текстов, написанных в других жанрах, – он был написан в определенных условиях, в определенное время и в определенном контексте (и я привожу эти данные). В каждом жанре проявляется особое измерение статуи вообще (а иногда и конкретной статуи), идет ли речь о способности предсказывать будущее, служить временным маркером или быть моделью мимесиса и красоты. Иногда ценность или роль, которую, например, горячо отстаивает автор патриографии, появляется также в одном из романов, или в хронике, или в эпиграмме. Значит, жанровые категории не являются закрытыми, скорее они взаимодополняют друг друга, а иногда и спорят друг с другом в том, что касается восприятия статуй. Также важно понимать, что жанры по самой своей природе подразумевают определенные горизонты ожиданий и тем, за которые (или против которых) они выступают. Некоторые темы, если и не методы их реализации, последовательно существуют на протяжении длительных временных периодов и являются таким же достойным предметом для изучения, как исторические изменения. В настоящей книге я рассмотрю такие последовательности, к которым исторически тяготеют выбранные мной жанры, а также поговорю о едва заметных и/ или радикальных изменениях в их подходе к статуе.
В главе 2 речь пойдет о патриографии – том невезучем жанре, которому вплоть до последнего времени не воздавали должного, за крайне малыми исключениями. Следует признать, что основные тексты этого жанра (так называемые «Краткие исторические заметки», или «Παραστάσεις σύντομοι χρονικαί», а также «Патрия») ни в коей мере не отличаются понятностью. Ученые по-прежнему не уверены в том, когда, при каких условиях и кем именно они были написаны. Тем не менее сам факт их создания уже означает, что мы должны принимать их всерьез и видеть в них частичку представления византийского общества о себе самом. В этой главе говорится, что патриографии описывают статую как тот вид искусства, который особенно активно сопротивляется контролю и вмешательству со стороны империи, особенно в непростую эпоху иконоборчества. Если христианские иконы подвергали сомнению, снимали с прежних мест, а порой и яростно уничтожали, то авторы «Кратких исторических заметок» и «Патрии» не раз повторяют, что поступить так со статуями было бы опасно. Поскольку в патриографиях особое внимание уделяется Ипподрому, я предлагаю по-новому взглянуть на это место, связанные с ним артефакты и саму природу имперского образа. Далее я показываю, как Ипподром, который историки литературы часто воспринимали как место, предназначенное для демонстрации императорского величия, по факту предстает в патриографиях как некая арена, чья визуальная конфигурация выглядит куда более осмотрительной и в сущности опасной по отношению к императорской персоне, чем нам ранее казалось. Будучи тем местом, где истинная и отраженная слава императора сходились воедино, Ипподром как бы усложнял нормативные правила, применявшиеся к имперскому образу. Глава заканчивается утверждением, что константинопольские статуи, якобы наделенные пророческим даром и способные оживать, обладали той харизмой, которой были лишены христианские иконы, особенно в период иконоклазма.
В главе 3 я рассматриваю подборку хроник вплоть до Четвертого крестового похода, в которых статуи ассоциируются со стабильностью и неизменностью. В этих источниках упоминаются как конкретные изваяния (например, Колосс Родосский или статуя Геракла в Константинополе), так и статуи в целом. Многие летописцы с любовью описывают не только круглые статуи, но и колонны, в которых они тоже видят прекрасные образцы скульптурного искусства. Однако наиболее интересны различия между тем, как в текстах предстают статуи и христианские образы. Выказывая последним все необходимое почтение, некоторые авторы все же показывают, что у могущества икон есть свой предел, особенно в наиболее критичные для империи моменты. Определенно, в постиконоборческую эпоху дискурс священных изображений не подразумевал, что даже самые рьяные их сторонники безоговорочно примут все аспекты иконы. Именно в этом свете я бы хотела рассмотреть феномен так называемого Македонского возрождения и в частности X век, когда было создано огромное количество произведений визуального искусства с отсылками к классике. Рассматривая несколько примеров этого «возрождения», я предлагаю взглянуть на произведения сквозь новую оптику. Я вижу в них не возвращение к Античности (успешное или нет), а осмысленное выражение того все еще непростого положения, в котором находилась икона в эпоху после иконоклазма. Авторы рассматриваемых мной текстов намеренно сдвигают православную икону из визуального поля, даже описывая важнейшие события в жизни города и империи. Это не только способ подчеркнуть величие императора (если он вообще изображен); в таком решении можно увидеть скрытую критику «пассивности» икон Христа и святых в некоторых чрезвычайных ситуациях, описанных в текстовых источниках.
В главе 4 я внимательно рассматриваю корпус романов, созданных в Византии в XII веке. Как часто отмечали исследователи, в этих текстах не содержится ни малейших упоминаний православного христианства, зато статуи встречаются во множестве, поскольку главные герои то и дело взывают к языческим богам у их алтарей, поклоняются им или, наоборот, порицают такие практики. Здесь я показываю, что статуи появляются в тексте не случайно и не из декоративных соображений. Они выполняют важные функции: пришпоривают сюжет, провоцируют критические ситуации или способствуют мирной атмосфере, ведут историю к кульминационной точке. Кроме того, статуи служат мерилом для таких ценностей, как красота и мимесис; мало какие артефакты или живые существа (за исключением, может быть, главных героев) могут поспорить с ними в плане физического совершенства. Поскольку главным орудием для создания выдуманных миров в этих романах служит риторика, я полагаю, что статуи здесь выступают в качестве символа неизменности, вне исторической правды, описанной в главе 3, – как того и требует риторика, применяемая авторами с упорством и мастерством. Чтобы понять, как именно византийцы интерпретировали визуальные образы, я также обращаюсь к византийским загадкам, завоевавшим популярность в XI веке. В процессе выясняется, что аналогичные ценности можно обнаружить и в других объектах византийского искусства: примером служат сундуки из слоновой кости и курильница. Эти артефакты намеренно созданы так, чтобы допускать множество толкований, зачастую откровенно противоречащих друг другу, что перекликается с требованиями риторической гибкости, характерными для вербальной сферы. Намеренно воздерживаясь от однозначных маркеров, эти образы заставляют зрителя распознавать всю сложность разворачивающейся перед ним визуальной риторики и получать от этого наслаждение.
В главе 5 я рассматриваю эпиграммы из «Греческой антологии», в которых прослеживается выраженный и устойчивый интерес к статуям различных видов. А именно, я обращаюсь к текстам из книги 1, книги 2 и книги 16, которая также известна как «Антологии Плануда» (хотя иногда использую и эпиграммы из других книг). Если эпиграммы, относящиеся к христианским памятникам и иконам (например, из книги 1), связаны с идеями покровительства, обращения к будущим поколениям и описания объектов, то в эпиграммах на статуях (книга 2 и не только) говорится о зрении, сходстве статуи с живым существом, реалистичности скульптуры как вида искусства и отношениях между божественным/героическим прототипом и его визуальным отображением. Именно об этом рассуждали участники иконоборческого процесса в VIII и IX веках, причем некоторые из них тоже обращались к жанру эпиграммы, чтобы рассказать о своей позиции. Я не утверждаю, что между эпиграммами о статуях, включенными в «Антологию», и дискуссиями об иконах есть конкретная связь. Однако я полагаю, что общность вопросов заставляет предположить, что иконоборчество подпитывалось модальностью экфрасиса (иногда выражаемой посредством эпиграмм), который ставил под вопрос, хотя бы и в иронической форме, самое основание визуального изображения. Ярче всего это прослеживается в ответах статуям, как видно из книги 2 и других частей «Антологии». Кроме того, в этой главе упоминаются роскошные предметы столового убранства, которые тоже становились объектами эпиграмм, порождая тем самым у зрителя/пользователя как игривые, так и серьезные ассоциации. И если по крайне мере один современник, Евстафий Солунский, мог намекнуть, как похожи эти предметы вкупе с их драгоценным содержимым на статуи Ипподрома (еще одно поле для пиров), то это значит, что в таких предметах тоже видели переносные скульптурные артефакты.
И пока мы размышляем о требованиях, предъявляемых к пирам, эпилог напоминает, что всему хорошему рано или поздно приходит конец. Статуи – будь то огромные монументы на колоннах, или самостоятельные изваяния, или маленькие статуэтки, которые можно было взять в руки, – упоминаются в тексте не только в своем нетронутом состоянии. Авторы подробно описывают и оплакивают разрушенные статуи. Кажется, что описание классических руин, если не статуй, в XI веке стало чем-то вроде топоса, который в следующем столетии принял окончательную форму. Михаил Хониат, митрополит Афинский и брат Никиты Хониата, в своем известном тексте оплакивает упадок современных ему Афин. И хотя Михаил считает христианизацию Парфенона важнейшим событием в истории города, он искренне сожалеет об исчезновении античного прошлого, останки которого видит в немногочисленных руинах, сохранившихся до его времени. Есть предположение, что он мог заказать для себя визуальное изображение классических Афин – изображение, которое по множеству причин представляло бы большой интерес для историков искусства, если оно по-настоящему существовало[51]51
См. эссе Пола Спека [Speck 2003: 29–32].
[Закрыть]. Однако помимо Афин, имевших особое значение для византийских авторов, руины других античных городов тоже «пробуждали в них чувство утраченного мира» [Magdalino 1992: 144]. Можно вспомнить, например, Михаила Атталиата с его коротким, но выразительным описанием разрушенного греческого храма в Кизике, Анну Комнину и ее пеан, обращенный к руинам Филиппополя, и письмо Феодора II Ласкариса о руинах Пергама [Ibid.].
В эпилоге вкратце рассказывается об одном конкретном упоминании византийской статуи, случившемся через много лет после того, как исчезли самые выдающиеся образцы этого искусства. Почти двести лет спустя после 1204 года некий дипломат и друг тогдашнего императора написал письмо, восхвалявшее красоты Нового Рима по сравнению с его старшим братом (который он называет «Древним Римом»). И хотя Мануил Хрисолора (автор письма) описал красоту христианского Константинополя по памяти (поскольку на момент создания этого текста он находился на итальянском полуострове) и отказался писать о соборе Святой Софии, так как слова бессильны передать все величие этого храма, он все же упомянул статуи и колонны, некогда украшавшие Новый Рим, и сообщил, что некоторые из них еще уцелели. Большая часть его письма посвящена именно статуям, их мемориальной ценности, а иногда – и отсутствию таковой. Даже когда от изваяний остаются лишь обломки, растащенные по конюшням и яслям, даже если они погребены под землей, память о статуях и о городе, в котором они некогда стояли, сохраняется многие годы после окончания пира. Таково последнее проявление их могущества.