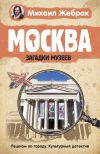Читать книгу "Визуальная культура Византии между языческим прошлым и христианским настоящим. Статуи в Константинополе IV–XIII веков н. э."

Автор книги: Парома Чаттерджи
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава вторая
Прорицание
Один из самых загадочных византийских рассказов связан с убийством, которое совершила статуя[52]52
См. [Cameron, Herrin 1984: 89–91]. Кэмерон и Херрин ориентируются на издание «Заметок», опубликованное в [Preger 1901:19–73]. Отрывки из «Заметок» приводятся в английском переводе Кэмерон и Херрин, если не указано иное.
[Закрыть]. Двое чиновников по имени Феодор и Химерий решили «исследовать» (historesai) некие изображения (eikones). Они отправились в Кинегион, римский амфитеатр, расположенный в константинопольском акрополе. К VII веку он уже успел превратиться в развалины, и его использовали для проведения политических казней [Herrin 2013: 198]. Но, надо полагать, там же находились и изображения, к которым держали путь наши герои. Добравшись до Кинегиона, они обнаружили статую:
…приземистую, коренастую и очень тяжелую. Я рассматривал ее и не переходил к своему исследованию, и Химерий сказал: «Ты верно делаешь, что смотришь, ведь это строитель Кинегиона». Когда я ответил: «Строителем был Максимиан, а архитектором – Аристид», в то же мгновение статуя (stele) упала на землю с высоты, а высота была немалая, нанесла Химерию сильный удар и убила его на месте. Я испугался, потому что там не было никого, кроме слуг, которые держали наших мулов, а они стояли за ступенями. Испугавшись, что мне тоже грозит опасность, я отволок его за правую ногу туда, куда бросают осужденных, и попытался скинуть его туда же, но был так напуган, что бросил свою ношу на краю и убежал прочь, чтобы искать убежище в Великом Храме. Когда я правдиво рассказал о том, что случилось, мне не поверили, пока я не принес клятву, потому что я был единственным свидетелем. И тогда родственники покойного и друзья императора пошли туда со мной, и прежде чем они подошли к тому месту, где лежал покойник, они в изумлении уставились на лежавшую статую. Некий Иоанн, философ, сказал: «Только божественной волей, как пишет Демосфен, могло случиться такое, что придворный был убит статуей (zodion)». И он сказал так императору Филиппику, и тот приказал закопать статую (zodion) на этом самом месте; так и было сделано, потому что уничтожить ее было невозможно. Поверь, что это правда, Филокалос, и молись, чтобы тебе не впасть в искушение, и будь осторожен, когда будешь смотреть на старые статуи (stelai), особенно языческие [Cameron, Herrin 1984: 89–91].
История выглядит краткой, даже обрывочной. Нам так и не сообщают, кем же была эта статуя (может быть, она изображала Максимиана-строителя или Аристида-архитектора?) и почему она убила невезучего Химерия. Мы не узнаем, почему император попытался разрушить статую и в чем состояло преимущество того, что ее закопали. Пророчество философа Иоанна, прозвучавшее слишком поздно, только добавляет загадок: кем же все-таки был Демосфен, в чьих книгах говорилось о статуях-убийцах, и почему жертвой обязательно должен был стать «придворный»?
Но пока читателя интригуют эти (и не только эти) вопросы, историк искусства тоже находит здесь немало интересного. Например, в начале рассказа наши герои намерены «исследовать» некие изображения – желание, которое понятно любому, кто занимается изучением искусства. Далее выясняется, что Феодор с Химерием – это не кабинетные ученые: они отправляются непосредственно к объекту своего интереса. И хотя за описанием дальнейших событий механика рассматривания исчезает, интересно, что Феодор отмечает, как он «не переходил к своему исследованию», потому что рассматривал статую. Нечасто герои византийских текстов так чистосердечно признают нехватку профессионализма и знаний; обычно зритель подробно описывает свой объект, прибегая к многочисленным риторическим украшательствам. Но в данном случае как минимум один из зрителей признает, что был ошеломлен. Он не может понять статую, что усугубляется тем изумлением, которое он испытывает, когда смотрит на нее, – ив этом изумлении его перед смертью поддерживает как будто более просвещенный Химерий. Итак, помимо цепочки странных событий, в рассказе о встрече двух византийцев со статуей мы видим основы искусствоведческого исследования: необходимость понять изображение, а для этого – посмотреть на него in situ, закрытость для интерпретации, свойственная некоторым объектам, и наконец реакция зрителя: удивление и отчаянный страх, когда выясняется, что изображение выходит за пределы своих предполагаемых функций.
Во многих отношениях этот рассказ восходит к позднеантичным герменевтическим текстам – в особенности тем, которые требовались для понимания пророчеств, явленных во сне, где статуи (и другие предметы) предстают в качестве загадки, требующей тщательного обдумывания [Miller 1994:30–35]. Философ-неоплатоник Порфирий Тирский написал об изваяниях целый трактат (логично озаглавленный «О статуях»), в котором в частности настаивал на тщательном рассматривании трехмерных предметов из «необходимости научиться смотреть»; обращаясь к этой теме, Порфирий тем самым оказывается в достойной компании философов, придерживавшихся такого же мнения, от Платона и Аристотеля до Лукиана и Филострата[53]53
См. дискуссию в [Miles 2015: 78–94], особенно с. 89–90.
[Закрыть]. Наши герои, Феодор и Химерий, очень напоминают персонажей таких нарративов, как «Картина» Кебета («Tabula Cebetis»), «Левкиппа и Клитофонт» и «Перистефанон», которые тоже сталкиваются с изображениями и пытаются понять, что они означают [Cebes 1878; Tatius 2003; Prudentius 2010]. Иными словами, действия наших героев вписываются в традицию попыток расшифровать значение тех или иных образов, в особенности статуй.
Кроме того, этот эпизод несет в себе информацию о социальной стороне истории искусства. Среди персонажей мы видим высокопоставленного чиновника (Химерия), его помощников (слуги, держащие мулов), философа, «друзей и родственников» покойного, императора – и если остальные герои являются вымышленными, то это реальная историческая фигура. Интересно, что каждый герой, за исключением слуг с мулами, вступает со статуей в какие-либо отношения: Химерий и Феодор «исследуют» ее и сталкиваются с печальными последствиями, философ задним числом осознает ее злонамеренность, а император решает ее судьбу. Все это люди, занимающие высокую позицию в византийском обществе. Роль императора Филиппика представляет особый интерес: она подсвечивает то, насколько активно императорская власть занималась вопросами статуй и где проходили границы ее полномочий. Подразумевается, что Филиппик предпочел бы разрушить статую, но ему пришлось удовлетвориться закапыванием, потому что разрушение оказалось невозможным.
Наконец, основная мысль этого эпизода вращается вокруг неожиданной и пугающей способности статуи к действию – к тому, чтобы нанести смертельный удар как минимум одному из зрителей, намеревавшихся вступить с ней в контакт. Ее поведение становится еще поразительнее в свете слов философа о ее судьбе, «предсказавшего» то, что уже случилось. Тем не менее сам факт, что у статуи есть судьба и что она оказала влияние на жизнь другого человека (положила этой жизни конец, если выразиться прямо), наделяет этот объект такой неизъяснимой силой, что рядом с ней меркнет даже власть самого императора.
В этой главе мы обращаемся к «Кратким историческим заметкам», чтобы определить, как их авторы относятся к статуям, которые некогда составляли столь неотъемлемую часть константинопольского пейзажа. Кроме того, мы рассмотрим «Patria Konstantinopoleos» («Патрии»), позднейшее произведение, включающее в себя крупные фрагменты «Кратких заметок» [Patria: 2012][54]54
Здесь цитаты приводятся по изданию Бергера, основанному на издании Теодора Прегера (Preger 1902), где тексты «Патрии» были опубликованы впервые.
[Закрыть]. В обоих текстах столица предстает как городское пространство, заполненное памятниками, чья идентичность не вызывает сомнений, а также теми, о которых зрители знают мало или не знают совсем ничего [Chatterjee 2017: 137–149]. Как мы увидим, самая загадочная – и, что интересно, пророческая – природа этих статуй, по большей части неизвестных (но иногда и знакомых), стоит превыше императора. Жильбер Дагрон, как и его последователи, отмечал, что жанр патриографии как бы опровергает различные виды власти, включая императорскую [Dagron 1984][55]55
См. также [Magdalino 2013: 207–220].
[Закрыть]. Опираясь на исследования Дагрона, я обращаюсь к многочисленным тонким способам критики императорской власти, которые прослеживаются в материальной культуре, и к тому, как они соотносились с силой, приписываемой определенным видам искусства, а именно скульптуре, по контрасту с другими видами, в особенности в эпоху иконоборчества.
В «Кратких заметках» и в «Патрии» общественные статуи предстают тем видом искусства, который успешно сопротивляется императорскому контролю. Они излагают загадочные пророчества[56]56
Пол Магдалино отмечает, что «Заметки» являются наиболее ранним известным ему текстом, в котором по отношению к заколдованным статуям используется слово stoicheion. См. [Magdalino 2006: 134].
[Закрыть], сбивая императоров с толку, а если и снисходят до того, чтобы раскрыть свои тайны, то знамения предстают зловещими. Таким образом, они исполняют те функции, которых в те времена были лишены христианские изображения: способность видеть в будущем судьбу и падение Царицы Городов и самой Римской империи. Этот феномен выглядит впечатляющим, но не особенно удивительным, поскольку в эпоху иконоборчества святым иконам приходилось доказывать свою ценность (даже самые стойкие их защитники были вынуждены идти на немалые усилия, чтобы оправдать их существование) и последнее слово в определении их судьбы зачастую оказывалось за императором или императрицей. Императорская власть легко подделывала, снимала и/или уничтожала иконы – и тем сильнее контраст с теми проблемами, которые у нее возникали со статуями, если верить «Кратким заметкам» и «Патрии». Несмотря на несколько упоминаний об уничтожении отдельных статуй, скульптурное изображение в этих текстах представляет собой серьезный вызов императорскому могуществу и тем самым противопоставляется христианской иконе. А поскольку как минимум «Краткие заметки» были созданы в период, отчасти совпадающий с эпохой иконоклазма, логично предположить, что авторы текста намеренно создают это различие, когда отношения между императором и художественным изображением оказываются куда более непростыми, чем на самом деле.
Все, что сказано выше, перекликается с современными взглядами на византийское политическое устройство. Энтони Калделлис убедительно доказывает, что Византия вовсе не была божественной автократией, какой ее принято изображать. Как следует из его работ, с V по XII век (в настоящей книге рассматривается примерно этот же период) Восточная Римская империя была, по сути дела, республикой, где власть осуществлялась от имени народа и иногда даже самим народом. Положение императора во многом зависело от воли народа и потому было крайне зыбким [Kaldellis 2015]. Пол Магдалино демонстрирует этот постоянный (хотя и не всегда заметный) диссонанс между идеалом теократической и автократической басилейи и ценностями гражданского общества, служившего опорой для выражения этого идеала. И действительно, когда Алексей I Комнин в 1081 году захватил власть, он заметно отличался от своих предшественников, взошедших на трон не благодаря силе, а по приглашению народа и Сената [Magdalino 2017: 594]. Более того, Бенджамин Андерсон утверждает, что в «Кратких заметках» выражено отношение к императорам, которые «некогда имели прямой доступ к знаниям о будущем, однако линия связи оказалась разорвана» [Anderson 2011а: 15][57]57
См. ниже о позиции Андерсона.
[Закрыть], что также поддерживает мою точку зрения о том, как в предполагаемом образе всемогущего императора появились трещины. Подобный взгляд на роль императорской власти в Византии, поддержанный свидетельствами патриографий, требует пересмотра самой категории императорских изображений.
Разумеется, специалисты по византийскому искусству не впервые обращаются к теме опровержения императорской власти. Однако большая часть существующих исследований концентрируется вокруг случаев непосредственного уничтожения императорских портретов, как это было, например, в эпоху так называемого «восстания статуй» в Антиохии в IV веке. Подобная же ситуация сложилась с портретами Андроника I Комнина во время беспорядков, предшествовавших Четвертому крестовому походу[58]58
См. [Eastmond2003:73–85;Eastmond2013:121–143; Anderson2016:290–309].
[Закрыть]. Мое исследование не обращено к конкретным случаям такого характера: меня скорее интересуют методы вербальной и изобразительной критики, сложившиеся в жанре патриографии на протяжении длительного времени, а также то, каким образом они возникают в нормативных пространствах и взаимодействуют с изображениями, ассоциирующимися с имперской властью. Иными словами, я обращаюсь к тому, как именно изображения, транслирующие ценности, которыми традиционно наделяется император (мощь, величие и т. д.), иногда подвергаются радикальной переконфигурации в силу окружающего их пространства и связанных с ними историй, сформированных в таких текстах, как «Краткие заметки».
В этой главе мы внимательно рассмотрим некоторые артефакты главного константинопольского Ипподрома (арены для спортивных соревнований), поскольку именно в этом месте отношения императора и его подданных становились видимыми как в идеальной, так и порой в жестоко реалистической форме. Один из самых проработанных эпизодов в «Кратких заметках» и в «Патрии» посвящен статуям-прорицательницам с Ипподрома, лишившим императора присутствия духа. По контрасту с преобладающим нарративом, согласно которому арена являла собой продолжение императорского могущества, я полагаю, что в различные исторические моменты с IV по как минимум X век императорская власть в этом месте превращалась в нечто противоположное тому, как о ней принято думать. Намечая путь для переосмысления Ипподрома, Дагрон пишет: «Императоры не обладали полнотой власти ни над Ипподромом, ни над Святой Софией» [Dagron 1984: 315][59]59
См. также подробную работу Дагрона [Dagron 2011].
[Закрыть]. Я придерживаюсь этой точки зрения и полагаю, что Ипподром был одним из немногих мест – возможно, единственным в Константинополе, – где были собраны воедино изображения истинной и отраженной славы императора (последняя находила свое воплощение, например в изображениях самых прославленных колесничих). Таким образом, здесь становились очевидны линии напряжения, связанные с осмыслением императорского образа и его отражений как единого целого. В процессе такового арена занимает гораздо более сложную и, очевидно, неоднозначную позицию по отношению к императорской персоне, чем принято думать. Это имеет важные последствия для понимания различий между императором и его изображением, существовавших в ранней Византии. В доиконоборческую эпоху и в таких пространствах, как Ипподром, этот водораздел становился куда заметнее, чем принято полагать.
Попытки Феодора и Химерия (а также других героев «Кратких заметок») узнать прошлое, настоящее и будущее города в его топографии перекликаются с поведением позднейших исследователей, таких как Петрарка, чьи прогулки по Риму и наблюдения об античных памятниках принято считать началом гуманизма в эпоху Возрождения. Я не предполагаю, что «Краткие заметки» являются протогуманистическим эквивалентом письма кардиналу Колонне (хотя следует вспомнить, что феномен, называемый «гуманизмом», распространяется на множество индивидуумов и процессов, из которых не все были связаны с одними и теми же целями и методами). Тем не менее есть смысл отметить, что некоторые импульсы, которые мы видим у Петрарки – прогулки по городу, желание идентифицировать его памятники и в процессе выстроить историю, – характерны и для эпохи Возрождения, и для описываемого в настоящей книге периода[60]60
См. комментарии Дженнифер Саммит в [Summit 2000: 211–246].
[Закрыть].
Проблемы «Кратких заметок»
Текст, известный как «Параотаоек; onvTopoi xpovucai» («Краткие исторические заметки»), дошел до нас в единственной рукописи XI века (Par. Gr. 1336) и состоит из поверхностных описаний различных памятников Константинополя. Он труден для понимания, поскольку написан на греческом языке со множеством ошибок. Нам не известна ни дата его создания, ни автор, ни предполагаемая аудитория. В некоторых эпизодах герои «Заметок» сталкиваются с памятниками, по большей части – со статуями; встреча заканчивается либо изумлением/растерянностью со стороны зрителя, либо его смертью, причем не приводится никаких причин, объясняющих подобный жестокий финал[61]61
См. главу 14 в [Cameron, Herrin 1984: 77], где полководца Ардавура приговаривают к смерти за то, что он разрушил статую, и главу 26 (с. 89), где у статуи евнуха на груди обнаруживается надпись: «Тревожащий памятники да будет повешен». О различных случаях theama, или изумления, см. главы 6, 17, 20, 21, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 (с. 65, 81, 83, 97-121).
[Закрыть]. Несмотря на ценность содержащихся здесь данных, эти эпизоды и весь нарратив в целом практически не привлекали внимания историков искусства. Этот текст упоминают лишь некоторые исследователи, хотя он практически полностью посвящен общественным памятникам и статуям Константинополя[62]62
Среди тех, кто обсуждал этот текст, можно назвать [James 1996: 12–20; Anderson 2011а: 1-19; Chatterjee 2017].
[Закрыть]. Возможно, такое отсутствие интереса со стороны искусствоведов перекликается с воззрениями исследователей византийской истории и литературы, которые до последнего времени видели в этом тексте нечто «недостаточно интеллектуальное» [Mango 1963: 60], пародию против определенных императоров [Kazhdan 1999а: 1, 308–313] и попытку высмеять произведения искусства, в особенности языческие изваяния, характерную для византийского общества [Saradi 2011: 101–103]. Калделлис утверждает, что некоторые из рассказов, составляющих «Заметки», «очевидно, ошибочны, а другие бессмысленны, романтизированы или приправлены сверхъестественным, и во всех видны явные исторические неточности» [Kaldellis 2016: 721–722]. Почему же, несмотря на все недостатки этого текста, его все-таки стоит принимать всерьез?
Начнем с того, что многие, если не все, византийские читатели «Заметок» полагали их надежным историческим источником. Паоло Одорико предполагает, что этот текст служил опорой для написания хроники [Odorico 2014: 780–781]. «Патрия», написанная в X веке и претендующая на звание серьезного рассказа об истории города, во многом опирается на «Заметки» и даже цитирует многие их фрагменты [Cameron, Herrin 1984: 3]. Более того, даже если это была пародия на византийские принципы риторики, искусства или того и другого (либо прямое оскорбление этих принципов), в основе «Заметок» все равно лежит некая истина[63]63
Калделлис, несмотря на свое осторожное отношение к «Заметкам», все же использует их материалы при реконструкции Форума Константина. См. [Kaldellis 2016: 722–724].
[Закрыть]. Если в их состав были намеренно включены некоторые вымышленные рассказы, то я полагаю, что и они имеют огромную ценность в изучении того, каким виделось настоящее и прошлое Константинополя. Полностью отказываясь от изучения этого текста, мы обедняем свое понимание того, как именно византийцы представляли, описывали и формировали топографию Константинополя для широкой публики того времени.
«Краткие заметки» датируются VIII–X веками: Аверил Кэмерон и Джудит Херрин считают, что они были написаны в первые десятилетия VIII века[64]64
Кэмерон и Херрин утверждают, что «большая часть текста, вероятно, была написана до первых иконоборческих мер, предпринятых Львом III в 726 году» [Cameron, Herrin 1984: 17].
[Закрыть], Бенджамин Андерсон утверждает, что перед нами «компиляция материала, созданного на протяжении VIII века, которая была сформирована в конце того же столетия» [Anderson 2011а: 5], а Паоло Одорико относит этот текст к IX или X веку, причем допускает, что некоторые фрагменты могли быть написаны в VIII или IX веке [Odorico 2014: 755–784]. Как верно отмечают Кэмерон и Херрин, на протяжении долгого времени «Заметки» избегали внимания византинистов, поскольку в этом тексте видели много странностей [Cameron, Herrin 1984: 1]. Сами исследовательницы, однако, приняли текст всерьез и предположили, что он был написан для воссоздания языческого прошлого в те времена, когда память об этом прошлом становилась все слабее и грозила исчезнуть [Ibid.: 1, 17–29]. Лиз Джеймс утверждает, что главной темой «Заметок» было могущество произведений искусства – языческого и не только – в эпоху, когда эта тема горячо волновала жителей Византии [James 1996: 16]. По Бенджамину Андерсону, загадочные отсылки к статуям следует понимать как намеренную попытку аристократического класса утвердить свое превосходство в знании города перед лицом многочисленных иностранцев («выскочек»), которые в VIII веке охотились за бюрократическими должностями [Anderson 2011а: 1, 3]. Во всем тексте Андерсон отыскал только три эпизода, которые бы поддерживали его теорию о «ксенофобкой и консервативной» природе «Заметок» и демонстрировали бы предполагаемое желание автора заявить о своем знании города, однако он тем не менее прав, когда утверждает, что одной из главных тем «Заметок» было прорицание [Ibid.: 1-19]. Достаточно сказать, что автор(ы) полагали вопрос украшения города достойным рассмотрения и обсуждения. Насколько нам известно, он(и) сам(и) не были покровителями скульптуры и архитектуры, однако с гордостью излагали свои познания в городской истории (неважно, насколько ошибочные) сквозь оптику общественных памятников, их историй и икон.
Ритм, которому в целом подчиняются «Заметки», состоит из повторяющихся элементов: монумент воздвигнут, разрушен, воздвигнут снова. Эта траектория возникает уже в первой главе, где говорится о строительстве первой церкви – Святого Мокия, – построенной Константином на месте разрушенного храма Зевса, который якобы обрушился в правление Констанция. При Феодосии там разрешили молиться арианам, однако семь лет спустя церковь обрушилась снова и была заново отстроена в эпоху Юстиниана. Во второй главе подобным же образом излагается история церкви Святого Агафоника, которую в первый раз построил Анастасий, а во второй – Юстиниан. Третья глава описывает, как различные императоры восстанавливали стены у моря. В каждой главе подчеркивается идея ремонта и реконструкции. Разрушение здания, прекращение его использования (или неправильное использование, как в случае с арианами и церковью Святого Мокия) еще не означает конец. Скорее, это предвестник грядущей перестройки, когда отдельный человек, обычно император, получает возможность превзойти то, что было создано до него. Аналогичным образом комплекс отсутствующих изображений, которые были перемещены, замещены другими или утрачены, придает Константинополю определенный динамизм. Опустевшее место в «Заметках» не означает пустое: это, скорее, пауза в ритме визуально-архитектурных изменений, проживаемых городом. Раньше на этом месте, возможно, стояла статуя или церковь; сейчас она исчезла, но в будущем рано или поздно вернется в новом виде. Даже уцелевшие памятники со временем претерпевают серию изменений. Как ни парадоксально, именно этот паттерн сотворения и разрушения, визуального формирования и переформирования – в противопоставлении вечному, незапятнанному и нетронутому корпусу зданий и статуй – и создает богатый исторический континуум города. Авторов «Заметок» интересует восстановление этого константинопольского континуума, проявляющегося посредством изменений, даже если изменение подразумевает разрушение.
Эти замечания перекликаются с фактическим состоянием Константинополя в первой половине VIII века. Роберт Оустерхаут заявляет, что столица претерпела важнейшие урбанистические трансформации в течение VII–IX веков [Ousterhout 1994–1996: 39], и это совпадает с тем временным окном, в которое, предположительно, были написаны «Заметки». Многочисленные военные столкновения и потеря территорий в VII веке негативно отразились на финансовом состоянии империи. Для столицы последствия были нелегкими: население пришлось насильственно сократить, и не сохранилось никаких данных о крупных строительных или реставрационных проектах в период с 610 года по 760 год. Обжитая территория сконцентрировалась вокруг сравнительно небольшой зоны в центре города, сформированной еще Константином. Как отмечает Пол Магдалино, «возможно, именно в этот период, когда население уменьшалось, появились первые захоронения внутри Константиновой стены, а монументальные пространства на краю центра – амфитеатр Акрополя, Стратегион в районе Золотого Рога и несколько форумов, расположенных на Месе, – стали использовать как места для казней и рынки скота» [Magdalino 2002: 531]. Крупные общественные памятники, такие как театры, бани и не в последнюю очередь статуи, пришли в упадок. Даже церкви самым печальным образом обветшали, как следует из рассказов франков, утверждавших, что в некоторых храмах не было нормального освещения или крыши. В 746 году случилась вспышка чумы, еще через двадцать лет пришла страшная засуха, и оба эти события еще больше способствовали упадку Константинополя.
Можно сказать, что авторы «Заметок» пытаются компенсировать реальное положение дел в городе, представляя упадок как нечто временное – как некую фазу, на смену которой скоро явится период реконструкции, поскольку такое уже не раз случалось в истории Константинополя, на что открыто намекается в первых главах. Ситуация и правда была не настолько тяжелой: даже если город и переживал упадок в качестве урбанистической единицы, «он по-прежнему процветал как сеть полуурбанистических ядер» [Ibid.]. Кроме того, во второй половине VIII века началось возрождение культуры, частично вызванное тем, что Константин V постарался восстановить греческое население Константинополя. После засухи император также привлек множество рабочих для ремонта городского акведука, который не использовался на протяжении последних 140 лет, и тем самым дал живой пример реконструкции [Ibid.]. Если «Заметки» писались на протяжении нескольких десятилетий VIII века и даже в начале IX века, как убедительно доказывают некоторые исследователи, то этот текст мог приободрять читателя и служить напоминанием об изменчивости фортуны: за многочисленными периодами упадка неизменно следовало обновление.
Если взглянуть на «Заметки» сквозь призму иконоборчества, длившегося с VIII века вплоть до 843 года, их можно счесть последовательным комментарием к проблеме создания, разрушения и последующего восстановления произведений искусства – цикла, разыгрывавшегося еще в Поздней Античности до основания Константинополя. Иными словами, отслеживая (или пытаясь отслеживать) историю столицы, авторы «Заметок» невольно вынуждены обратиться к дискуссиям, которые неофициально начались еще в IV веке, если не раньше, и достигли своей кульминации в VIII веке в форме иконоклазма[65]65
По этому вопросу существует большое количество литературы. См. удобный перечень работ, посвященных борьбе с изображениями в Византии, у [Brubaker, Haldon 2011]. Обратите внимание, что я использую термины «иконоборчество» и «борьба с изображениями» как синонимы, поскольку, с моей точки зрения, современники не делали разницы между первым и вторым. Даже если свидетельств реальной иконоборческой деятельности меньше, чем считалось ранее, концептуальное измерение «иконоборчества», на мой взгляд, было важным элементом этого феномена.
[Закрыть]. В VIII и IX веках эти дискуссии вращались вокруг вопросов строительства, разрушения и перемещения объектов – если не статуй и зданий, то хотя бы икон. Иконоборческий собор, состоявшийся в 754 году в Иерии, выпустил, помимо прочего, постановление, согласно которому церковную утварь, такую как литургические сосуды, покровы и одеяния, не следовало уничтожать, даже если на ней имелись изображения святых. Цитируя Яся Эльснера, Иерийский собор требовал не «абсолютного уничтожения», а «прекращения создания новых объектов» [Elsner 2012: 380], причем не запрещал возможной реставрации или репродукции, если на то согласятся церковные иерархи и император. Седьмой Вселенский собор, созванный в 787 году в Никее, чтобы положить конец иконоборчеству и ограничениям, связанным с созданием икон: создатели икон отныне пользовались поддержкой, а те, кто мешал изготовлению святых образов, предавались анафеме[66]66
Обсуждение роли художника в эпоху иконоборчества см. у [Barber 2002: 107–114].
[Закрыть]. В решениях этих соборов, как мы видим, отразились более масштабные процессы, влиявшие на столицу в ритме, описанном авторами «Заметок»: разрушение или обветшание, возможность для появления чего-то нового и, наконец, восстановление. Я не пытаюсь утверждать, что авторы и/или редакторы «Заметок» намеренно меняли текст в соответствии с требованиями соборов. Скорее я предполагаю, что иконоборческие тенденции, отразившиеся в церковных постановлениях, перекликаются с циклом создания, разрушения и обновления материальной культуры, описанным в «Заметках». В тексте подразумевается, что подобные практики (строительство, разрушение и т. д.) являются частью исторического континуума, а не чем-то уникальным, свойственным лишь тому периоду, когда была написана эта книга, даже если теоретические обоснования, связанные с такими практиками, меняются от эпохи к эпохе [Ibid.].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!