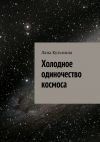Текст книги "На Алжир никто не летит"

Автор книги: Павел Мейлахс
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Где-то через полчаса, которые дались мне непросто, я вышел из палаты и прошел мимо поста. Зажигалка была на месте. В курилке же никого не было. Значит, Борча пренебрег моей зажигалкой, он не намерен меня прощать. Расстроенный, чтобы не сказать больше, я вернулся к себе в палату.
Но потом, не желая сдаваться и вместе с тем неизвестно на что надеясь, – уж и не знаю, сколько времени прошло, – я опять пошел в курилку, а лучше сказать – побрел. Вдруг, уже почти миновав пост, я понял, что зажигалки-то на нем и нет! Ее мог взять только Борча и никто другой. Прощен! Прощен, Господи, сколько же я этого ждал!
Мне повезло: Борча попался мне на выходе из курилки, один. Я обнял его, прильнул к нему…
– Спасибо, Ромочка, спасибо! Ты, наконец, понял, что не сдавал я тебя тогда! Не знаю, что там тебе наплели…
Опешивший Борча делал слабые попытки отстраниться.
– Как я рад, Рома, как я рад, ты не представляешь! О Господи…
Я молчал, прижавшись к Борчиной груди. Я чуть не заплакал, слезы и вправду стояли в глазах, еще немного – и потекут.
– Спасибо… Я тебя не сдавал…
И я отпустил Борчу. Борча глянул на меня как-то вовсе уж дико и заспешил прочь, почти улепетывал.
А я хотел петь, я пел в душе, душа моя пела.
Я подошел к старшей медсестре и поинтересовался, где Володя.
– Сережа? А зачем он тебе?
– Ну, как дела у него… Что-то его не видно.
– Вот уж чего не знаю, того не знаю, как у него дела. Выписался же он… три дня как. Да и зачем тебе этот Сережа, Бог с ним. Алкаш, всю жизнь по тюрьмам, ф-ф-у… ну его, Сережу этого.
Это было странно. Более того, путало все мои представления. Значит, Володя жив-здоров? Или нет, он мертв? Выписка из больницы убийству не помеха. Вообще-то мне все равно, на участке его нет, и ладно, но как же быть с книгой? Убили его в конце концов или не убили? Непогрешимость книги опять оказалась под вопросом – именно это меня донимало, а не утративший актуальность Володя. Да, кстати: старшая сестра говорила о нем как о совершенно постороннем, я не почувствовал ни тени наигранности, которую бы обязательно учуял, говори она о своем сыне: невозможно настолько хорошо притворяться.
Я ничего не понимаю… Я устал…
Давно не посещал меня мой армянский друг. Я скучал по нему, но, что греха таить, по его волшебным сигаретам я скучал даже больше. Пришлось свыкнуться с мыслью, что не покурить мне больше травушки, но, понаблюдав за Володиной шайкой, ничуть не унывавшей без предводителя, я пришел к выводу, что марихуану они получают по Интернету, где, как известно, можно достать теперь все. Они часто ругались и пререкались из-за каких-то кодов, шифров, паролей. Чуть ли не часами они их откуда-то доставали, зло при этом споря, вероятно из какого-то другого места в том же Интернете; а впрочем, кто-нибудь из них всегда вел напряженные переговоры по мобильному телефону в параллель с интернетной работой. А потом напряжение спадало, уступая место удовлетворенности; по их умиротворенным лицам, по красноватому слизистому налету на глазах, по неспешности их разговора сытых, ленивых и довольных я понимал, что очередная операция по онлайн-контрабанде завершилась успехом. Как и мой армянский друг, они курили с виду просто сигареты, уж не знаю, какой технологией они пользовались – ведь по проводам идет только конопляный дым, самым простым было бы просто дышать им из самого телефона, но, по-видимому, им это казалось слишком простым или неэлегантным, и они каким-то образом делали сигареты марихуаносодержащими. Но я не так изыскан.
Как-то раз, в курительном аппендиксе, где всегда происходила охота за дымом, я сидел и, покуривая, поджидал момент. На меня давно никто не обращал внимания, в курилке я бывал часто.
И вот я понял, что момент наступил. Один из них раздвинул, удлинив, свой новый современный аппарат (походило на смену батареек), и я увидел, как по черному, гладкому, пластмассовому дну стелется знакомый дым. Я поднялся, неспешно подошел к обладателю счастливого телефона и взял телефон у него из рук: на минутку, мол, – успев почувствовать, как тот, мягко говоря, удивился. Я прижался ртом к умному аппарату, мимоходом увидел серийный номер – 52 677, все хорошо, и вдохнул, как мог более глубоко. Я немного постоял с задержанным дыханием (все глаза были устремлены на меня), выдохнул, весело улыбнулся и проделал ту же манипуляцию еще раз; потом же возвратил телефон обладателю, учтиво кивнув. Все это время я был окружен молчанием, в котором угадывалась некоторая подавленность.
– Спасибо! – на прощание сказал я и не торопясь пошел в палату.
Молчание продолжало длиться у меня за спиной. А я чувствовал, как меня стремительно накрывает, во рту уже схвачено беспощадной сухостью. Хороша…
В тот день я засыпал довольный.
…странно, ведь уже не в первый раз я слышу это подавленное молчанье, после того как я что-нибудь скажу, сделаю…
Мы бесконечно колесили, если можно так выразиться, на речном трамвае по рекам и каналам Парижа, Венеции, Амстердама. Я был важной персоной, судя по тому, что люди вокруг меня были явно важными персонами. Они вели какие-то судьбоносные переговоры, решали судьбы мира. Я должен был непременно присутствовать на этом высоком собрании, хотя никто ни о чем меня не спрашивал, и я не проронил ни слова. Я просто понимал, что такова необходимость. Я сидел поодаль, отдельно, не слыша, что именно обсуждалось. Когда изредка мы выходили поесть (не уверен, что это слово здесь уместно) в роскошных ресторанах, более напоминавших дворцы, я и там сидел за отдельным столиком. И водное путешествие продолжалось, заграничные картины, наблюдаемые снизу, неслись и неслись мимо меня.
В своей же палате я обнаружил чек, должно быть, из одного из тех ресторанов. Я подержал его в руках и зачем-то перевернул. Там было небрежно, без нажима, набросано: 52 678. Я замер. Это было не мое число, меня обманули. Я встал с кровати и заходил по комнате, я задыхался. Я долго приходил в себя, мысли метались в голове. Надо было все обдумать. Кругом царил обман. Это было ясно, неясно было, в чем именно он проявлялся; пока же я знал одно – мы не в Париже, мы в Петербурге. Необходимо было выяснить, в чем еще они мне лгут. Я был уверен, что мне это удастся.
Я начал действовать решительно: подошел к старшей сестре и объявил, что желаю видеть главного. Моя решимость так на нее подействовала, что вскоре появился мой врач, это я сразу понял. Ему я заявил, что мне необходимо видеть самого главного. Он тут же согласился и повел меня куда-то в сопровождении старшей сестры и еще какой-то девицы в белом халате. Мы миновали столовую и очутились в длинном коридоре – за столовой, я знал, было запрещено находиться, хотя я и частенько нарушал этот запрет, – тем не менее, сейчас мы были здесь совершенно официально, а значит, мое требование было воспринято всерьез. Здесь я вынужден ненадолго отвлечься – дело в том, что когда мне удавалось проникнуть в этот коридор, иногда в стене оказывалась дверь. За этой дверью была одноместная палата, где лежала прелестная девушка, таинственно отгороженная от всех остальных. Иногда я стучался в дверь и звал ее покурить, порой она любезно соглашалась, и мне было очень приятно проводить ее до курилки, где мы курили и болтали о пустяках. Временами она сама там ненадолго появлялась, затем исчезала. Так вот, в этот раз мы все стояли в коридоре перед той самой дверью, которая очень кстати оказалась на месте. Врач сам открыл ее, и мы вдвоем вошли. Сейчас палаты здесь не было, а был обширный казенный кабинет; за чиновничьим же холодным столом сидел человек в синей форме, похожей на прокурорскую, и в усах станового пристава. Он молчаливо пригласил меня сесть прямо напротив себя и, опять же жестом, дал понять, что готов меня выслушать.
– Я знаю, что мы не в Париже. Мы в Петербурге, – сразу же в упор сказал я. И добавил: – Я требую, чтобы мне дали позвонить.
Настала решительная минута, я весь напрягся. Я был уверен, что позвонить мне не дадут. Но чиновник кивком указал на телефон. Тут я понял, что мне нужно слегка подумать, хотя времени на раздумья не было: я не хотел, чтобы они знали, куда я звоню и зачем; эти молодчики поняли, что я их раскусил и голыми руками меня не возьмешь, так и было задумано, но знать больше им было пока преждевременно. Однако я должен говорить при них, они все услышат и поймут, так как же мне было поступить? Я смотрел приставу в нафабренные усы. И тут меня осенило – я набрал телефон своего отца, дождался, пока на том конце снимут трубку, и громко и отчетливо сказал в телефон:
– На Алжир никто не летит!
И положил трубку. Эти двое, конечно, ничего не поняли, но мой отец, этот мудрый человек, сразу же все поймет и выведет этих ловкачей на чистую воду. И заберет меня отсюда.
Я посмотрел на этих двоих, ожидая их реакции, – на чиновника за столом, на врача, так и оставшегося стоять у двери. Они молчали и смотрели на меня. Взгляд их был внимателен и серьезен. А я едва мог скрыть свое торжество.
…и опять это знакомое молчание за спиной…
Теперь я жил в ожидании больших перемен, грандиозных событий. Мое открытие не могло не иметь последствий, да и здешний персонал, после сделанного мною разоблачения, я уверен, смотрел на меня по-другому. Я важно расхаживал по заведению весь в ожидании чего-то необычайного, которое должно было вот-вот произойти.
И оно произошло: все мы были званы на роскошный банкет, который проходил в столовой, многократно расширившейся. Больнично-хозяйственную утварь убрали, и теперь здесь был великолепный зал. Черные как ночь полы блестели, такого же цвета были и шторы на окнах, а прислуга разносила по залу огромные букеты алых цветов. Мужчины были в костюмах и галстуках, дамы – в вечерних нарядах и драгоценностях. Банкет воскрешал времена богатства и благородства.
В ожидании начала банкета я уселся за небольшой столик в углу, который был уже накрыт, и принялся разглядывать гостей. Все это были люди богатые и благородные; они негромко разговаривали между собой. Неожиданно среди приглашенных я увидел своего брата с какими-то двумя типами, лишь чуть вглядевшись, я узнал в них двоих из той самой квартиры, где я с таким трудом добывал фильм «На Алжир никто не летит», – это с ними мой братец занимался своими гешефтами. Они праздно шатались по залу, заложив руки в карманы и развязно перешучиваясь, будто в вульгарном ночном клубе, совершенно игнорируя окружающую обстановку и атмосферу. Меня они, к счастью, не замечали.
Вдруг из дальнего угла начала подниматься вода, много воды, я еще рассчитывал отсидеться – уж больно она не вязалась с окружающими меня покоем и великолепием, – но вода продолжала распространяться и подниматься со сверхъестественной скоростью, вот она достигла меня, вот я по пояс в воде, вот я махом провалился под воду…
Я в забытом людьми краю, где озера и округлые невысокие горы, густо поросшие хвойным лесом. Небо синее, ярко светит солнце. Здесь ясно и тихо. Я хожу по этому краю, поднимаясь иногда в гору, проходя или пролезая между деревьями и отгоняя мошкару, иногда спускаюсь к воде, любуюсь водой, а порой и плещусь в ней, вылезаю, быстро сохну. Иногда я поднимаюсь на самый пик, – порядком устаю, хоть горы и низенькие, и, отдышавшись, смотрю вокруг с высоты – а там все те же зеленые горы и голубые озера, а я парю над всем этим почти по-настоящему. Ночую я на нагретых за день теплых, мшистых, маленьких плато, а когда просыпаюсь, просто подолгу смотрю в небо и, осторожно, на солнце. Потом спускаюсь к воде, набираю ее полные ладони, плещу в лицо. Подолгу огибаю одну гору, чтобы увидеть новые озера, вытянутые, уходящие от меня, чуть плещущиеся; добираюсь до другой горы, и ни горы, ни озера, ни лес не кончаются. Я останусь здесь навсегда.
Иногда я вплавь добираюсь до острова, такой же отдельной горы. Именно на одном из таких островов я нашел свою любовь, живущую в шалаше. Я мысленно звал ее лапландкой, хотя я не знал, где я, да и не хотел – просто потому что в детстве в сказке Андерсена мне очень нравилось название «Лапландка и финка», оно будоражило и завораживало меня своей дикой и недоступной красотой. Так пусть и эта будет лапландкой. Я ей не говорил. Мы вообще мало разговаривали.
Я любил свою лапландку. И она любила меня.
Я не вел счет дням и не знал, сколько времени прошло. Такой горячей и вместе с тем спокойной и уверенной любви я никогда прежде не испытывал, не испытывал приступов этого тихого, но и перехватывающего горло, почти уже невыносимого восторга. Так, с лапландкой, проходили несчитаные дни.
…Мы лежим, обнявшись, на плато и вместе смотрим на озера и лес. Даже мошкара нас не тревожит.
Мы сидим на моей кухне и пьем из пузырьков в темноте, за окном большая белая луна. Мы запиваем аптечную алкогольную дрянь другой дрянью, неалкогольной. Мы любим и понимаем друг друга как никогда.
Луна приблизилась, стала больше. Она была все того же ровного белого цвета. Я почувствовал легкую жуть и отвернулся. И не нашел рядом с собой лапландки. Я поспешил уйти от окна, от луны. Проходя через проем кухонной двери, я не выдержал, обернулся – и увидел, что луна стала еще ближе, почти закрыла собой окно, и я окончательно испугался.
Я метнулся в комнату, к моей лапландке, может быть, она меня утешит и успокоит, но ее там не было. В другой комнате ее тоже не оказалось. Я было подумал, что оставил ее на кухне, но вспомнил, что оттуда-то она и исчезла.
И вот я стою один, на кухне, в белом свете луны, среди нагромождения аптечных пузырьков, и моей любви рядом нет, нет и никогда не было.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Так это что, я, значит, в психозе был?
– Да. В психозе.
– Стал догадываться уже… Тьфу, блин… Я и не помню, как сюда заехал. Ладно, не впервой.
Брат только глянул на меня в ответ на это «не впервой» и ничего не сказал. Отошел.
Гм, это я, кажется, зря. Куражливая веселость сейчас как-то не к месту.
Мы стояли на той самой кухне, ставшей теперь совсем обычной.
Еще здесь были мой врач и господин в черном костюме и в галстуке.
Он приветливо мне улыбнулся и подошел. Я заметил его общую ухоженность, а особенно ухоженность его усов, редкого, неплебейского сорта. А также неестественно гладкую выбритость. Rara avis.
Судя по безупречным манерам, в прошлом неоднократно бывал бит. Почему-то я вспоминал это наблюдение, глядя на него.
Rara avis представился Ильей Николаевичем и завел со мной сердечный и серьезный разговор. Он мягко и настоятельно убеждал меня в том, что после перенесенного мной алкогольного психоза мне необходимо пройти курс реабилитации. Эта мягкая, вежливая настойчивость сразу насторожила меня – похоже, быть мне в реабилитационном центре, уж не знаю, как так получится. А ехать туда я ни при каких обстоятельствах не хотел. Из психоза меня вывели – чего же еще?
Вам являлись фиктивные сущности, напоминал мне Илья Николаевич. Являлись, чего уж. У вас есть ложные воспоминания. Ну да, типа того. Но я же понимаю, что они ложные. Вы должны понять, что психоз – это очень серьезно, все гнул он свою линию. Так нет же его – вытащили, и молодцы, спасибо и досвидос! Я все отнекивался и отбрехивался, но тут заговорил мой брат, прервав нашу беседу, и я понял, что и как получится.
Брат говорил как бы через силу, глядя на меня каким-то непонятным взглядом. Он изложил мне ситуацию.
Дело в том, что все мы – я, мой брат, мой отец, еще давно знакомый мне народ – все кормимся вокруг одной фирмочки. Так вот, не вдаваясь в детали, было единогласно принято решение против меня. Что означало – я остался без денег. Не хочешь ехать в ребцентр – не едь. Иди куда хочешь.
В моей ситуации это значило одно – покориться.
– Отец подсуетился? – сразу вычислил я.
Брат не сразу ответил.
– Идея была его. А ты хочешь лечись – хочешь нет. Мне без разницы.
– Молодец папаня. Ловко он это провернул. Гениально.
Брат бы просто не смог, я знал. А вот отец стоял там хорошо.
– Значит, его идея. Гениально…
– Ну так едем? Если не хочешь, до хаты я тебя подброшу.
– Молодец…
Брат пожал плечами с видом полнейшего равнодушия.
Я еще не отошел, был слаб. Смысл доходил, как через вату. Но доходил. Эк меня раком поставили. Уж чего-чего – а такого не ожидал.
…А впрочем – пусть делают, что хотят… Может, оно и вправду к лучшему…
Мой врач и Илья Николаевич негромко говорили между собой, о каких-то совсем других делах.
…мне показалось, что брату противно на меня смотреть…
И я полез в братову машину. Он не смотрел на меня, я на него. И хорошо, что ему надо смотреть на дорогу. А я окончательно понял, что пора заткнуться.
Но одна мысль терзала меня. Черт, я все-таки обратился к брату:
– Дай ноут, а? Мне на минуту.
Брат одной рукой пошарил где-то за собой и дал мне ноут, не спросив, зачем он мне.
Первым делом я накинулся на фильм «На Алжир никто не летит». Я знал, что был в психозе, и все-таки не мог поверить, что я этот фильм не смотрел – я ведь так ясно его помню, помню эту достоверность, этих французов, этот стягивающийся в точку круг на черном экране! Забил в поисковик название – нет такого. Может, перевод не тот? А какой тот? А как это по-французски? Тык-мык, уже поперли какие-то «сильвупле» на французском. Франция, Алжир. Может быть куча французских фильмов, где есть слово «Алжир»…
Невероятно!
На Алжир никто не летит.
Одержимый какой-то идиотской одержимостью, я продолжал поиски. Как это трудно – не верить глазам своим! Хотя какая разница, смотрел – не смотрел. Но я не мог, реально не мог. Красивое старое русское имя – Борча. От «борьба». Может быть, воин.
«Борча је урбано градско насеље у Београду, које се налази на територији градске општине Палилула. Према попису из 2011. било је 46.086 становника (према попису из 2002. било је 35.150 становника, а према оном из 1991. било је 26.895)».
Почитал, что-то понял через пень-колоду, но все равно пришлось переключаться на английский, хотя и из через пень-колоду понятого уже явствовало, что это не имя. Может, хоть корень тот «борьба»? И здесь ошибочка, еще немного лингвистических онлайн-изысканий, и я узнал, что это слово, возможно, восходит к славянскому «bara», что означает «болото». А еще есть футбольный клуб «Борча». Век живи, век учись.
Достаточно. Почему-то особенно жалко было фильма.
И я как-то окончательно скис. И уже ничего не замечал вокруг, не замечал, куда мы едем…
Брат высадил меня из машины и уехал.
Разом все осталось позади, без малейшего отзвука.
И опять я в приемной учреждения. На этот раз другого, в таких я раньше не был. Было оно на Васильевском острове, не в Париже.
Тишина, пустота. Обычная вахточка с телефоном, по другую сторону, на стене, – шкафчик для вещей. И молодой человек в очках. Он был участлив и серьезен. Никаких психоактивных веществ при мне не было, но таблетки от давления он забрал. Я было пытался возражать: это ж не наркота какая-нибудь, а у меня гипертония, мне их надо каждый день принимать, но он только сочувственно покивал, а таблетки забрал.
– Свяжитесь с вашим врачом. В крайнем случае вызовем «скорую помощь».
– А у вас самих врачей нет?
– Мы не медицинская организация.
Похоже, они все таблетки забирают – на всякий случай, они же не медицинская организация. Мне это показалось отчасти странным – сорокапятилетний алкаш вряд ли будет здоров как бык, вполне вероятно, что он что-то принимает. Диабет, панкреатит, цирроз, черт в ступе. Ну что ж, раз таков порядок. Я виноват. Я должен быть настроен на сотрудничество.
Я не сразу сообразил, что мой врач – это и есть тот самый Илья Николаевич.
Мобилу тоже забрали.
Молодой разночинец сказал, что позовет Лешу, который и введет меня в курс дела, по всем вопросам – обращайтесь к нему. Тут же появился и сам Леша, открытый, естественный, улыбчивый. Ему было лет за двадцать.
И я шагнул в неизведанное.
Леша и правда оказался славным парнем, именно таким, каким предстал передо мной впервые. Он показывал мне все, рассказывал, отвечал по сто раз на одно и то же – вот это моя палата (личная), вот кухня, вот комната для собраний, вот общая, вот душ, вот туалет, вот сюда спускаются курить, в самом здании курить нельзя, но вот выход, а дверь открывается вот так – нажимаешь на эти фигулины, тянешь на себя, а потом резко толкаешь наружу, можно плечом. Мы стояли на пороге, курили не торопясь, делая выверенную паузу после каждой затяжки, дверь была открыта, и я с наслаждением вдыхал вечерний зимний воздух, и было уже, оказывается, темно, горели городские огни через огороженный двор.
Здесь давались замечания, предупреждения и «озабоченности». Накапливаешь такое-то количество этих «озабоченностей» – и под зад отседова. Здесь их называли по-простому – «ОЗБ». «Ты что, ОЗБ захотел?» – это я уже немножко забегаю вперед.
– Если что, обращайся! – Этой фразой Леша проводил меня перед моим отходом ко сну.
В тот вечер я хорошо заснул на новом месте. Начиналась новая жизнь, а здесь мне предстояло провести два месяца. Я уже не раз слышал про реабилитационные центры («рехабы»), слыхал, что после них выходят другими людьми. Я постараюсь, я вылечусь, все теперь будет по-другому. Я больше никогда не буду пить.
Ведь я давно уже пытаюсь завязать. Давно уже прошли времена, когда алкоголь даровал счастье. Теперь он давал лишь отупение, что было особенно кстати, если всегдашнее скверное настроение становилось особенно скверным. Больше отупения – меньше скверности. Или, наоборот, если в настроении случался просвет, было невозможно не отполировать его. Вообще, реакция на хоть чуть-чуть нерядовую эмоцию – алкоголь. Или на самомалейшее напряжение – хоть сантехника вызвать. Или вот, недавно было мне сорок пять лет, надо сходить паспорт поменять, уже в паспортном столе я был никакущий; ничего, поменяли. Но можно пить и просто так.
Я не знаю, что случилось. Я сдался. Устав непонятно от чего, я сдался. Ничего не маячило впереди, ничего не осталось позади. Ничего не было и внутри. Джин с тоником долго казался выходом, а потом мне ничего не казалось, я просто пил, потому что пил. Такой вот модус вивенди – самая низкая точка. К чему барахтаться, как другие? Это не было самооправданием, я действительно так думал. Пусть барахтаются те, кому это зачем-либо надо, а мне не надо, о вкусах не спорят. Что я алкоголик, это я понял давно и не видел в этом ничего дурного. Просто качество. Один брюнет, другой высокий, третий – алкоголик. И что?
Моя сожительница была, понятно, не в восторге, но кто она такая?
И все-таки в глубине души я знал, что живу неправильно. Неправильно, нехорошо, не должно так быть. Я не знал, откуда это взялось, ведь мне было на все и на всех наплевать, по большому счету. Но ведь и аптечную дрянь, когда с деньгами было туго, я всегда брал подальше от дома, даже сумку брал побольше, чтобы было непонятно, что в ней. Значит, не совсем наплевать? И потом, эти бодуны… Господи, ты видел мои муки! Вспоминаю один живописный эпизод; сидя на горшке и наделав большую кучу, я осознал, что не в состоянии встать с него. Подыхая, я дополз до туалета, потому что не хотел обсираться – не совсем наплевать? – это мне удалось, но смерть на параше – это тоже не вариант. Я, повторяю, подыхал, то есть мне казалась, что эта возможность очень даже может осуществиться. Я собирал волю в кулак, вертелся, дергался, но так и оставался на горшке. Н-нет! Я проделал все необходимые гигиенические процедуры, р-рывком встал, выстрелил собой вверх, повалился вперед, двинув лбом дверь так, что она распахнулась; устоял, ухватившись за косяк. Потом, колеблемый похмельным сирокко – и во рту, понятно, была пустынная сушь, – надел и застегнул штаны, потом шажком, шажком добрался до кровати и повалился на нее ничком. Я лежал, замерев и покрываясь испариной, а сердце… недостукивало, что ли. Недостаточно. Слишком долго возилось, прежде чем стукнуть. Все тело было преисполнено смертной истомы. Со слышимым сипом я всасывал и всасывал в себя воздух, чтобы сердце, наконец, достучалось. Я лежал без движения, только эта дыхательная фиговина во мне отчаянно двигалась.
Утром я проснулся. И такое бывает.
Вот если бы оставаться вечно пьяным. Мечта – как остаться вечно молодым. Но я дохляк, могу пить только четыре-пять дней, от силы неделю.
А потом наступал ад. Такой же неописуемый, как Геенна огненная. Я знал средство против ада, но неудержимо выблевывал все на пол, включая вставные челюсти. Душа не принимала, как говорится. Меня колотило мелкой дрожью, корежило и так, и этак, но пить я не мог. Я корчился, как червяк под каблуком, как гусеница под увеличительным стеклом. И гордости, и достоинства во мне было не больше, чем в них. Временами казалось – все, подыхаю. Но это ли было самое страшное? Я не уверен: едва ли не хуже были «муки совести», «чувство вины». Любая смерть, но только не такая. Отвратительная, НЕПРАВИЛЬНАЯ смерть. И я молил судьбу: лишь бы протянуть. Лишь бы протянуть эти несколько похмельных, НЕПРАВИЛЬНЫХ дней, а уж потом будь что будет… Я не Муций Сцевола, но таким чмом, этакой похмельной гнидой, я не чувствовал себя никогда. Я никогда не чувствовал себя таким ничтожеством, никогда не испытывал такой вселенской срамоты.
Итак, в глубине души я осознавал, что был крепко неправ. Опять же, не знаю, чему, кому я был обязан этим чувством неправоты. Какое-то время я мог не пить, но удерживал меня в основном лишь страх похмелья, а потом девичья память приводила все в порядок; память о похмелье отодвигалась, а все вокруг смотрело таким угрюмым и тусклым… А «вина»? Да какая, к черту, вина, ничто не имеет значения в этом ржавом болоте, ни вина, ни ее противоположность. Иногда, впрочем, я не пил по месяцу. Один раз даже месяц и шестнадцать дней. А потом, давно уже переставший искать поводы и оправдания, я просто заходил в ближайшую винную лавку. Если перед этим я держался достаточно долго, каждый день едва не сходя с ума от бешеного желания выпить и не исполняя этого желания («держаться на зубах» – потом я узнал это выражение), то первую банку я пил сквозь слезы. Да-да, буквально: и капают горькие слезы из глаз на холодный песок. Было несказанно жаль своих усилий, казавшихся мне нечеловеческими. «Да что ж это за проклятье такое?!» – готов был возопить я. Ну, любил накатить, так и многие любили и сейчас бухают себе на здоровье, но до такого же не дошли, не замешивают шмотки таксистам у ночных магазинов, не затариваются «Каплями Морозова» в аптеках, не бредят бухлом денно и нощно; так почему именно меня угораздило?? Несправедливо, сука… Впрочем, какое, на хрен, «справедливо – несправедливо». Я не родился с ДЦП, а другой родился; меня это не утешает. Вещи случаются, потому что случаются, вот и все.
Но кто-то внутри меня (не иначе, черт) наговаривал мне: брось ты эти сопли, поскорей приканчивай эту – это создаст необходимую базу; после второй – поплывешь, после третьей – одуреешь, а дальше все будет неважно. Черт говорил дело. И опять начиналась страшная сказка про белого бычка.
Я понимал, что долго такое не продлится. Год-два-три, больше, меньше – и я просто сдохну. Ясно это было, как Божий день. Но ничуть меня не останавливало.
Еще один повод пить – забыть, что ты не можешь не пить.
И все-таки, еще раз повторяю, я не считал, что так надо. Я считал, что так не надо. И надеялся бросить пить. И ничего для этого не делал.
А точно ли я хотел? Бросить пить? А? А в ответ тишина…
А точно ли я хотел жить? Я только знаю, что боялся умирать.
Пожалуй, все.
Да, в этот последний раз я пил корвалол из склянок. Кроме алкоголя, он содержит фенобарбитал, барбитурат, потому и получилось так занимательно.
Я лежал на незнакомой кровати и смотрел в темноту, на проступающий из темноты шкаф. Теперь я буду трезвым. Я буду хорошим. Забавно, я вспоминаю то время, когда легковерен и молод я был и верил в самосовершенствование. И на хрена оно сдалось? – понял я позже. Но все это не про сейчас. Я снова в него верил. Я буду трезвым. Я буду хорошим.
Я заснул.
Комнаты здесь были немногочисленны, но переходы между ними, хоть и недлинные, были для меня, топографического кретина, устроены сложновато. Идешь в туалет, а попадаешь на вахту. Идешь в палату, а тебе открывается лестница вниз, ведущая к двери, открыв которую можно покурить.
Людей здесь было и того меньше. Все нездешние, не из самых ближних мест: Кингисепп, Кириши, даже Петрозаводск. Уже знакомый нам Леха и две девчонки, одна совсем молоденькая, другая – постарше, у нее уже был ребенок.
С девчонками я практически не общался. Та, что помоложе, постоянно беседовала с той, что постарше, с Лехой ее объединяли мальчишески-девчонские заигрывания. Со мной она почти не говорила, но здоровалась почтительно, как будто немножко испуганно.
Один раз на кухне она вдруг разразилась какой-то самодельной песенкой, я только помню, что там фигурировал кораблик, а может, пароходик. Может быть, это была какая-то непритязательная попса, известная среди малолеток.
Пела она почти без голоса и без мелодии, но с таким чувством, с такой, я бы даже сказал, страстью, что я был-таки впечатлен. Она спела куплетик и смолкла как ни в чем не бывало. Я смотрел на нее.
Мать была посолиднее. Никакой «тинейджеровости» в ней не было. Странно, как ее вообще сюда занесло. История, однако…
Но больше всего я общался с Лехой. Он охотно рассказал мне о себе: ворует с пяти лет, играет с шести. Живал по подвалам, месяцами, дважды чуть не сел, один раз пропарившись четыре месяца в «Крестах». Когда он сказал мне, сколько он проиграл, я решил, что ослышался, и, побоявшись, не стал переспрашивать.
Когда-то мы шутили, что «люди делятся на веселых бабников и грустных алкоголиков», понимая, разумеется, всю условность такого разделения. Леха же и подавно не соответствовал этой «максиме». Этот пострел поспел везде. «Телочки…» – мечтательно говорил он, и меня передергивало от уменьшительно-ласкательного суффикса. Вещества – это было еще одно его увлечение, из-за которого он, собственно, здесь и оказался. Он упомянул названия некоторых из них – я не знал ни одного. Никаких тебе старых-добрых опиатов или психостимуляторов. Молодежь – ничего святого.
Совокупно, в рехабах он пробыл годы. То одна программа реабилитации, то другая – их много. И родители совали его то в один рехаб, то в другой, вероятно, угрохав на его лечение сумму, разве что меньшую той, что он проиграл. Судя по тому, что мы встретились, реабилитация проходила не очень.
Наверняка ему много говорили о важном, о серьезном, о взрослом. По-видимому, на какое-то время он и проникался. Но Леха был как халтурно надутый резиновый мячик, – ткнешь в него пальцем, вроде появилась вмятинка; отвлечешься ненадолго, – а мячик снова абсолютно круглый, весело блестящий на солнце. Весь Лехин солнечный оптимизм ни на йоту не уменьшился после былого. Приколюхи – это было то единственное, что по-настоящему интересовало его в жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?