Текст книги "Эксгибиционист. Германский роман"
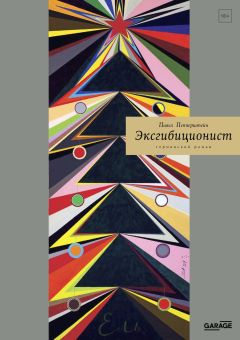
Автор книги: Павел Пепперштейн
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Глава девятая
Бархатная Прага
Прага, как известно, город, полный тайн и сказаний. Есть множество замечательных книг, излагающих эти пражские мифы. К ним, конечно же, относится такой знаменитый роман, как «Голем» Густава Майринка, как, впрочем, и другие его романы. Произведения Кафки тоже относятся к пражским сказкам. Безусловно, можно сказать, что Прага является местом иногда довольно мрачных сказок, но порой и просветленных. Каждый человек, который живет в Праге, становится персонажем одной или нескольких пражских сказок – я это могу сказать и о себе. Проведя в этом городе несколько лет в разные периоды своей жизни (в общей сложности лет пять), я попадал в самые разные сказочные ситуации и на каком-то микроуровне, на уровне своего фантазирования, внес свой вклад в вылепливание некоторых пражских сказок. Я не претендую на то, что порождения моего скромного бреда войдут в золотой фонд пражских преданий, но на каком-то фантомном уровне я в этом деле поучаствовал. «У матушки Праги острые когти», – сказал Франц Кафка. Я связываю с Прагой ощущение безвыходности жизни. Когда-то я шел вдоль Влтавы, был очень солнечный и светлый день, и чайки носились над речной водой. И наступило одно из таких состояний, когда обостряется зрение и становится пронзительно зримой каждая прозрачная капля воды на упругих водонепроницаемых перьях этих птиц, издающих довольно резкие, гортанные то ли крики, то ли всхлипы, то ли вопли. В этот момент меня пронзило ощущение безвыходности бытия, безвыходности жизни. Я вдруг осознал, что земное существование является единственным, и никакая смерть, никакие перемещения в Трансцендентное не избавят нас всех от постоянного возвращения в этот земной мир. Нигде в других местах и городах такого рода откровения меня не посещали. Наоборот, мне, скорее, всегда было присуще ощущение множественности миров. Но именно Прага, несмотря на ее барочную вариативность, дает такое ощущение Амбера, если вспомнить эпопею Роджера Желязны «Хроники Амбера», где есть единственная подлинная реальность: она называется Амбер, или Янтарь, и она отражается во всех прочих реальностях то яркими, то тусклыми образами. То же самое можно сказать и о Праге. Безусловно, Прага – Амбер, один из Амберов. Янтарный, или же золотой, алхимический шкаф, откуда убежать невозможно. Это – одна из тайных пражских сказок, пугающая и восхитительная одновременно.
Весной 90-го года в Праге произошла первая сольная (соленая) выставка «Медгерменевтики». Это историческое событие случилось по инициативе Милены, она эту выставку задумала и курировала, ей же принадлежит первый продуманный иноязычный текст о нашем творчестве, написанный для пражского каталога. Каталог назывался «Мертвые дети на дороге не валяются», а сама выставка именовалась «Три ребенка» (согласно другой версии – «Три инспектора»). На обложке каталога три детские фотки старших инспекторов МГ: Сережа в виде спокойного азиатского бутуза, Юра в виде тревожного еврейского малыша с барабаном и я в виде печального еврусского малыша в матроске и морской фуражке с якорем. В Праге три старших инспектора встретились, и каждый был с девушкой. Таким образом, нас там было шестеро.
Я испытал такое дикое, необузданное счастье, увидев Элли после мучительной разлуки, что, оставшись с ней наедине, омыл ее стройное смуглое тело слезами и спермой. Нечто подобное описано в «Лолите», когда Гумберт рыдает, соединяясь со своей возлюбленной девочкой. Произошло это фонтанирование, это выплескивание телесных и душевных влаг в сухом и безжизненном пространстве, напоминающем палату больницы: комната с белыми стенами, плотно заставленная одинаковыми кроватями с хромированными металлическими изголовьями.
Так выглядели гостевые просторы Академии художеств, где нас разместили. Мы с Элли, впрочем, вскоре поселились в отдельной квартире на смиховском холме, возле телебашни. Там, на Ондржишковой улице, был большой ковер на полу, сделавшийся полем наших воссоединений. Я вручил своей девушке мешок с игрушками-животными, привезенный из Прато. Из этого мешка, как джинн из бутылки, и выпрыгнула наша пражская выставка, то есть две заловые инсталляции с перекликающимися названиями – «Одноногий ребенок» и «Широкошагающий ребенок».
Эти работы явились непосредственным продолжением объекта «На игрушках», сделанного в Прато. Игрушки на пражской выставке были, впрочем, не только из итальянского мешка. Я задействовал также мягкие игрушки Маши и Магдалены, воспользовавшись энтузиастическим разрешением моих сестричек.
В двух среднего размера зальчиках в Галерее Младых (то есть в Галерее Молодых) на Водичковой улице игрушки были разложены группами на полу и придавлены стеклами. Сверху на поверхности стекол расстилался тонкий слой песка, на котором мы отпечатали след детской ступни. Моя сестра Маша как раз находилась именно в таком возрасте (около пяти лет), который казался идеальным для данного проекта, в том смысле, что ее горячая маленькая ступня производила идеальный оттиск на песке. Машенька так вдохновилась своим участием в производстве инсталляций, что сама после этого стала строить домашние ассамбляжи из игрушек, мебели и других предметов. Называла она их «фемлики». Было бы неплохо утвердить это загадочное слово в качестве замены неуклюжего и громоздкого слова «инсталляция».
Впрочем, забудем о реальных детях и обратимся к абстрактно-умозрительным. Игрушки под стеклами составляли как бы два маршрута, или два пути, которыми пронеслись два загадочных ребенка – Одноногий и Широкошагающий. В первом зале на песке, лежащем на стеклах, отпечатана была только левая ступня невидимого малыша. Таким образом, возникал фантазм о ребенке, ловко скачущем на одной ноге по пунктирно разложенным стеклам.

Во втором зале группы игрушек, накрытых стеклами, разложены были на значительном расстоянии друг от друга, таким образом возникал воображаемый ребенок с крошечной ступней, но очень длинными ногами.
Достаточно безумные две инсталляции, надо сказать. Хотя чем-то они напоминают о Людвиге Витгенштейне и его «Логико-философском трактате». Среди игрушек был даже любимый парень Магдалены, с которым она не расставалась всё детство. Как же его звали? Морковного цвета существо, с морковным носом и морковными ногами. Кем он был? Собакой? Мишуткой? Трудно сказать. Кажется, я вот-вот смогу вспомнить его имя. Но нет… Имя морковного существа упрямо уползает от поползновений моей памяти. Надо бы позвонить в Прагу и спросить Магдалену: может быть, она помнит имя морковного существа?
Всё в жизни непрочно. Она неразлучно провела с этим существом много лет, она спала с ним, доверяла ему свои тайные мысли, она издевалась над ним, швыряла его об стену, пинала ногами с диким, захлебывающимся хохотом. Тело ее изгибалось в экстазе смеха, пока жестокий хохот не опрокидывал ее на пол. Но к 1989 году она стала пятнадцатилетним организмом и легко разрешила придавить мистера Морковного стеклом. Он был ее любимцем, а теперь стал составной частью никому не нужного, хотя и достаточно радикального произведения искусства. Так и народ: память народная не длиннее девичьей. Только что боялись коммунистов, как огня, а тут вдруг в одночасье осмелели и освободились от них.
Да, незадолго до этого произошла Бархатная революция, и вся страна всё еще пребывала в радостном остолбенении. Никто не верил, что от этого гнета удастся избавиться так бархатно, так легко, так безболезненно. Счастливое было времечко. Освобождение – сладкая штучка. А такое вот Освобождение – легкое, бескровное – это не просто сладкая, это волшебная штучка! Это – miracle!
В этом историческом контексте выставка «Медгерменевтики» произвела эффект взорвавшегося пузырька воздуха в минеральной воде. То есть, иначе говоря, эффект был близок к сверкающему нулю, что нас радостно и вполне устраивало.
Помню упоительную пресс-конференцию. Милена сказала, что мы должны хорошо подготовиться к этой пресс-конференции. Подготовка состояла в том, что мы купили много вина, а также изготовили множество вкусных бутербродов для журналистов.
В назначенный день и час мы стояли перед журналистами в пространстве выставки, поблизости громоздились бутерброды на тарелках, блестели бутылки вина. Человек восемь журналистов мялись перед нами с отрешенными лицами. Сначала Милена произнесла емкую и весьма эрудированную речь по-чешски. Затем небольшую и красноречивую речь по-английски произнес Сережа Ануфриев. Сережа приехал из Москвы с женой Машей, и он был одет в невероятные новые штаны, сшитые Машей специально для путешествия в Прагу. Штаны были сшиты из материи, предназначенной для младенцев: нежная фланель, усеянная изображениями ярких и мелких утят по светлому фону. Сверху штаны выглядели как комбинезон с лямками, снизу превращались в клеша, щедро расширяющиеся в духе 70-х.
То ли утята на штанах, то ли подавленные стеклами мягкие игрушки, то ли еще что-то подавило волю и сознание явившихся журналистов. Когда им было предложено задавать нам вопросы, повисло неловкое и тяжеловесное молчание. Журналисты пили вино, хмуро жевали вкусные бутерброды, но ни одного вопроса так и не прозвучало. Элегантный Сережа решил разрядить обстановку.
«Если у вас нет вопросов, то давайте я буду спрашивать вас», – предложил он. Сережа задал им несколько вопросов, вполне остроумных и смешных, но никто даже не улыбнулся. Журналисты молчали, как Иисус на допросе у Пилата. Их взгляды удрученно перебирали утят на Сережиных штанах. Возможно, они не понимали по-английски. Переглянувшись с Сережей, мы поняли, что надо нам выбегать во дворик. Мы уже кусали губы. Могучий хохот поднимался изнутри несгибаемой волной. Вволю нахохотавшись во дворике, мы вернулись в залы. Журналисты убито дожевывали бутерброды. Результатом этого блестящего вечера стала одинокая заметка в одной из пражских газет под названием «Такого мы еще не видели».
Чехословакия развалилась на Чехию и Словакию. Президентом Чехии стал друг папы и Милены – Вацлав Гавел. В честь этого превосходного человека мы с папой ходили в Люцерну пить пиво и есть карпа «по-жидовски». Любимое местечко и любимая еда Вацлава Гавела. Карп с тмином – очень вкусно. Все социалистические кайфы были еще живы. Еще работал, доживая последние свои дни, мой любимый магазин советской книги на углу Водичковой улицы и Вацлавской площади. Еще действовала умопомрачительная кондитерская на втором этаже этого магазина, где мы с папой, отдавая должное нашим сладостным обычаям недавнего прошлого, восторженно отведали пирожных с двумя чашечками крепкого горького кофе. Было так хорошо в Праге в 1991 году!
Круто было гулять по Стромовке в длинном черном пальто, купленном в Италии. В шелковых карманах этого пальто лежали пачки сигарет «Спарта» и «Петра». Западное табачное изобилие еще не захлестнуло Чехию, поэтому сигаретный выбор ограничивался этими двумя марками. Я предпочитал «Спарту» в белых коробочках с древнегреческим корабликом – они были покрепче. Но иногда, для разнообразия, курил более женственную «Петру» в абстрактном коричнево-белом оформлении. Но вообще-то я любил пыхтеть тогда советскими папиросами «Казбек» или «Герцеговина Флор» (Сталин всегда потрошил эти папиросы в свою трубку). Несколько «Казбеков» привез мне в Прагу Сергунька из Москвы. Помню, мы постоянно глазели на разные дворцы и виллы и говорили, что их круто бы захватить «с позиции силы». Это особенно смешно звучало на фоне резкого упадка советской имперской мощи. Да, сладостно было глючиться на Прагу «с позиции силы» (с позиции магической силы, надо полагать), любоваться очередной пражской весной сквозь спартанский дымок, но нам предстояло возвращение в Италию. В доме с гигантскими лепными орлами возле Пражского Града, где и по сей день располагается итальянское консульство, Вике наконец-то поставили многострадальную итальянскую визу (стараниями Энрико Коми). И мы вернулись в Италию вместе, как я и мечтал.
Вскоре мы, как Юрген фон Кранах, узрели ацтекско-египетское великолепие миланского вокзала. Это великолепие мы созерцали затем часто, поскольку постоянно отъезжали с этого вокзала в разных направлениях, охваченные естественной жаждой вкусить чудеса Италии. Мы несколько раз ездили в Венецию, посетили Геную, Турин, Лаго-Маджоре и другие края. Мы наблюдали тучи летучих мышей над холодной рекой Тичино. На миланском вокзале в те годы действовал музей восковых фигур, где я больше всего любил, конечно, кабинет застрелившегося Гитлера. Адольф сидел, уронив голову на письменный стол, покрытый картой Европы. В одной руке он сжимал пистолет, а на поверхности Европы лежала кровавая лужа, сделанная из тонкого красного пластика. Один край лужи отслоился от карты и кокетливо загнулся, придавая сцене легкий сюрреалистический привкус в духе Дали. У ног фюрера, носом в пол, валялась восковая Ева Браун.

Музей восковых фигур на железнодорожном вокзале города Милана, 1991 год
Он кормит собак и ласкает их спины,
Он смотрит туда, за меня, где в углу
Лампадка горит под старинной картиной.
Картины не станет, когда я умру.
А что на картине? Не знаю, наверно,
Какие-то люди хоронят двоих.
А кто эти двое? Это мы, моя Ева.
Нас в яму кладут второпях, как чужих.
В Милане Энрико поселил нас в маленьком отеле «Арена» возле римской руины. В этом отельчике, где одеяла были местами прожжены сигаретами предшествующих постояльцев, мы были счастливы, как и перед этим в Праге. Внизу жила старая задыхающаяся собака, похожая на стул, и мы обычно клали на нее ноги, вкушая утренние круассаны. Ей это нравилось, она любила ноги людей. Прекрасную нашу молодую жизнь слегка отравлял только Лейдерман, который постепенно становился невыносимым. Мы бесили его невероятно. Раздражало его почти всё: он шипел и сильно закусывал верхними зубами свою нижнюю губу. В частности, его доводило до бешенства наше увлечение итальянскими древностями. Дело докатилось до того, что он запретил нам произносить в его присутствии слова «готика», «ренессанс», «барокко» и «рококо». Нравилось этому раздражительному парню только современное искусство.
Пикантность всем этим неприятным формам поведения придавал тот факт, что инсталляция, которую наша группа демонстрировала на выставке в Милане, как раз была связана с темами раздражения и умиления. В центре этой инсталляции располагалась большая таблица, изготовленная Лейдерманом, на которой было написано:
ДЕТИ – УМИЛЯЮТ
ПОДРОСТКИ – РАЗДРАЖАЮТ
СТАРИКИ – УМИЛЯЮТ ИЛИ РАЗДРАЖАЮТ
Наверное, мы с Элли выглядели в его глазах этакими раздражающими подростками, хотя Элли уже исполнилось двадцать, а мне было двадцать три. Но, видимо, свойственный нам инфантилизм зажигал яркую злобу в чувствительной душе Лейдермана. Ему было тогда двадцать шесть, и он, возможно, полагал себя стариком, в котором умиление и раздражение соединились. Это явление меня так заинтересовало, что я даже написал текст «Канон раздражения» (текст, видно, сгинул где-то среди моих дорожных блокнотов – туда ему и дорога).
Разделавшись с миланской выставкой, мы снова прибыли в Прато, где наш новоиспеченный галерист Пьетро Карини предложил нам пожить. Он поселил нас в принадлежащей ему квартире в центре города, на Via Cesare Guasti, недалеко от центральной площади Прато, где стоит памятник основателю капитализма. Да, Прато – непростой городок. Взять хотя бы лишь этот амбициозный памятник. Мраморный чувак, одетый в мраморные меха, в длинной мантии и плоской шапке по моде пятнадцатого века, торчит посреди площади. На постаменте имя с четким добавлением определения FONDATORE DEL CAPITALISMO. Оказывается, капитализм придумали тосканские банкиры. Из их числа самый выдающийся – вот именно этот, торчащий посреди площади.
Кстати, в Италии тех дней флюид еврокоммунизма также ощущался – скажем за это спасибо Берлингуэру, ведь слово «еврокоммунизм» – первое слово с приставкой «евро-», вошедшее в международный язык. Попадались коммунистические кафе, пестревшие портретами Ленина, Мао и Че Гевары. Цены в таких кафе почему-то бывали головокружительно высокие (наверное, в интересах классовой борьбы), зато в одном из них (на пьяцца Кавур) готовили невероятную смесь из всех мыслимых соков, напоминающую сгущенные небеса.
В какой-то момент в Милан прилетел Сережа Ануфриев, мы с Энрико встречали его в миланском аэропорту: Сережа прибыл налегке, уже становилось не на шутку тепло. На нем был старинный песчаного цвета костюм, цветастая рубашонка и сандалии на босу ногу. Его череп был смугл и обрит наголо, и в целом он напоминал человека 30-х или 20-х годов (тогда в моде были загар и обритые бошки). В руках он держал старые обшарпанные лыжи. Сережа рассказал, что утром, выйдя из квартиры на улице Удальцова, чтобы направиться в аэропорт, он увидел в коридоре эти лыжи, видимо, уже не нужные соседям. Зная, что грядет выставка в галерее Карини, Сережа прихватил лыжи с собой – они превратились в объект МГ «Скольжение без обмана». У Сережи имелся философский текст с таким названием: «Текст, сверкающий как хорошо накатанная лыжня». Через пять или шесть лет после описываемых событий мы с Сережей оказались на севере Швеции. Там южанин Сережа впервые в жизни встал на лыжи. Катаясь по низкорослому полярному лесу, где все деревья были не выше нас ростом, Сережа испытал лыжную эйфорию. «Теперь я знаю, что такое скольжение без обмана!» – восторженно шептал он в такт лыжным движениям. Что же касается меня, то я с детства был страстным обожателем лыжной эйфории.
Но в тот вечер весны 90-го года, когда мы с Энрико встречали Ануфриева в миланском аэропорту, эйфория накрыла не Сережу (хотя он впервые вступил на землю страны, где цветут апельсины и лимоны), а Энрико. Отведав ужин, изготовленный добрыми руками пышнотелой Лауры, мы расслабленно сидели, попивая едкое кьянти, когда Энрико вздумал показать нам письма, что присылали ему в разные годы его жизни английские художники Гилберт и Джордж. Откуда-то из-под кровати он достал объемистую коробку с письмами, щедро обмотанную пылевыми волокнами. Я далеко не аккуратист, но даже мне бывало страшно заглянуть под диван в квартире Энрико – пыль там клубилась, как лондонский туман над Темзой. Именно из этого тумана пришли по адресу Энрико охапки аккуратных писем – на каждом конверте было чинно начертано: «Мистеру Энрико Р. Коми, эсквайру». Это словечко – «эсквайр» – чуть не убило в тот вечер импульсивного Энрико. Внезапно его дико рассмешило такое обращение к его персоне: он стал бешено хохотать, тыча пальцем в конверты с такой силой, что чуть было не пробил в них дыру.
– Эсквайр! I am esquire! – кричал он, захлебываясь от смеха и запрокидывая к убогому потолку свое красно-седое лицо. Комизм ситуации настолько сотряс его (комизм в двух смыслах, учитывая его фамилию), что он устроил целый фейерверк из писем. Наверное, чопорные Гилберт и Джордж были бы изумлены, увидев, как Энрико бросает их письма под потолок и фонтанами расшвыривает по комнате, будучи не в силах совладать с безудержным ликованием, которое пронимало его до слез. Да что там Гилберт и Джордж! Даже южанин Сережа Ануфриев, впервые увидевший Энрико в тот день, взирал на этот шквал эмоций с неподдельным изумлением. Позже он сказал, что до этого вечера считал себя крайне эмоциональным человеком, но после «эйфории эсквайра» ему пришлось ощутить себя серебристым налимом с ледяной кровью. В общем, мы морозились как рыбный брикет, наблюдая за буйством итальянского нрава, но наша собственная эйфория еще поджидала нас в тот вечер.
Просто нам, избалованным подонкам, видимо, недостаточно было кислого кьянти из картонной коробки (вино в стекле считалось непозволительной роскошью в демократичном семействе Коми), поэтому, расставшись с Энрико возле руин древнеримской арены, мы приобрели плитку марокканского шоколада у белозубого парня, словно слитого целиком из этого самого шоколада. Придя с этой плиткой в отельчик «Арена», где нас поселил Энрико, мы стали бешено курить один джойнт за другим, и тут запоздало, как до жирафов, до нас дошла эйфория эсквайра и захлестнула наши податливые мозги целиком. Мы отловили такого мощного хохотуна, какого, наверное, еще не видывал этот скромный отельный номер. Чтобы не сдохнуть от смеха, мы выходили иногда на облый микробалкон покурить сигарету, но и тут настигал нас психоделический хохот: меня сгибало пополам, скручивало в креветку, сигарета выпадала из моих ослабевших пальцев и я ползал по дну балкона, нащупывая ее горящее тельце на плитках, в то время как за мной удивленно наблюдало оранжевое окно дома напротив, окно, в котором я никогда ничего не видел, кроме большой белой лампы, похожей на светящийся зрачок, глядящий на меня сквозь апельсиновые ресницы полупрозрачной занавески. Как сейчас вижу этот простой и тесный дворик, ставший свидетелем смеховой истерики. Между тем этот счастливый вечер, видимо, уже вошел в историю русской литературы, потому что именно тогда, среди прочего смеха (а в такие моменты всё кажется крайне смешным и при этом крайне значительным), я рассказал Ануфриеву про план грандиозного романа «Мифогенная любовь каст», который сложился в моей голове ранней осенью 1987 года – тогда же я написал первую, вступительную часть этого романа («Востряков и Тарковский»), причем писал я пером, обмакивая его в черную тушь, на плотных листах акварельной бумаги, и одной из моих задач – а я поставил перед собой тогда целый куст задач – было писать литературный текст сразу набело, отчетливым и красноречивым почерком, не делая ни одного исправления и не допуская ни одной помарки. С этой задачей я справился на пяти или шести акварельных листах, но потом перешел на пишущую машинку, а затем, дописав первую часть, и вовсе забыл про этот роман, хотя в целом план его дальнейшего разворачивания вплоть до концовки был у меня детально продуман. Три года не вспоминал я об этом. И тут вдруг, накурившись в номере миланского отеля, я стал со смаком пересказывать содержание еще не написанного романа Сереже Ануфриеву, что заставляло его извиваться от смеха, хотя произведение предполагалось вовсе не в комическом жанре. Согласно моему изначальному намерению, этот роман должен был войти в корпус классических текстов Большой Русской Литературы (Большой Гнилой Роман, или БГР, в нашей тогдашней терминологии) и обязательно влиться в школьную программу – последнее казалось мне особенно важным, поскольку я был озабочен поисками Канона, а каноническим литературное произведение становится, как я полагал, только обретая недобровольного читателя, обреченного на акт чтения теми средствами принуждения, которыми располагает учебное заведение, способное соорудить читателя вопреки прихотям его собственного вкуса или особенностям его литературного аппетита. Короче, мне хотелось выйти за пределы литературного рынка. Может быть, так бы оно уже и сталось к настоящему моменту, если бы не современные цензурные ограничения в отношении матерного языка. Впрочем, отказаться от использования матерных слов в литературном тексте я был не готов даже ради вожделенного вхождения в школьную программу, да и сейчас не хочу отказываться от мата, а всё потому, что усматриваю в матерных словах сакральное измерение, в частности мощные защитные (обережные) свойства. Да, я люблю всей душой три священных слова, три слова-охранника, стоящие на страже русского мира: «хуй», «пизда» и «ебаться». Эти слова защищают любимую родную страну, они защищают вообще всё любимое (в частности, сферу сексуальности), и созданы они вовсе не только лишь для брани, но и для нежности.
Впрочем, я не стану возражать, если в целях обогащения школьной программы когда-нибудь будет создана «боудлеризованная» версия «Мифогенной любви». Вы не знаете, что такое «боудлеризация»? Я вам расскажу.
На заре Викторианской эпохи некий просвещенный англичанин по фамилии Боудлер в целях соблюдения общественной нравственности «очистил» сочинения Шекспира от всех тех словечек и сценок, которые, по мнению Боудлера, могли этой нравственности навредить. Боудлеризованный Шекспир пользовался в ту эпоху таким сногсшибательным успехом, что почти на сто лет затмил и вытеснил Шекспира подлинного. И что? Кто нынче помнит Боудлера и его кастрированную версию? Никто. И всё же мистер Боудлер помог Шекспиру продержаться на плаву в тот период, когда литературные нормы стали чересчур уж постными. Если подобный постный период надвигается на русскую словесность, то я не возражаю против временной боудлеризации нашего эпического сочинения, но сам делать эту работу не хочу (лень, да и зачем? Не мое это дело), а найдется ли свой Боудлер для нашего литературного шедевра – не знаю.
На следующий день мы продолжали писать роман, уже едучи в поезде во Флоренцию, проносясь мимо тосканских ландшафтов, колоколен, живописных и заплесневелых городов, индустриальных ангаров и загадочных огородов, где произрастали полчища гипсовых Венер, Адонисов, Аполлонов и Посейдонов (Северная Италия богата такими огородами богов). И последующие полтора месяца мы постоянно писали МЛК, живя в Прато в просторной квартире на Via Chesare Guasti.
Да, господа присяжные заседатели, бывают в жизни человека счастливые периоды – то был один из них. Мы просыпались с Элли под грохот пратских колоколов, гуляли по окружающим холмам, напевая:
Радость безмерная,
Нет ей причины.
Санта Лючия!
Санта Лючия!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































