Текст книги "Эксгибиционист. Германский роман"
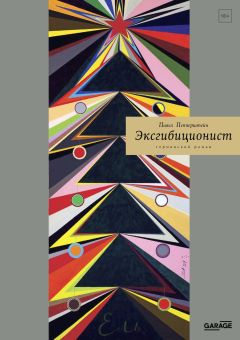
Автор книги: Павел Пепперштейн
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
«Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика…» В дальнейшем Камин полностью исчез из моего поля зрения, и мне ничего не известно о том, как сложилась судьба этого младшего инспектора МГ.
Глава двенадцатая
Одесса. Смех и хохот
Пусть упомянутый юноша по кличке Камин превратится в номинальную каминную трубу и мы, словно Алиса в Стране Чудес, вылетим в эту трубу вслед за нашим повествованием, чтобы оказаться в соленом и прекрасном пространстве волшебного черноморского города. Я уже говорил, что группа «Инспекция МГ» состояла из москвичей и одесситов, эта группа сделалась неким отпрыском любви этих двух городов, столь непохожих друг на друга, но связанных в те годы множеством нитей. Что же это были за нити? Или то были морские канаты, пропитанные черноморской солью? Если попытаться вычленить основную нить, связующую Имперский Центр с портово-курортным городом на Черном море, то эту нить следовало бы назвать «большая еврейско-украинская игра с великим русским языком».
Речь здесь идет не об этническом происхождении различных деятелей культуры. Речь здесь о том, что в начале двадцатого века выходцы из еврейско-украинской среды особым образом услышали русский язык и проложили путь к его новому межнациональному использованию. Это было сделано посредством музыки (музыка языка) и остроумия. Посредством нового юмора. Этот язык и этот юмор сделались вскоре общесоветскими.
Одесса была русско-еврейским городом на Украине: общая мелодия (и мелодика) советской речи возникла на стыке русской культуры и языкового и мелодического опыта украинских евреев, точно так же, как понятие «советская еда» являет собой синтез кухни грузинской, русской и немецкой (шашлык, сосиски, блины, лаваш, колбаса, селедка, горошек, картошка, капуста, гречка, пельмени). Россия долго мыслила себя контрагентом Германии, и Германия немало ценного подарила своему восточному konter-ego: царствующую династию и военную касту, структурированную остзейским дворянством: от Екатерины до Штольца, от Бенкендорфа до Карла Иваныча. Ну и, конечно, Германия подарила России евреев: еще один шквал фамилий германского звучания и еще один каскад языкового опыта, связанного с диалектом немецкого языка. В случае Одессы всё это заквасилось вкупе со знаменитой певучестью украинской речи плюс малороссийская шутливость, витальность и легкое безумие. Поэтому не кажется странным, что пионерами и зачинателями большой еврейской игры с русским языком стали вовсе не евреи, а именно украинцы.
Парадоксально и смешно, но факт: у истоков «большой еврейской игры с языком Империи» стоит юдофоб и ипохондрик Гоголь: именно из его шинели, а может быть, из его свитки начинает раскручиваться свиток этой игры. Из того же замеса возникает и польско-русский помещик Достоевский. В России антисемиты всегда были главными проводниками и распространителями еврейского влияния.
Один из родоначальников российской юдофобии немец Владимир Даль составил первый толковый словарь русского языка. Через окошко антисемитизма еврейский флюид впервые в истории вырвался на необузданные просторы и унесся «в даль» (если пользоваться игрой слов в духе одесского юмора) – и таким образом докатился до границ Китая, где до сих пор сохраняется единственная в мире (кроме Израиля) территориальная единица, пусть номинально, но всё же закрепленная вполне официально за евреями. Еврейская автономная область с уссурийским тигром на гербе.
* * *
Смех и хохот – очень разные вещи. Смех может быть произвольным, а может быть непроизвольным. Хохот всегда непроизволен либо его имитируют. Если смех – это некое выплескивание себя вовне, выплескивание внутреннего содержания, даже агрессия внутреннего содержания по отношению к внешнему пространству, когда человек внезапно заполняет внешнее пространство каким-то довольно интенсивным звуком, который при этом находится за границей логоса, то хохот, скорее, свидетельствует о том, что человека разрывает изнутри нечто инородное. Хохочущий человек – это жертва хохота, в то время как смеющийся человек не является жертвой смеха. Мы все знаем эту границу, когда смех переходит в хохот.
Можно расширить определение Канта «смех есть разрешение напряженного ожидания в ничто». Смех – разрешение всего в ничто, потому что речь не только о напряженном ожидании, но и о множестве других аффектов. Смех не нуждается в комическом, ему не требуется юмор. Плоть смеется сама по себе, и не потому, что ей смешно, а потому, что она радуется: это смех радости. Типичный пример – детский неконтролируемый смех, который является формой детской счастливой истерики.
Мы можем плавно перейти к теме Одессы, которая считается в некоторых пластах дискурса городом юмора или столицей остроумия. Когда я попал в Одессу и действительно столкнулся с этим явлением под названием «одесский юмор», я, конечно же, подпал под его обаяние, поскольку всегда был записным хохотуном. Я гораздо больше люблю смеяться, чем шутить.
При этом я спросил себя: почему для одесситов такое гигантское значение представляет собой юмор, шутливый дискурс, остроумие? В какой-то момент, далеко не сразу, далеко не после первого своего пребывания в Одессе, и не после второго, и не после третьего, а через много приездов в Одессу я понял, что единственным каналом рационального общения друг с другом для одесситов является юмор. Это единственный канал, который их объединяет. Они все подвержены совершенно разным и не сводимым в единое целое формам чудачеств, странностей. Как вот только одессит начинает говорить серьезно, он кажется совершенно неадекватным, ебанутым на всю голову, причем демонстрируется совершенно другой тип ебанутости, чем у другого одессита. При этом юмор у них общий, он действительно одесский, и он их объединяет. Таким образом они могут общаться друг с другом, у них выстраивается некий общий дискурс, в котором открываются шлюзы для некоторого взаимопонимания. Это мне неожиданно напомнило разговор с одним немецким банкиром, Фолькером Клауке, очень вертким человеком, который занимался перепродажей крупнейших банков. Он спекулировал банками. Как вот человек спекулирует какими-нибудь старинными ложечками, так Клауке, немецкий финансист и авантюрист, спекулировал банками. В какой-то момент во Франкфурте-на-Майне я с ним подружился, он покупал даже мои рисунки, отчасти меня наебал, поскольку он не мог не наебывать всех, в том числе бедного художника, будучи миллионером. Относился он ко мне очень хорошо, несмотря на это. Мы очень много просто болтали. Почему-то у нас был такой ритуал: мы встречались в Шах-кафе во Франкфурте, такое место было, возле Дойче Банка. Он тогда работал в Дойче Банке, в огромном небоскребе, где на самом верхнем этаже была комната, завешанная моими рисунками, с легкой руки этого Клауке. Как-то раз мы говорили об Америке. Я ему сказал, что у меня американцы вызывают некоторое раздражение, потому что они любят очень громко говорить о деньгах. На что он мне сказал: «Ты просто не понимаешь. У них так мало общего, их так мало что объединяет, потому что американцев – их, по сути, нет: есть итальянцы, есть индейцы, есть евреи, есть ирландцы, китайцы… Единственное общее, что дает некое ощущение объединяющего дискурса, – это тема денег. По этой причине, как только об этом заходит речь, они начинают говорить очень громко. Это примерно такое же поведение, как вот они встают при звуках американского гимна и отдают честь американскому флагу. Это воспринимается как громкая озвучка американских ценностей».
Точно такую же роль, какую в Америке играют деньги, играет юмор в Одессе. Он играет роль объединяющего и насаждающего идентичность начала. Попадая в этот прекрасный город, ты в какой-то момент начинаешь ощущать юмор как некое наваждение, как форму помехи, которая на самом деле мешает тебе соприкоснуться с сущностью этого города. А сущность этого города совершенно не юмористическая. Это очень романтическое прекрасное место, совершенно не смешное. Состояние, которое я больше всего в Одессе люблю, – это состояние чистой мечтательности, именно нежной, возвышенной, воздушной мечтательности, которая может осуществиться только на фоне некоего абстрагирования от юмористического дискурса, хотя он там достаточно навязчиво присутствует.
Я уже неоднократно упоминал в этих записках, что группа «Медгерменевтика» была московской, но больше чем наполовину состояла из одесситов. Первое инспекционное путешествие стало путешествием в Одессу. Это казалось совершенно естественным, именно туда должны были направиться инспекторы недавно образованной Инспекции МГ. Однако первая попытка уехать в Одессу, которая была предпринята еще зимой 1988 года, оказалась неудачной. Мы втроем, Сережа Ануфриев, я и Антоша Носик, отправились на аэровокзал у метро «Аэропорт» с целью купить билеты на самолет и улететь в Одессу. Тут мы попали в ловушку местного коллективного песенного дискурса. Нельзя было так сразу, с первой же попытки, предпринять такой сакральный бросок в настолько сакральное пространство, каким являлась Одесса. Тем духом, который преградил нам путь, стал очень могучий в советском контексте дух Володи Высоцкого, который буквально погрузил нас в пространство своей знаменитой песни «Открыты Лондон, Рио, Магадан, открыт Париж, но мне туда не надо, а мне в Одессу надо позарез». Стала происходить хуйня, описанная в этой песне. Мы оказались в плену этого дискурса. Три дня подряд мы ездили с Речного вокзала в этот аэровокзал. Происходило тавтологическое струение между двумя вокзалами, между речным вокзалом и аэровокзалом, то есть между вокзалом воды и вокзалом воздуха. Два вокзала замкнулись в какой-то тупичок, и мы никак не могли улететь, почему-то не было самолетов в Одессу. Действительно были открыты Лондон, Рио, Магадан, и Париж был открыт, но нам туда было не надо, как поется в песне Высоцкого.

Мастер Йода. 2007
В результате мы так никуда и не улетели. Через какое-то время, уже без Антоши Носика, мы, плюнув на это современное средство сообщения под названием «самолет», просто сели с Ануфриевым в поезд и спокойненько поехали в Одессу. У нас из багажа была с собой только бутылка водки и коробка томатного сока, и то и другое мы в очень эйфорическом ключе выпили, стоя в последнем вагоне, где через стеклянную дверь нам открывалось созерцание уходящих железнодорожных путей. Мы говорили на самые возвышенные и философские темы. И при этом, как водится, дико хохоча, выпили всю эту водку, потом выпили еще одну бутылку водки, но ее, правда, мы не допили до конца. Очень веселые, мы прибыли в Одессу и тут же пошли гулять по заброшенным и полузаброшенным одесским санаториям, пошли на пляж пить пиво, всячески наслаждаясь этим моментом.
Квартира, где я жил в тот момент, очень густонаселенная, стала мне буквально вторым домом на какое-то время. Сережина мама Рита, Маргарита Михайловна Ануфриева-Жаркова, невероятная была женщина, добрая и прекрасная, умная, и ко мне она отнеслась как-то очень-очень нежно и воспринимала меня прежде всего как мальчика, у которого умерла мама. Свою материнскую любовь, очень мощную, адресованную Сереже, она в какой-то степени распространила и на его друга, то есть меня, и не только на меня: на всех Сережиных друзей распространялась эта материнская любовь. Я чувствовал это с большой благодарностью, было дико уютно туда постоянно приезжать. Очень гостеприимный дом. Там еще жила Сережина бабушка Олимпиада Федоровна, тоже невероятное существо, очень похожая на мастера Йоду из кинофильма «Звездные войны», то есть веселое инопланетное существо. Сережина сестра Юля представляла собой законченный тип одесской девочки-мечтательницы, абсолютно контрастирующий с расхожим образом одесситки – хваткой, острой на язык, бодрой. Юля представляла образ Алисы в Стране Чудес, воплощала в себе позднесоветскую мечтательную англоманию. Она была оторвана от всего земного, при этом хорошо говорила по-английски, пела замечательно по-английски и по-русски, аккомпанируя себе на гитаре. Ее коронным номером было исполнение песен группы «Нирвана», также она написала много песен на Сережины и мои стихи, очень хорошо их пела. Например, я помню, как она пела песню на мои стихи, глядя в пространство остановившимся и загадочным взглядом – туда, где солнце висело над темным, сияющим морем:
Крестики нательные матросов
Утонувших будут нам светить
Сквозь зеленые морские воды,
Чтоб могли мы рифы обходить.
И мы приплывем в тот край чудесный,
В край далекий в небе золотом,
Где протяжные русские песни
Будем петь мы во дворце пустом.
В комнатах пустых вещей не будет,
И нас не будет там, и нас,
Потому что скоро мир забудет
Наши лица, смех, сиянье глаз.
Юля была котоманкой, то есть обожала котов. Два заколдованных принца в пушистых шубках бродили по квартире: рыжий мачо Бамбук с черными глазами и белоснежный Монро – кроткий, субмиссивный. Атмосфера была дико романтическая, уютная и при этом очень юмористическая. Одесситы действительно полностью оправдывали свою репутацию невероятно шутливых, смешно шутящих людей. Как настоящие шутники, смеялись они редко, принято было шутить с каменным лицом, без улыбки. Смеяться должны были гости города, которые якобы приехали специально, чтобы посмеяться, что я охотно и делал. Сережа сказал, что меня познакомит со всеми, со средой одесского концептуализма, который к тому моменту сложился благодаря усилиям прежде всего самого Сережи. Он заявил, что в Одессе не принято звонить по телефону, опираться надо исключительно на телепатию и, ни с кем специально не договариваясь, по принципу дзена и спонтанных мистических совпадений, мы сразу всех встретим, перед нами раскроются абсолютно все двери. Но в первую ночь мы блуждали с Сережей по городу: почему-то никуда не попали, никто нам не открывал, все спали или были не готовы принять нас. Сережин коронный фокус обломался. Зато все последующие ночи это работало безукоризненно. Таким образом, я познакомился со всем цветником одесского панк-концептуализма.
Первый визит был нанесен замечательной парочке Света Мартынчик и Игорь Стёпин. Тогда они были неразлучной парой, эти одесские панки. Игорь Стёпин был всем хорошо известен как человек, который ест борщ. Это означало, что, когда бы ты ни увидел этого человека, он постоянно ел борщ, его невозможно было увидеть вне контекста борща. Каждый раз, когда его видел кто-либо, перед ним стояла огромная тарелка наваристого борща, над которым поднимался столб пара и столб невероятно насыщенного борщевого запаха. Игорь Стёпин с ложкой сидел над борщом, иногда в его руке был заметен толстый кусок хлеба, иногда с салом, иногда с головкой чеснока, и он солидно, неторопливо, как настоящий задумчивый обитатель Одессы, иногда отпуская растянутую во времени и пространстве шуточку, ел борщ. Многие люди, которые его знали, признавались, что никогда не видели его вне контекста борща.
Эта пара была очень продуктивной. Они разрабатывали детализованные мифологии несуществующих народов и стран (вещь очень мне близкая, я сам этим много занимался, и не только я). Как раз к моменту, когда я оказался в Одессе, они начали делать «острова». У каждого человека, принадлежащего к этому кругу, имелся «остров». Это были пластилиновые острова, каждый человек, кому дарился такой остров, должен был оборудовать для размещения острова специальную полочку у себя дома; к островам прилагался машинописный текст, рассказывающий историю острова, повествующий о религии, типе цивилизации, типе государственности. Всё было вылеплено из пластилина: население, храмы, растительность, животные.
Вскоре после этого известный нью-йоркский галерист Рон Фельдман заинтересовался деятельностью двух одесских группировок – «Перцы» и «Мартуганы» (так все называли Свету Мартынчик и Игоря Стёпина). Затем Марат Гельман простер над ними свое заботливое крыло. Они сделали попытку переселиться в Москву, но потом что-то странное произошло. Видимо, не нужно было Игорю Стёпину расставаться с ложкой, которой он ел борщ. В какой-то момент в его руке вместо ложки оказалась вилка, и закончилось это скверно. По слухам, как говорит легенда, он убил кого-то этой вилкой и скрылся после этого в неизвестном направлении. История темная, я отнюдь не уверен, что это правда. Возможно, он никого не убивал.
Здесь мне сразу вспоминается одна из историй о Борухе Штейнберге. Старший брат художника Эдуарда Штейнберга, Борух Штейнберг, был человек-гора или жид-медведь, если вспомнить персонажа из фильма Тарантино «Бесславные ублюдки». Если его младший брат очень любил Малевича и как-то взаимоотносился с Малевичем в своих постсупрематических картинах, то старший брат Борух тоже любил Малевича, но несколько другой любовью. В какой-то момент с подельником они украли картину Малевича, то ли из частной коллекции, то ли из провинциального музея. Товарищи настолько обрадовались удачно сросшемуся предприятию, что стали на радостях пить водку, в результате разговор потек как-то косо, и Борух своего подельника убил опять же вилкой, после чего очень долго сидел. Можно составить антологию под названием «Вилка», посвященную таким детективным историям.
Света Мартынчик осталась одна, но не растерялась, а стала знаменитейшим и великолепным писателем Максом Фраем. Долго я не знал, что она является Максом Фраем. Узнал, точнее догадался, очень поздно. Я делал выставку в галерее Марата Гельмана и заметил там каталог с текстом Макса Фрая об одесских художниках. В числе прочих художников, которых я хорошо знал, там на полном серьезе освещалась деятельность таких двух авторов, как Дима Танец и Леша Кападаст. Но я знал, что Дима Танец и Леша Кападаст – это плод воображения Мартуганов, это выдуманные ими художники, никогда не существовавшие в действительности. Тут я понял, что раз Макс Фрай с таким детальным знанием дела говорит об их творчестве, еще к тому же настаивает на их реальности, то Макс Фрай – это не кто иной, как Света Мартынчик. На мои вопросы мои друзья кивнули и сказали, что это так.
В дальнейшем я подружился и с остальными персонажами этого круга, куда входил такой ярчайший и совершенно незабываемый и потрясающий гений, как Лёнчик Войцехов.
Меня невероятно поразил этот великолепный человек и его работы. Он был гением неосуществленного. Хотя какие-то вещи он все-таки осуществлял очень круто, но самый кайф, самая сметана расцветали на территориях неосуществленного. Всё это изложено в его книге «Проекты», к которой я и отсылаю читателя и заверяю, что вы получите грандиозное наслаждение при чтении этой книги. Вы действительно погрузитесь в одесский густой и ароматный компот, состоящий из невероятных легенд. А легендарность и мифогенность – очень важное свойство Одессы.
Первый незабываемый визит в мастерскую Лёнчика, она же и квартира, сопровождался приходом Лёнчиковой мамы. Тогда впервые я отловил настоящий одесский скандал, который при этом являлся псевдоскандалом. Мама, пришедшая с каких-то своих дел, немедленно стала дико орать на всю квартиру: «Бездельник, тупое рыло, мудак, кого ты, блядь, опять привел? Тупых своих друганов? Что это за наркоманские рожи? Ты шо, не можешь общаться с нормальными, блядь, людьми? Ты шо, совсем деградировал?» На что Лёнчик не поведя бровью заорал точно таким же благим матом: «Пошла нахуй, старая пизда, кошелка!» Даже половины процента этого дискурса в наших северных краях, если бы такое прозвучало в какой-то семье, хватило бы для разрыва навсегда, для чудовищного набряка, дикой вековечной тучи на тысячи миллиардов лет. Даже после того, как истлели бы надгробья всех людей, произносивших эти слова, всё равно какой-то дух неразрешимого недопонимания сохранялся бы и витал бы над их могилами. Но не так в Одессе. Говоря всё это, они совершенно добродушно смотрели друг на друга, с большой любовью и нежностью. Было понятно, что говорится это просто так, что никто не злится, не негодует, и мама очень довольна, что к Лёнчику в гости пришли друзья. Говоря весь этот жуткий бред, она параллельно начинала уже чистить картошечку, чтобы заботливо поджарить ее Лёнчиковым друзьям и Лёнчику, и делать салатик. Лёнчик с нежностью взирал на маму, понимая, что она очень хорошая еврейская мама, которая сейчас правильно всё сделает.
Это пример одесской театрализации действительности, театрализации жизни. Южный темперамент предполагает, что нужно сделать всё, чтобы не было скучно, чтобы было максимально выпукло, пряно, остро, ни в коем случае не пресно. Во всём нужно достичь как можно больше эффектов, всяческой крутизны, какой-то выпуклости. Если ситуация не отличается чем-то экстремальным, просто мама домой пришла, сын гостей принимает, то чем сдобрить эту ситуацию, чем ее приперчить и подострить? Действительно, такими выстегнутыми диалогами.
Недалеко начиналась Молдаванка – легендарный мир маленьких лачуг, поэтичнейших хибарок. Там мы тоже часто тусовались в хибаре, которую снимал Лейдерман. Лейдер жил в полном пиздеце: жуткий домишко, находящийся в очень аварийном состоянии, который, казалось, ударь ногой, и он весь куда-то завалится набок. В Одессе было много таких домишек, на Молдаванке особенно. Там была одна-единственная комнатка, к ней прилегал туалет, куда даже страшно было заглянуть. Это было что-то вроде пещеры со сталактитами и сталагмитами, с чудовищной ржавчиной. В самой комнате горела электрическая лампочка, голая, как Ева в райском саду. На стене висел ковер, а если ковер приподнять, то можно было сразу же упасть в обморок, потому что по стене, которая обнажалась под ковром (он там для этого и висел, чтобы заслонять эту стену), постоянно струилась непонятная жидкость и ползали чудовищные отродья типа мокриц, червяков. Это было действительно что-то страшное.
Тем не менее Лейдерман, как человек малочувствительный к таким сложностям, совершенно спокойно там жил, читая книги. Мы постоянно там играли в шахматы с ним или с представителями такой одесской троицы, как Камон, Карман и Камин, было три таких человека. Еще был некто Кремпич, о котором очень упорно циркулировало сообщение, что «Кремпич повесился». Каждый раз после этого Кремпич снова встречался, с ним снова можно было поиграть в шахматы. Это не мешало через два дня услышать от общих знакомых, что «Кремпич повесился». Каждый раз я, не совсем понимая флюиды одесского общения, думал: как же все-таки грустно, что Кремпич повесился, – но это не мешало через пару дней снова сразиться с Кремпичем в шахматы. Такая обратимость бытия тоже являлась частью то ли одесского юмора, то ли одесского философского отношения к жизни, то ли уже упомянутой одесской склонности к театрализации.
Это было незабываемое первое путешествие в Одессу, оно сопровождалось для меня ощущением обретения второго дома. Здесь ощущалось «Еврейское Царство», хотя евреев к тому моменту уже осталось мало. Но всё, что я описал, было задано идишской культурой, этой галицийской, каббалистической и хасидско-дзенской культурой. Всё было этим пропитано, сам воздух, сам этот юмор, сам этот бред, сама эта романтика, мистицизм – всё это присутствовало в очень густом замесе. Еще длилась советская власть, всё это цвело под тусклым пледом советской власти.
Тот мир, который я больше всего полюбил, который в наибольшей степени отражал структуру моей души, это был мир распадающихся и заброшенных одесских санаториев. Я мог до бесконечности гулять по ним, любоваться руинированными прекрасными корпусами различных санаториев, каждый из которых был выстроен в своем стиле. Были великолепные образцы конструктивизма, или сталинского ампира, или же это были виллы XIX века. Например, санаторий «Дружба» находился в непосредственной близости от дома Сережиной семьи на Солнечной, возле места, называемого «Стамеска» – так все называли памятник советским жертвам 25 октября. Рядом со «Стамеской» находится вход на территорию санатория «Дружба». Это имение князя Гагарина, из той самой семьи, один из членов которой был незаконным отцом Николая Федорова. Не так давно я общался с одним отпрыском этого семейства, он теперь член бельгийского правительства и Европарламента и даже не говорит на русском языке, но тем не менее приятнейший господин из рода Гагариных. Можно было видеть виллу того времени, конца XIX – начала XX века, потом конструктивистские корпуса. Всё это было в очень заброшенном состоянии, в разной степени заброшенности. На некоторых санаторских корпусах проваливались балконы, над этими полупроваленными балконами сушилось чье-то белье, какие-то купальники. Загорелые прекрасные девушки и девочки прохаживались, мальчики проносились на велосипедах, всюду жизнь цвела. Невероятная садово-парковая скульптура просто врезалась в сознание: цикл фонтанов, созданных непонятно когда, то ли во времена князя Гагарина, то ли во времена Юры Гагарина, то ли во времена товарища Сталина или еще в какие-то времена. Это цикл фонтанов, объединенных принципом «ребенок ебет животное». Самый любимый фонтан «Мальчик ебет лебедя» был местом паломничества всей нашей компании. Эта скульптурная композиция представляла собой лебедя, в которого сзади вонзился голый мальчик, брутально держа лебедя за крылья, а лебедь изо всех сил орет, подняв голову кверху и разинув свой клюв. Этот клюв дополнительно одесскими шутниками был выкрашен в ярко-красный цвет, точно так же, как и лапы лебедя. А из клюва торчало нечто, очень похожее на хуй. Видимо, это был особо длинный изгибающийся хуй мальчика, которому удалось прорваться сквозь тело лебедя и вырваться уже прямо через клюв. Это был источник фонтана, из которого, по идее, должна была бить вода как субститут спермы изливающегося мальчика, но фонтан часто не работал. Больше всего потрясало лицо мальчика, искаженное такой чудовищной гримасой сладострастия, похоти и невероятной порочности, которой не знали даже древнеримские и другие извращенцы. Еще была скульптура «Девочка ебет рыбу» – маленькая голая девочка, которая зажала огромную рыбу ногами, явно производя генитальное трение. При этом рыба тоже очень порнографично выглядит, напоминая гигантский хуй. Это всё действительно совпадало с духом города. Кроме упомянутых юмора, мечтательности, галлюцинаторности есть четвертый аспект одесского духа – невероятная порнографичность Одессы.

Зеркальная планета. В 2158 году астрономы с планеты Земля открыли новую планету в нашей галактике. Они назвали ее Mirror (Зеркало). Планета целиком покрыта слоем черного метанового льда, настолько гладкого, что он обладает превосходными отражающими свойствами. В 2210 году экспедиция астронавтов с Земли высадилась на поверхности планеты Mirror, но все астронавты заразились неведомой психической болезнью и никто не вернулся обратно домой.
Санаторий «Стройгидравлика» обладал такой роскошью, как собственный тоннель, выходящий к морю. Имелось в виду, что все отдыхающие могут спуститься на лифте и вальяжно выйти к морю через тоннель. Берег структурирован так: высокий обрыв, а дальше уже пляжи внизу, и так вдоль всего одесского побережья. Тоннель представлял собой мозаичный галлюциноз, где разные безымянные художники создали очень яркие, завораживающие мозаики. Сюжеты мозаик перетекали друг в друга. Лукоморье перетекало в «Сказку о золотом петушке», «Сказка о золотом петушке» перетекала в карельский орнамент, карельский орнамент перетекал в структуру атома и микромолекулярные модели генома человека. Геном человека перетекал в минималистическое ярко-синее пространство, на котором тянулся белый древнегреческий меандр, плавно переходящий в схематическое изображение морских волн. Всё это венчалось огромными белыми на синем буквами, которые складывались во фразу «Море чудесное, доброе, ласковое. Искупался, вышел на берег и стал смеяться без всякой причины. Антон Павлович Чехов». Действительно можно было смеяться без всякой причины или просто по причине счастья, потому что действительно море чудесное, доброе, ласковое. Недалеко от этой прекрасной надписи очень уютно сидел В. И. Ленин, вытесанный из камня, притулившийся в каменном кресле, словно тоже пригретый черноморским солнышком. За его спиной теплилась дверь лифта, откуда можно было подняться в вестибюль санатория.
Совершенно незабываемым остался визит в кабинет эстетической терапии в одном из санаториев, который мы предприняли вместе с Сережей Ануфриевым. Это было очень полезно для нас как для инсталляторов, как для эксгибиционистов в профессиональном смысле слова. В залах были выставлены произведения пациентов кабинета: гениальные творения, совершенно разные – в жанре корнепластики, работы с корягами, или аппликации из пуха, или виньетки из березовой коры. Самые разнообразные материалы были задействованы. Идея была понятна и глубока: всё прекрасно, всё может служить материалом для творчества. Можно просто взять, раздолбить кусочек кафеля и из осколков этого кафеля какую-то хуйню сложить. В этом будет таиться глубочайший смысл – не обязательно годами, бережно, как в Тибете, складывать мандалу из проса или риса, окрашенного в разные цвета. Можно небрежно, по-советски, хуйнуть ногой по какому-то предмету, раздолбать его в крошево, из этого крошева очень небрежно левой ногой сложить какую-то первую попавшуюся хуйню, и эффект будет столь же поразительно глубоким, как сотворение гигантской калачакра-мандалы. При этом делать что-то старательное и кропотливое также не воспрещалось. У кого диагноз лежал в этом направлении, тот действовал именно так. Было состояние отпущенности, разрешенности: можно как угодно. Хочешь, например, – возьми кусочек пластилина, а в него воткни зажигалку и назови эту композицию «Вечер в Манхэттене». Пожалуйста, почему бы и нет? Невероятна была пермиссивность и разрешенность этой советской самодеятельной культуры, лишенной профессионализма, лишенной профессиональных тяжестей, напрягов. Обычно считается, что ты должен уметь делать, что ты делаешь. А тут – нет. В этом и заключался лечебный эффект этой эстетической терапии. Мы впитывали всё это, как растения впитывают солнечный свет или прозрачные капли дождя, с благодарностью и счастьем, впитывали этот экспозиционный похуизм, который мы собирались использовать в нашей инсталляционной практике.
Разница между кабинетом эстетотерапии и современным искусством в том, что в современном искусстве эта пермиссивность не настоящая, она фальшивая. Туда не может прийти дядя Ося с тетей Людой, чтобы тетя Люда положила рисунок, изображающий ее пудреницу, а дядя Ося, например, свою тапочку, которую он расшил бисером в порыве вдохновения. Дядя Ося с тетей Людой вообще туда не могут прийти. Туда могут прийти какие-нибудь Люба и Ося, которые уже втусовались и в теме. То есть сам объект может выглядеть непритязательно, но все равно он должен демонстрировать, что автор в теме, в дискурсе. Это ближе к тоталитарной секте, в арт-мире нет настоящей свободы. Это всё ложная свобода, на самом деле она даже почти не имитируется. Ты можешь проявить небрежность по отношению к материалам, но небрежность в приобщенности к доминирующему дискурсу ты допустить не можешь. Ты должен символически склониться перед этим доминирующим дискурсом. Поэтому здесь следует мое стихотворение, посвященное арт-миру.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































