Текст книги "Воспоминания гетмана"
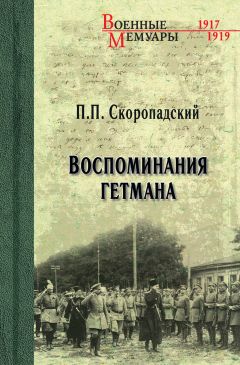
Автор книги: Павел Скоропадский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Через несколько дней, отдохнув в гостеприимной Александрии, я выехал снова на линию, или на внутренний свой фронт, как в то время называлась линия Шепетовка – Казатин – Вапнярка, которую обороняли мои части, взял с собою Полтавца и Зеленевского.
О последнем скажу несколько слов, так как он впоследствии своею близостью непосредственно ко мне сыграл некоторую роль в Киеве. Уже немолодой человек, умный, ловкий, чрезвычайно большой любитель выпить и хорошо поесть, сердечный помещик, прокутивший все свое состояние, много путешествовал, говорил на всех языках, большой лентяй, но за все свое пребывание около меня трогательно заботился обо мне. Я лично терпеть не могу все житейские мелочи и предпочитаю от удобств отказаться совершенно, лишь бы не думать о них и не заниматься их добыванием.
Зеленевский в этом отношении был для меня, как нянька.
Впервые я его увидел дежурным офицером на телефоне в штабе корпуса, где он страшно путал, я на него из-за этого обратил внимание. Мне сказали, что это интересный человек, и я с ним познакомился. Потом, не знаю как, он был прикомандирован к штабу и заведовал нашей столовой. Это дело оказалось его настоящим призванием. Он в самых сложных условиях умудрялся кормить нас великолепно, затем уж так и пошло. Когда мне приходилось куда-нибудь отдаляться от штаба, тогда хозяйственную часть брал на себя Зеленевский. Потом уж он постоянно был со мной. Со времени моего гетманства был моим адъютантом и проявлял ко мне в трудные минуты много сердечности.
Итак, я с Полтавцем и Зеленевским 18 декабря 1917 года снова пустился в скитания по линиям. Части, в большинстве случаев, жили в отвратительных условиях, в сильную зимнюю стужу они находились в истопленных вагонах. Как я ни хлопотал, но решительно ничего не мог добиться из Киева. Мне это даже показалось подозрительным: не желает ли Секретариат, видя мои успехи, добиться того, чтобы у меня корпус при таких условиях начал бы безобразничать. И действительно, в то мое посещение частей я заметил уже совершенно другое настроение. Пошли снова комитетские заседания, люди уже находили, что пора ехать в Киев, или другое какое-либо место, отдыхать. Начальники дивизий и командиры полков проявляли настроение далеко не бодрое, чуя, что все снова пойдет по-старому, как в Меджибужье.
Между тем большевистское правительство объявило поход на Украину. В то время, как я командовал войсками на Правобережной Украине, вся левобережная оборона была поручена полковнику Капкану.
На Украину производился нажим с обеих сторон. Видя, что условия, в которых живут мои части, плохи и что в зависимости от этого и их душевное настроение заметно ухудшается, я решил воспользоваться вольными казаками и разослать грамоту в Звенигородский и Бердичевский уезды. В ней я объявил добровольный призыв казаков.
Они меня интересовали как помощь, а кроме того, я очень хотел в действительности видеть, что они из себя представляют как элемент боевой и что за политическая у них фигура.
Действительно, через несколько дней они откликнулись на мой призыв, и несколько сотен явилось из Звенигородки в Винницу, куда я их направил для прикомандирования к 610-му полку. Как элемент боевой они оказались хорошими, но во главе, кажется, Смелянской сотни находилась темнейшей воды личность, некто Водяной, чрезвычайно энергичный, но безусловно нечестный человек. Вообще, я убедился, что из казачества только тогда, может, что-нибудь выйдет, когда во главе будет не выборное, а поставленное мною начальство. В этом направлении я и повел дело. Только в Виннице я знал о той колоссальной агитации, которую старались вести большевики 2-го Гвардейского корпуса среди моих частей. Я послал тогда телеграммы в Киев и во все украинские национальные общества, просил их прислать мне людей, которые могли бы вести контрагитацию, но Киев остался глух к моим просьбам. Тогда я решил лично съездить в Киев.
По приезде, еще на станции, я узнал, что Петлюра ушел, вместо него военным министром стал Порш, о котором я тогда еще понятия не имел. Главнокомандующим всеми силами на Украине был Капкан, последнее меня взорвало. Я уже знал, что предназначается главнокомандующий, находил это необходимым для объединения всех наших действий и слышал, что на эту должность предназначается генерал […], талантливый инспектор артиллерии 6-го корпуса, боевой генерал, известный своими работами по массировании артиллерии. Я с ним встречался на войне. Он мне нравился, и хотя он был моложе меня и чином и по командовании крупными частями, я с его назначением вполне примирился. Но Капкан, какой-то преподозрительпый авантюрист, с очень нелестной репутацией насчет денежных вопросов за время его службы в Ораниенбаумской офицерской школе, – с этим назначением я согласиться не мог.
Приехав в Киев, я также постарался собрать сведения, кто такой Порш. Оказывается, что это по профессии присяжный поверенный, исключенный за всякие неблаговидные проделки из сословия адвокатов, вместе с тем имевший, по слухам, какие-то отношения с немцами. Умный, большой нахал. Я поехал к нему и заявил, что, если мне не дадут все по списку, который я тут же представил, для поддержания корпуса в порядке, я прошу меня освободить от командования корпусом. Порш имел чрезвычайно надменный вид, видимо, ничего в нашем деле не понимал и ни на одно мое законное требование не дал мне положительного ответа, хотя для меня было ясно, что при желании возможно было это сделать.
Я понял, что тут играла роль моя личность и боязнь того возрастающего значения, которое я приобрел в украинских частях. Сообразив это, я вышел в другую комнату и тут же написал рапорт о моем отчислении от командования корпусом с предписанием временно вступить в командование начальнику 104-й дивизии генералу Гандзюку, и ушел. В тот же вечер я поехал обратно в Белую Церковь, куда и прибыл на следующий день, было это, кажется, 26 декабря.
В Киеве тогда же я познакомился с неким доктором Луценко. Полтавец выставлял мне его как одного из крупных организаторов казачества на юге Украины, в Одессе. В первое время он действительно что-то сделал. Так как людей у меня совершенно не было, я хотел поближе его узнать и пригласить его в Белую Церковь, где, кстати, в тот же день в здании белоцерковской гимназии я открывал сьезд представителей от различных сотен.
Луценко показался мне идеалистом, желавшим в наше время возродить полностью старое казачество и всю Украину перестроить на казачий лад. Он был каким-то фанатиком, ненавидевшим все русское, хотя это не помешало ему дослужиться в России, будучи военным [врачом], до чина надворного советника. В денежном отношении честный, но недалекий, чрезвычайно честолюбивый, хотевший во чтобы то ни стало играть первую скрипку. Судьба потом надолго свела его со мною, и я убедился, что не ошибся в своей первоначальной оценке.
Я пошел на сьезд. То, что мне нужно было и что удалось до тех пор создать, оказались две совершенно различные вещи. Я хотел создать оплот государственного порядка из казаков, а, несмотря на слышавшиеся осуждения большевиков, при докладах с места видел, что действия некоторых сотен мало отличались от тактики большевиков в смысле захвата чужого имущества. Была какая-то наивность во всех этих докладах. Люди думали, что делают политическое дело. Докладывали, например, что захватили на каком-то конном заводе для своей сотни всех чистокровных жеребцов, в другом месте захватили для сотни помещение какого-то завода, так что завод не мог работать. Ясно было, что начальники никуда не годились, да стоило только посмотреть на их лица, чтобы сразу понять, что люди эти совершенно не подходили для той работы, за которую они взялись. И Луценко в разговоре со мной потом согласился, что такой способ выборного начальства не даст нам здорового и полезного казачества.
На съезде Луценко тоже выступил, ни к селу ни к городу, с предложением дебатировать вопрос самостийности Украины. Сьезд в тот же день закончил свои заседания, и я решил, сдавши корпус, ехать в Киев и там окончательно выяснить, будет ли Казачья Рада признана Центральною Радою и тогда уже официально действовать, создавши целую стройную организацию, но в случае непризнания ее я решил попробовать действовать за свой страх, но радикально изменив всю систему назначения начальников, и для этого я хотел в Киеве набрать подходящих офицеров-украинцев и организовать инструкторскую школу, а затем уже вышедших из этой инструкторской школы распределить по сотням. Они же и являлись бы нашими агитаторами.
Декабря 29-го я сдал корпус Гандзюку. Сафонов остался начальником штаба. Я предчувствовал, что из комбинации этих двух лиц ничего путного не выйдет. Оба прекрасные люди, Гандзюк – настоящий герой, но оба это были начальники, привыкшие исполнять, но выкручиваться из сложных положений они не умели. Оба этих честных генерала, судя по всем отрывочным сведениям, которые я имел, погибли на своем посту, растерявшись перед кучей большевиков.
Того же дня, 29-го, штаб корпуса устроил мне прощальный ужин. Очень сердечным было мое прощание с людьми, с которыми пришлось много пережить, большинство из них были прекрасные люди. В тот же вечер я с Полтавцем уехал в Киев, где остановился в той же гостинице «Универсал».
В Киеве работа кипела. Поняв, что с министерством дела не сладишь, так как оно, не желая нас признавать, создало особый казачий отдел, во главе которого оно поставило некоего прапорщика Певного, старавшегося всячески дискредитировать нашу организацию и раздававшего оружие всевозможному сброду, который потом действовал якобы под нашим флагом, несмотря на то, что я предлагал вести точный учет казаков и ввести для приема особый порядок поручительства. Кроме того, я считал необходимым назначить начальником казачьего отдела Василия Васильевича Кочубея, человека вполне определенных взглядов в смысле необходимости вводить порядок, а не анархию.
Поняв такое отношение министерства, я решил действовать самолично. Для этого прежде всего устроил нечто вроде вербовочного бюро офицеров. В этом деле мне много помогал полковник Каракуцца, георгиевский кавалер, украинец. Начальником инструкторской школы я назначил штабс-капитана Секрета, тоже украинца. Всем этим людям я точно растолковал их дело. Наш первый набор офицеров немедленно начался.
Затем мне пришлось обратить особенное внимание на организацию казачества в Полтавщине. Там эта организация появилась уже сравнительно давно. В Полтавщине, главным образом, действовали Сахно-Устимович и Милорадовичи. Александр Сахно-Устимович примкнул к нашей Казачьей Раде и собирался действовать совместно с нами.
Киевский полк, т. е. набравшийся в Киевском уезде, был сравнительно многочисленный. Во главе его стоял некий Павлюк, галичанин. Этот Павлюк был самостийником, но все же не фанатического толка. Он мне сначала понравился, казался энергичным человеком, много говорил о своих подвигах в борьбе с большевизмом. Полк у него, по беглому впечатлению, производил вид части, которая может пригодиться. Только не хватало обмундирования и снаряжения.
Этот же Павлюк позвал раз меня на заседание самостийников. Я пошел. Происходило оно на квартире одного из Макаренков. Был там и его чахоточпый брат-солдат, который в Меджибужье приезжал ко мне, несколько украинских старшин-офицеров из частей Капкана, генерал Греков, Павлюк, Полтавец, я и еще Остапенко, кажется, присяжный поверенный. Эти самостийники мне несколько правились тем, что их социальная программа была правее остальных партий, кроме того, они были сторонниками безусловного порядка в армии. Они почему-то считали, что казачество должно идти с ними, и с этой целью я, вероятно, и был приглашен. Ничего на этом заседании особенно интересного не было, главным образом, они обсуждали вопрос о необходимости добиться смены Порша, но выдвигали они, по-моему, совершенно неподходящего кандидата, некого капитана Болбочана, который тут же присутствовал. Я только раз был у них. Они мне показались неинтересными болтунами, фанатиками, совершенно не считающимися с реальными условиями. Вероятно, и я им особенно не понравился.
В первых числах января 1918 года произошло мое знакомство с французами. Еще на фронте, когда я командовал корпусом, у меня были французские летчики, и я был знаком с некоторыми из них. Затем, позже, в Меджибужье, ко мне приезжал часто французский офицер погостить, а я, пользуясь тем, что в Проскурове, недалеко от нас, стояли французские ангары, посылал туда школу прапорщиков осматривать их. Порядок, который они там наблюдали, благотворно действовал на молодых офицеров. Кроме этого, мне было известно, что французская миссия более или менее интересовалась мною, считая меня хорошим генералом. Помню, они хотели непременно иметь копии с моих личных записок, представленных мной в военное министерство по поводу реорганизации армии. Знаю, что Василий Васильевич Кочубей, который имел способность всех знать, ходил к ним, и они заставили дать перевод с этих докладных записок, с моего, конечно, разрешения. Теперь же я сблизился с французской миссией и ее главой, генералом Табуи, вот по какой причине: в это время уже чувствовался разлад в Центральной Раде; соц. – демократы проваливались, брали верх соц. – революционеры, анархия на местах все более увеличивалась, растерянность перед большевиками была полная, но главное, ходили неопределенные слухи о заключении сепаратного мира на всевозможных невыгодных условиях, причем называли много лиц из Рады, в том числе и Порша, принимающих большое участие в этом деле.
Для противодействия большевикам были войска не только украинские, но польские и чехословацкие, но не было никакого объединения в действиях, а главное, во главе украинских войск стоял Капкан, который совершенно не мог справиться с этой задачей. Я был убежден, что, если не примут решительных мер, Киев будет занят большевиками. Я уже послал оружие на свой собственный риск некоторым организациям казаков, например Милорадовичу, в Полтавской губернии и др., но это была капля в море из того, что нужно было сделать. Мне и казалось, что если войти в соглашение с генералом Табуи, который, кстати, более или менее распоряжался польским корпусом и чехословаками, так как последние были от него в денежной зависимости, и если примкнуть сюда некоторые из украинских частей, которые хотели идти ко мне, можно было бы, не разгоняя пока Рады, так как внутри ее было полное несогласие и она сама стремилась, под страхом большевистской опасности, признать любую власть, лишь бы она была украинской, объявить нечто вроде диктатуры, а уже потом видно будет, что делать. Когда я решился действовать, тем же Василием Васильевичем Кочубеем было устроено мне свидание с генералом Табуи и комендантом Уадпсих. Сначала я отправился к ним, где-то около Левашевской у них была канцелярия, потом дня через два я был приглашен ими обедать в «Континенталь». Табуи и Уадпсих внимательно меня выслушали, кое-что записали, соглашались со мной, но как-то не шли навстречу, т. е. все время оставались в области общих разговоров, а я хотел перейти сразу к делу. Время не ждало, и необходимо было войти в соглашение с поляками и чехословаками, что далеко не было так легко. В результате я думал, что из этого ничего не выйдет, и в течение нескольких дней больше уж об этом деле не вспоминал. Свидания эти происходили 2–3 января. В это время ко мне приходила масса всякого народа: офицеры, помещики, общественные деятели, просящие защитить их. Петлюра тогда тоже ходил ко мне, ему все хотелось организовать особый отряд из казаков для выдвижения в сторону Полтавы, что ему более или менее удалось, так как через несколько дней он был назначен кошевым атаманом Полтавского коша и с остатками этого коша принимал, не без успеха, участие в делах у Арсенала в памятные январские дни 1918 года. Казаков в то время я ему положительно дать не мог, не из-за нежелания, а просто потому, что в Киеве, кроме Павлюка, других казаков не было. Он на меня, как мне передавали, за этот отказ обиделся. Кроме этих лиц ко мне заходили представители различных организаций. Тогда в Киеве играл роль полк, набранный из рабочих киевских фабрик, который был антибольшевистским и украинским, заправлял им некий Ковенко, человек энергичный. Ковенко в начале гетманства ко мне часто приходил и хотел всегда, по его словам, вести усиленную борьбу с большевиками. Ковенко заведывал Арсеналом, где было за время всех киевских восстаний гнездо большевизма, но одновременно с этим, по словам начальствующих лиц, он сам готовил восстание против меня. Так ли это или нет, я не знаю. В то время Ковенко хотел соединиться с нами, того же хотел также и глава Елизаветградской казачьей рабочей организации, очень многочисленной. Он тоже приезжал ко мне, и у нас было несколько заседаний, но по мере выяснения вопроса я заметил, что наши точки зрения по всем пунктам различны, поэтому я мягко отклонил. Приходила масса деятелей старого режима узнать, в чем дело, и просить места, но скоро уходили, когда я им указывал, что единственное место, которое я могу предложить, это организовать из хлеборобов надежные отряды и с ними идти бить большевиков. Являлись также и генералы. Среди них особенно жалел я бывшего главнокомандующего Западного фронта, Балуева.
Приходили коннозаводчики просить дать им охрану. Я помогал чем мог, но у меня только начиналось дело, предстояла большая работа прежде, нежели я с уверенностью мог бы сказать, что те люди, которых я пошлю, действительно принесут пользу. Тогда я еще больше верил в людей, потом пришлось убедиться на фактах, насколько революция приняла у нас уродливый характер, главным образом тем, что подействовала растлевающе на массы в нравственном смысле, и это отразилось не только на лицах низшего сословия, но и на интеллигенции и высших классах. Тогда же мне князь Виктор Сергеевич Кочубей прислал со своею рекомендательною карточкою некоего Конюшенко-Сагайдачного. Он сообщил мне, что он украинский помещик Харьковской губернии, организовал казаков в Харьковщине, был где-то украинским комиссаром, но одновременно с этим принадлежал, я это потом узнал, к каким-то правым организациям. Также у меня появился его друг, Гижицкий, который потом вместе с Конюшенко сыграл такую большую роль в перевороте 29 апреля. В то время они просили лишь оружие для тех частей, которые они якобы организовали, и казались мне малоинтересными и бледными типами. Явился также Сергей Константинович Моркотун. Его осведомленность меня поразила. Он занимал место начальника железнодорожной милиции и заседал в Главном управлении Юго-Западных железных дорог, был великолепно ориентирован во всех вопросах, волновавших в то время не только Киев, но и всю Украину.
Моркотун – украинец, но чрезвычайно умеренных взглядов, образовал общество Молодой Украины из интеллигентных молодых людей, прекрасно знал французскую миссию, постоянно у них бывал и, видно, пользовался их доверием. При всем этом лично был состоятельным человеком, обладал домом с громадным садом на Большой Владимирской, что даже для меня представляло некоторое значение, так как я считал, что состоятельные люди все же несколько гарантированы от желания незаконно присвоить себе деньги, которые им даны для определенного общественного дела.
Моркотун много путешествовал и в этом отношении отличался от всей той малокультурной среды украинцев, в которой мне приходилось вращаться. Особенно меня к нему располагало то, что его покойный отец был другом моего опекуна и дяди, генерала графа Александра Васильевича Олсуфьева, которого я очень уважал. Моркотун ко мне в эти дни приходил часто. Я ему рассказал про свой план совместной работы с французами, поляками, чехословаками. Он ничего мне не ответил, но через день сообщил, что французы очень просили меня зайти к ним, где будут и представители польского корпуса. Свидание было на конспиративной квартире, так как украинские власти Центральной Рады следили за французами и за мною. Так, например, свидание после обеда с генералом Табуи, как мне передавали, было известно всем в Генеральном Секретариате. Очевидно, что в «Континентале» лакеи состояли на службе у тогдашней милиции. Уадпсих, правая рука генерала Табуи, принял меня очень любезно. Тон был уже другой, в духе решимости что-нибудь предпринять, но тут оказалось, что поляки не так уж в руках французов, как я полагал. Дело в том, что я требовал от них, числил корпус их, находящийся между Минском и Гомелем, спустился первоначально в район Ворожбы, Конотопа, Бахмача, они же стремились на правый берег Днепра, что меня совершенно не устраивало, так как, во-первых, большевикам с востока все доступы оставались открытыми, во-вторых, появление польского корпуса на Правобережной Украине произвело бы скверное впечатление на все партии и меня обвинили бы в поддержке специально польских помещиков. Частным образом, по мере возможности, я готов был назначить несколько отдельных небольших охран, но вводить туда целый корпус я считал в то неопределенное время опасным с политической точки зрения. Кроме истории с польским корпусом, дело обстояло неладно и с чехословаками. Почему – не знаю, но обещанные представители не явились. На этом заседании, таким образом, ничего существенного с французами выработано не было. В это время, я должен сказать (это было между 15 и 17 января), новости приходили одна другой хуже: Капкан отступал с востока по всей линии под натиском большевиков. Ластовченко, командир Богдановского полка, был убит, Миргород занят противником, в Киеве постреливали и велась отчаянная агитация в пользу большевиков, полки тогдашнего гарнизона драться не хотели. Крестьянские беспорядки начались повсеместно.
В Центральной Раде страшнейшие раздоры. Министерство Винниченко пало. Появилось министерство Голубовича. В это самое время была объявлена самостийность Украины.
Это очень не поправилось французам, помню, они мне тогда говорили, что никогда Самостийная Украина признана Антантой не будет. Должен откровенно сказать, что нерешительность французов в вопросе поляков и чехословаков в то время мне была несколько на руку, потому что я понял, что за такой короткий срок с такими войсками без соответственной пропаганды рассчет на успех был минимальный. К тому же большевики начали агитировать в полку Павлюка, и последний в то время, когда я хотел ему приказать действовать, начал мне доказывать, что нужно то и другое, а потом через некоторое время сообщил, что у него в полку неладно, хотя на приведение полка в порядок я ему дал, кажется, около 70–80 тыс. рублей. Вот тоже человек, на точность заявлений которого рассчитывать нельзя. Инструкторская школа у меня была готова, и я группами высылал офицеров в Белую Церковь, но оттуда приходили недобрые вести. Для того чтобы наладить там порядок, я выслал туда Полтавца, причем, так как там вопили, что в Казачьей Раде нет денег, я переслал ему 100 тыс. рублей. Я получил эти деньги от Резниченко и Капкана. Однажды Капкан с Резниченко явились ко мне, неся какой-то большой пакет.
– Вот мы пришли к вам, пан генерал, чтобы Украину рятувать, а то усе загине!
В чем же дело? Оказывается, что они были у тогдашнего министра продовольствия Ковалевского, тот им с места отвалил 200 000 рублей. Они на эти деньги решили набрать людей для борьбы с большевиками и приехали просить помочь им людьми. Я согласился, но предупредил, что ставлю лишь условием, чтобы к этим деньгам я касательства не имел. Пусть ту часть, которую они признают нужной, они передадут д-ру Луценко, который при этом находился. Он свезет деньги в Белую Церковь, а с остальными деньгами пусть распоряжаются как хотят. Кажется, 100 000 рублей взял Луценко и передал в Белой Церкви Полтавцу, 100 000 рублей взял себе Винниченко.
В Киеве становилось все хуже и хуже. Производились какие-то бессмысленные обыски украинскими властями, причем, как водится при этих обысках, исчезали ценные вещи обыскиваемых. По улицам стреляли все больше и больше, по ночам гремели почему-то пушки. Я хотел выехать в Белую Церковь, видя, что здесь все равно ничего не поделаешь, но поезда с 19-го перестали ходить.
Все украинские части поспешно отступали на Киев, некоторые из этих полков выражали, еще до прихода большевиков, сочувствие этим господам. В правительстве, кажется, заседали беспрерывно, но оно никакого значения не имело. Что делал в это время Капкан – я не знаю. В Киеве командующим войсками был в то время знаменитый впоследствии своим безобразным восстанием Шинкарь. Тогда он мне казался из всех деятелей того времени одним из наиболее порядочных и толковых. С ним можно было иметь дело. Начальником штаба у него был генерал Греков, человек беспринципный и с большим желанием играть выдающуюся роль, обладающий недостаточными волевыми качествами. Почему этот Греков, курский помещик, кажется, и великоросс, объявил себя крайним самостийником, непонятно! Этот же Греков играл за время моего гетманства очень двойственную роль: во-первых, сразу не примкнул ко мне, а через несколько дней явился. Ясно, я его на службу не назначил, хотя им со всех сторон подсылались друзья для того, чтобы он мог получить назначение. Когда он увидел, что украинцы не имеют успеха, он через великорусские круги старался попасть ко мне. Помню, как я был удивлен, когда герцог Георгий Лейхтенбергский стал хлопотать за него.
– Да чего ты-то о нем хлопочешь, ведь он же ярый самостийник?
– Да разве это так? Он меня уверял, что он чистейшей воды великоросс!
– Это не так, ты разберись, а потом хлопочи о нем.
Через несколько дней он приходит и говорит:
– Ради бога, не назначай Грекова, он мне все наврал. Вообще, Греков – человек очень растяжимых понятий о порядочности.
Когда образовалось украинское министерство, я попробовал назначить его начальником главного штаба. Он уверял меня, что разделяет мою точку зрения на Украину, что он честный человек и т. д., что не помешало этому честному человеку, когда началось восстание, перейти на сторону Петлюры и занять там пост главнокомандующего. Говорю откровенно, я нисколько не озлобился на солдатские массы, которые пошли против меня, ни на полуинтеллигентных офицеров, которые последовали за Петлюрой, ни на самого Петлюру. Первым обещали золотые горы, для вторых общая политическая обстановка была совершенно непонятна, да и верно, что положение было таково, что и разобраться было нелегко. Но когда генерал изменяет своему слову, свободно данному, для меня это непостижимо.
Был у нас холмский староста, Скоропись-Йолтуховский, убежденнейший самостийник. Когда в силу сложившихся условий необходимо было перейти на федерацию с Россией, которую я объявил в своей грамоте от 14 декабря, то на следующий день министр внутренних дел получил телеграмму, в которой Йолтуховский его уведомлял, что, стремясь к самостийности Украины, он не может продолжать свою службу и просит найти ему заместителя, до приезда которого он останется на своем посту. Я считаю, что Йолтуховский поступил честно, а Грекова, изменившего мне, после усиленных клятв, что разделяет мои убеждения, я презираю. Этот человек никогда не может сделать большого дела.
Возвращаюсь к личности Шинкаря. Помню, что он произвел на меня впечатление человека далеко не левых убеждений, он был националист и считал, что ради достижения Украины можно пожертвовать хотя бы на время своими левыми убеждениями, и шел вразрез с своими друзьями, фанатиками и левыми доктринерами. Я с ним виделся несколько раз. Молодой, благовоспитанный, энергичный, он производил хорошее впечатление, но, конечно, не годился для места главнокомандующего войсками, что и доказал безобразной обороной Киева, благодаря полнейшему отсутствию у него военного образования.
С 19 января утром на улицах Киева начали появляться баррикады. Украинцы громили Арсенал, где заседали большевики, последние стреляли по городу. Стрельба, особенно к вечеру, была очень сильная. Ввиду того что в «Универсале» могло быть неспокойно, я переехал к Моркотуну и ходил лишь днем в «Универсал», который все больше пустел.
20 числа января я решил во что бы то ни стало добраться до Белой Церкви. Тогда же ко мне чуть ли не пешком пришел один очень порядочный галичанин, некий архитектор Мартынович (настоящее его имя было Строкой), с которым мне пришлось потом перенести немало невзгод за время большевистского нашествия. Мартынович заявил мне, что Александрия сожжена. Я решил в тот же день ехать туда. У меня был шофер, но автомобиля не было. У Шинкаря, по должности, был автомобиль, а шофера не было. Я узнал, что он хочет ехать в Звенигородку и там образовать части для противодействия наступлению большевиков. Я послал ему сказать, что я дам ему шофера, если он меня свезет в Белую Церковь.
В результате он немедленно укатил, убедив шофера, что все изменилось и что меня ждать не нужно. Хотя это маленький штрих, но я понял, что этот человек не из особенно добросовестных. Ехать верхом лошадей не было. 21-го вечером я собрал тех нескольких офицеров, которые были при мне, сказав им, что они свободны, пусть обо мне не думают и сами спасаются. Я ушел. Безусловно, мне пора было уйти. Оказывается, вскоре после моего ухода большевики обыскали всю гостиницу, разыскивая меня, причем моя голова была оценена. Я ушел с Мартыновичем.
Город производил отвратительное впечатление. Полнейшая темнота, стрельба во всех направлениях. Трудно было ориентироваться, где свои и где большевики. Мы пробирались перебежками, от укрытия до укрытия. Через Прорезную и Большую Владимирскую перешли на Львовскую, оттуда дошли до церкви Св. Федора. Невдалеке от нее Мартынович знал казарму, где жили пленные галичане. Мы решили там переночевать. Галичане очень заботливо ко мне отнеслись: предоставили кровать, напоили чаем и всю ночь стерегли.
На рассвете ко мне явился один из них и заявил, что он ночью ходил на разведку и выяснилось, что большевики наступают со стороны Житомирского шоссе на Киев, что все огороды и предместья города заняты ими, и галичане решительно советовали мне уходить, а то будет поздно. Я оделся и вышел.
Было темно. Я стал прислушиваться. В нескольких направлениях слышна была стрельба, где-то вдалеке одиночные выстрелы. Улица же, по которой я шел, была совершенно пуста. Я пошел вдоль нее, стараясь выбраться на огороды. Предварительно разведав, я знал, что за огородами идут рытвины, где можно было бы укрыться. Пройдя приблизительно около версты, я наконец дошел до огородов. К тому времени стрельба значительно усилилась. Появились небольшие цепи украинцев. Когда я обращался к ним с вопросом, дабы мне как-нибудь ориентироваться, я получал от них ответы, которые совершенно не помогали моему делу. Тогда я решил идти прямо, будь что будет. Через полчаса я уже был вне ближайшей опасности, выстрелы противника слышались позади. Дорога оказалась незанятой. Редкие крестьяне, попадавшиеся по пути, указывали мне места, занятые большевиками; я эти места обходил, таким образом я добрался до Жулян. Там уже пошел по полотну железной дороги. К вечеру я был уже в Василькове. Расстояние от Василькова до Киева, кажется, 36 верст. Я очень устал. Переночевав у одного еврея, на следующий день на наемной паре кляч к вечеру приехал в Белую Церковь и с места отправился в расположение штаба корпуса. Я только застал там находящиеся под начальством капитана Андерсона остатки штаба корпуса. Сам корпусный командир со штабом был в Василькове.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































