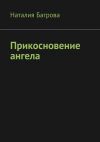Читать книгу "Судьба"
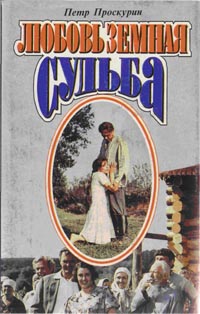
Автор книги: Петр Проскурин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Через полмесяца Захара Дерюгина, настойчиво рвавшегося на волю, выписали из больницы (у него оказалось тяжелое сотрясение мозга); земля уже просохла, и с неделю шел сев яровых; Захар посидел дня два дома, повозился с ребятишками, и хотя временами перед глазами у него все начинало вертеться, подергиваться черным туманом и к горлу поднималось противное сосущее чувство тошноты, он на третий день не выдержал и вышел на работу, никого не предупредив; в конторе его весело и, как ему показалось, по-доброму встретил Мартьянович; бригадиры разошлись по делам. У Мартьяновича, склонившегося над столом, привычно поблескивала лысина, точно он намазал ее постным маслом; заслышав шаги председателя, он поднял голову, встал и вышел из-за стола.
– А-а, вот и очухался! – Всем своим видом Мартьянович выказывал искреннюю радость и оживление. – Ну, с выздоровлением тебя, Захар Тарасович, пора, пора за дело браться.
Захар пожал протянутую руку; ему была приятна радость Мартьяновича, мужика скучного и нелюдимого, попивающего в одиночку, втайне, всегда умевшего найти в другом что-нибудь плохое, скрытное. Мартьянович дал ему подписать несколько бумаг, попутно рассказывая о севе, о нормах на пахоту в бригадах и другие самые главные по его, Мартьяновича, мнению новости на селе; особо он выделил то, как в его, Захара, отсутствие мужики, объединившись из трех бригад, запахали поле, назначенное под тракторную пахоту, и трактор из МТС укатил назад несолоно хлебавши, и по этому случаю приезжали из района разбираться; натуроплаты теперь пришлют меньше, на всякий случай сдержанно порадовался Мартьянович. Захар несколько раз что-то неразборчиво проворчал; слушая, с трудом разбирая муравьиную скоропись Мартьяновича, он сразу почувствовал тяжесть в голове; подписав бумаги, Захар ушел и весь день пробыл в бригадах; вечером завернул на огонек к председателю сельсовета, жившему вместе с женой там же, в пристройке. Отчего-то именно в больнице Захар задумался об Анисимове как об умном, осторожном человеке, припоминая, когда тот впервые появился в Густищах со своей женой, и решил сразу же по возвращении из больницы потолковать с ним, и вот, свернув к дому в легких весенних сумерках, Захар увидел огонек в пристройке к зданию сельсовета; в ответ на его стук знакомый голос весело пригласил войти, и он, толкнув дверь, увидел Анисимова и его жену, они ужинали. На столе друг против друга стояло два прибора, нарезанный хлеб в какой-то стеклянной штуковине; стол был застлан белой скатертью; в той тщательности, с какой был накрыт стол, чувствовался чужой, городской уклад; Елизавета Андреевна, словно не замечая мелькнувшей на лице мужа хмурости, приветливо поднялась навстречу Захару.
– Здравствуйте, Захар Тарасович, – сказала она, стягивая края топкого пухового платка у себя на груди. – Проходите, садитесь, к ужину поспели. Садитесь, я вам сейчас прибор дам.
– Спасибо, Елизавета Андреевна, – сказал Захар, осторожно снимая тяжелую от пыли фуражку и вешая ее возле двери на гвоздь. – Вы вечеряйте, я к Родиону на минутку.
– Ну как же так, Захар, – протестующе сказал Анисимов, крепко пожимая протянутую ему Захаром руку. – Садись, поужинаем, заодно и поговорим.
– Такой редкий кость, у меня как раз пирог с грибами, – сказала Елизавета Андреевна. – Садитесь, Захар Тарасович, отказаться от стола – обида для хозяйки.
Соглашаясь, Захар сделал неловкий жест руками, означавший, что можно и закусить, отчего же, если приглашают, и сел рядом с Анисимовым; за весь день в поле он в бригаде у Юрки Левши перехватил хлеба с салом и луком, но зато много курил, и есть ему не хотелось; Елизавета Андреевна поставила перед ним полную тарелку янтарного красного борща, жирный парок ударил Захару в ноздри; такого борща у них в селе бабы не умели варить, его можно было поесть только в городе, в ресторане.
– Так что, Захар может, по рюмочке за выздоровление? – предложил Анисимов в заметном оживлении. – Все-таки повод. Лиза, подай, пожалуйста, графинчик из шкафчика.
Покосившись на тонконогую красивую рюмку, появившуюся перед ним как-то незаметно, Захар промолчал; он и раньше иногда сидел за этим столом, спорил, обсуждая всякие колхозные дела; бывало, и выпивали понемногу; здесь от хозяина и его жены узнавал немало нового. Питерский рабочий, направленный из окружкома на советскую работу в деревню, Анисимов с женой так и прижились в Густищах, Елизавета Андреевна сначала заправляла в избе-читальне, затем учительствовала в густищинской семилетке, преподавала русский и географию, и ее признавали не только в школе, но и на селе; она любила серьезные книги и детей, не могла спокойно переносить, когда видела, что кто-то не знает того, что необходимо знать, и всегда испытывала острое желание тут же восполнить упущенное; если сам Анисимов мог, распалившись, обозвать «неучем» и «невеждой», она мучительно краснела, обнаруживая незнание самых элементарных вещей о том мире, в котором человек родился и живет. Так, долго и настойчиво она пыталась в свое время втолковать Захару различные гипотезы строения вселенной, подбирала ему литературу для чтения. Сейчас она улыбнулась про себя, когда Захар, чокнувшись с мужем, выпил водку, неумело и осторожно придерживая рюмку, и стал есть, низко наклонившись над тарелкой; она засмотрелась на него и подумала, что он красив какой-то диковатой азиатской красотой, глаза у него были большие, серые, но если он долго на что-то смотрел, они начинали слегка косить, у них был характерный длинный разрез, оставленный славянам веками монгольского владычества, когда степная азиатская кровь пошла гулять, своевольничая, по Руси; при совершенно серых глазах Захар был темно-рус, и характер у него стремительный, неровный, анархическая степная вольница чувствовалась в каждом движении. Елизавета Андреевна, еще молодая, тридцатилетняя женщина, загляни в себя пристрастнее, могла бы понять, что в ее внимании к Захару есть нечто большее, чем просто любопытство к красивому, талантливому, разбуженному зверю (как часто называл Захара Анисимов), поражающему какими-то совершенно ясными детскими чертами и неожиданными глубинами.
Отодвигая тарелку, Анисимов, поймав на себе взгляд Захара, сыто и благодушно улыбнулся.
– Послушай, Захар, – сказал он. – Это, понятно, пустяк, просто запало в память. Давно хотел спросить, почему тебя за глаза кобылятником зовут?
– Дело давнее, – охотно отозвался Захар, скользнув взглядом по остановившейся в дверях и приготовившейся слушать Елизавете Андреевне. – С гражданской мне довелось вернуться верхом. Кобыла была – Машкой звал. Бывало, собакой на свист шла, на шаг не отходила. Привязал я ее у плетня, а мать через порог навстречу ног не перенесет, распухли они у нее бревнами от голодухи. В хате шаром покати. Мышей и тех унесло! Ну вот, походил я, походил, завязал своей Машке глаза, отвел за угол сарая, Хлопнул из винтовки в ухо. Мать недели две ела, я ей сказал, что в город ездил, говядины выменял на золотые часы: меня тогда за одно дело командарм наградил. Поверила, потом узнала, чуть со свету не сжила. Ну вот с тех пор и пошло: кобылятник да кобылятник… Было, как же.
Убрав со стола, Елизавета Андреевна, оставив мужчин курить, молча ушла к себе готовиться к завтрашним занятиям; Анисимов предложил выпить еще, но Захар отказался, у него опять застлало голову, и он решительно отодвинул от себя рюмку.
– Ну ничего, пройдет, – дружески сказал ему Анисимов. – А я еще выпью. Хороший ты малый, Захар, Елизавета Андреевна часто тебя вспоминала, пока ты в больнице был.
– Зря ты, Родион, что меня вспоминать, – нахмурился Захар. – Сиволапый мужик, обо мне не поговоришь. Как по-твоему, кто это меня так ловко причастил? – Захар потер шов, схвативший кожу в двух местах, возле правого уха и ближе к затылку. – Ведь смотри-ка, организованно все получилось. Мы берем Макашина, вдвоем с Юркой Левшой везем в город, кто-то, как по уговору, опережает нас. Определенно знал, что через Слепой Брод едем, значит, кто-то свой был рядом, слышал, паразит классовый.
– В город другая дорога есть? – Анисимов, пристально разглядывая цигарку у себя в руке, откинулся на стуле. – Дураку известно, по другой дороге в половодье в город не попадешь. Здесь следователь с неделю вертелся, так ни с чем и укатил. Вчера из милиции звонили, ни за что не могут зацепиться. А ты что интересуешься, боишься?
– Бояться вроде и не боюсь, – сказал Захар. – Просто зло разбирает, непонятного в этой истории много. Мне это не дает покоя, в своем доме – и на тебе!
– Э-э, брат, – поморщился Анисимов. – Жизнь вообще непонятна. Ты только вот начинаешь задумываться, все еще впереди. Ничего, справимся, контра, она долго свою отрыжку давать будет. Просто взбудоражем всего не объяснишь. Вот как ты весь вскинулся, от пробуждения до зрелости своя дистанция… и классового паразита не так сразу раскусишь.
– Подожди, Родион, – оборвал Захар, – давай серьезно. Давай вспомним, кто был в конторе… Ты сидел, акт писал, я что-то только двоих и помню: счетовода и Поливанова.
– Ну как же! Ты был, я был, Юрка Левша, сторож, как его там… дед Михей, еще человек десять мужиков под окнами бродило… Бригадиры – второй и первой. А баб любопытных сколько мимо шмыгало? Видишь, с размаху не укажешь.
– Все вроде бы свои, – обронил Захар, осторожно стряхивая пепел в плоскую пепельницу.
– Кроме меня, – засмеялся Анисимов, словно поддразнивая Захара. – Вы здесь все свои, грибы из одного куста, но ты же на меня не подумаешь?
– А почему бы и не подумать? – озлился Захар от тона превосходства и скрытой, почти неуловимой издевки; Захар уловил ответный явный интерес в глазах Анисимова.
– Ого, – сказал Анисимов. – Раньше за такие слова просто в морду рукояткой браунинга били, а теперь ведь не ударишь, – в его голосе Захару послышалось сожаление. – Не те времена.
– Ну ладно, братец Родион, не смейся над чужой сестрицей, своя в девицах.
– А я, Захар, и не смеюсь, зря ты. Все мы, разумеется, не белые голуби. В человеке, Захар, много от зверя осталось, полыхают в нем подчас протуберанцы доисторических времен. Поймешь это, к человеку добрее относиться станешь. – Анисимов замолчал, тщательно свертывая новую козью ножку.
– Валяй дальше, Родион, просвещай темноту, что же ты замолчал? – опять подзадорил Анисимова Захар.
– Значит, просвещай, говоришь?
– Я же тебе сказал – валяй… Сейчас недошурупили, разберемся, час выйдет. Я тебе, Родион, как на духу скажу, – качнулся к нему Захар ближе. – Мерещится мне, что в этом деле, – Захар коснулся пальцами шва у себя на голове, близко и доверительно глянул Анисимову в глаза, – не обошлось, Родион, без своих. Вот увидишь, – внезапно оборвал он себя, крепко переплетая и стискивая пальцы.
Анисимов задумался, глубоко затянулся из козьей ножки, бумага, обугливаясь по краям, затрещала.
– Да, проморгали Макашина мы с тобой, больше никто. Поосторожнее впредь нужно быть. Никто не виноват, сами недосмотрели, прохлопали. Ты здесь каждого знаешь, сызмальства, лучше меня, вот и раскинь мозгами, кто еще мог затаиться… Конечно, кто-то свой.
– Погоди, Родион…
– Что мне годить, нам и к себе чуть построже надо быть, ты себя поглубже копни, может, думаешь, никто не замечает твои шашни с Поливановым? Ну хорошо, мне ты можешь не объяснять, я все понял, я могу понять и увлечение женщиной и то, что ты в самом деле прав: Поливановы – фамилия на селе работящая и честная. А другие поймут? Не думаю, вон какую паутину вокруг наплели, не разгребешь. Это к тому, чтобы и к себе мы относились с должной требовательностью.
– Я товарищу Брюханову объяснил все как есть, без утайки, – сказал Захар, бледнея и отыскивая взглядом фуражку на стене; невыносимо стало ломить в висках, на глазa набежали слезы.
– Брюханов тоже не последняя инстанция в этом мире, – услышал он ровный голос Анисимова. – Брюханов, разумеется, тебя поймет, вместе воевали. Только на земле не один Брюханов живет, злые языки пострашнее любого Брюханова, вот ведь в чем дело. А ты сам на съезде присутствовал, слышал об усилении классовой борьбы… о ее беспощадности… Там зря никто ничего говорить не станет.
– Добро! – Голос Захара отвердел, стена снова прочно заняла свое место. – Только ты попа с яишницей не путай. Где надо, разберутся. А контру затаившуюся сыщем. Я ее из-под земли достану; мы всяких видали – и крашеных и перекрашенных, а потом их в расход водили, за нами не заржавеет. – Он нашарил на стене фуражку, сдернул ее, и рот у него с правой стороны передернуло тиком.
– Смотри-ка, – сочувственно сказал Анисимов, – болезнь-то дает еще себя знать; видать, рано, Захар, тебя из больницы выписали. Смотри, белый как мел стал. Просто я к тому говорю, что во всем необходимо разбираться тщательно, терпеливо, без злобы. А тебя вон как на дыбы дерет силушка.
– Пойду, – сказал Захар, чувствуя все увеличивающуюся тяжесть в голове. – Спасибо за хлеб-соль. – Он скупо усмехнулся. – Спать пора, как-нибудь в другой раз договорим, Родион. И про терпение мужика кстати… Его зря испытывать тоже не надо, хотя кое-кому и хотелось бы видеть его в ангельском терпении, в расписной рубахе да с гармонью. То, что его в темноте держали, не его вина. Когда надо, он и без всяких наук экономии жег. Про вилы с топором не забывай, Родион, бывало, в ход шли, только гуд по земле. Так что ты меня моей силой не кори, coрваться могу, похмелье нехорошее будет.
Он вышел, плотно, без стука закрыв за собой дверь; Анисимов хотел что-то сказать, не успел; оглянувшись, увидел перед собой жену и по ее взгляду понял, что она слышала весь случившийся разговор; он презрительно и грубо сморщил лицо, как делал всегда, если был недоволен собою.
– Зачем, Родион? – сказала она быстро и жалко. – Я боюсь – как у тебя не хватает выдержки, становишься на одну доску с теми, кому до тебя еще тянуться.
– Тише, тише, – остановил ее Анисимов. – Сама не очень-то осторожна. – Он приоткрыл дверь, вышел и, шагнув в темноту, остановился, прислушиваясь; где-то скрипела гармоника и горланили частушки, высоко, вперелив выводил припев девичий голос; стараясь успокоиться, Анисимов дождался частого перебора гармоники, вернулся назад, закрыл одну и вторую дверь на засовы.
– Я больше не могу так, – бессильно пожаловалась Елизавета Андреевна. – Все время по острию. Надо же наконец понять, Родион, назад дорога заказана, навсегда, наглухо… боже мой…
Анисимов молча ходил перед нею, и каждый раз, когда он четко, по-военному поворачивался, она видела его неспокойные, точно ищущие что-то, узкие, сильные кисти рук, которые по старой привычке он заложил назад, за спину.
– Пора ложиться спать, – перебил Анисимов, боясь долгих объяснений, время от времени с Елизаветой Андреевной это случалось. – Нужно придерживаться обычаев окружающей среды, раз уж в ней выпало жить и переждать непогоду.
– Не забывай, пожалуйста, Родион, я учительница. Даже в самом отсталом селе знают, что учитель поздно ложится. – Елизавета Андреевна подошла к мужу и, положив руки ему на плечи, пыталась заглянуть в глаза. – Меня угнетает, Родион, твоя бесконечная ложь. Теперь я понимаю, ты просто обманул меня тогда… Клялся, что все конечно, забыто… Ты по-прежнему все ненавидишь, все, что нас окружает, ты даже скрыть этого не можешь порой! Как вот сейчас с Захаром. Продолжаешь надеяться, что-то делаешь… один, в темноте… Какая бессмыслица…
– С ума сошла! – Он осторожно отвел ее руки. – Не вижу, Лиза, надобности так волноваться.
– Бредем вслепую, в каком-то бесконечном тумане, – сказала она, – Мне было понятно, когда все решалось. Я гордилась тобой, твоей смелостью, неуступчивостью. Тогда еще неизвестно было, за кем пойдет Россия, но сейчас, сейчас… Одна партия, одна власть… один народ, Родион. Чего же ты хочешь?
Он быстро глянул на нее, тотчас отвернулся, борясь с собою; он любил ее по-прежнему, если не сильнее; порывисто подошел, взял ее ладони и сильно сжал в своих, в глазах у нее дрожали влажные искры.
– Это я виноват, – сказал он быстро, с трудом заставляя себя улыбаться. – Это я не настоял тогда, в восемнадцатом: упустить такую возможность. Я не знаю, как бы все было сейчас, но неужели два умных человека не приспособились бы, не смогли прижиться?.. Франция, Англия, Турция, боже мой, сколько на земле места, где можно было пересидеть, переждать…
– Молчи, – остановила его она, это была запретная тема, и они старались не касаться ее. – Молчи, не надо. Это только моя вина, Родион, ты тут ни при чем. Я тебя не пустила. Оставаться без родины, без России…
– Ну и как отблагодарила тебя за твое мученичество Россия? – зло сощурился на жену Анисимов.
– Родион, ты знаешь, я благодарности не жду, мне ее не надо, – бессильно опустила плечи Елизавета Андреевна. – Если бы ты мог смириться, быть просто спокойным, я бы ничего больше не просила от бога.
– Смириться и похоронить себя в этом дерьме, навозной куче? Никогда! Ты первая стала бы меня презирать, Лиза. Нет, Лиза, мы еще повоюем, Россия не погибла, нет! Только бы выжить, не сорваться. Ну же, Лиза, улыбнись. Вот так. От тебя многое зависит. Я тебя помню другую. Гордую, недосягаемую. Лиза, помнишь тот концерт Вертинского в шестнадцатом? – спросил Анисимов с посветлевшим взглядом. – Помнишь, я вырвался на десять суток из пекла, с передовой. Ты, тоненькая, в бархатном платье, в кружевной пелеринке, кончила Бестужевские курсы… Боже мой, мне хотелось умереть, так я был счастлив. После вшей и глины окопов, после позора нашего отступления – вдруг ты, с алмазным крестиком, точно ангел. И Вертинский на сцене в костюме Пьеро, такой нереальный, отрешенный, публика, я помню, бесновалась… Так странно было видеть эти выдуманные страсти после фронта и окопов. Как я тебя любил, ревновал даже к Вертинскому, хотя я не раз и замечал в твоих глазах иронию. Ведь я знаю, что ты не принимала его всерьез…
– Молчи, Родион, молчи. – Елизавета Андреевна прижала крупную голову мужа к груди. – Не может быть, что бы все было кончено для нас, ведь мы еще не жили… Бог услышит нас, нужно быть милосердным… Злобой и кровью ничего не переменишь, нет. Уже пытались. Нужно что-то другое… а что, я не знаю, не умею тебя научить.
– Ты только не мешай мне, Лиза, – сказал Анисимов тихо, пересаживаясь на деревянный крашеный диванчик. – Что толку теперь терзаться? В одном ты неправа, нельзя совершенно замуроваться и ждать смерти. Нельзя, Лиза, считать борьбу конченой, надо выжить, Лиза, сейчас единственное – выжить. Партия у них одна, да люди в ней разные. Все одинаково думать не могут. Ха-ха! Страной управляет чернь… а те, кому это больше всего подходило, по рождению, воспитанию, разум и сила нации, вынуждены долбить в Сибири руду, копать золото, спасаться по заграницам, вот так, как мы с тобой, отсиживаться по тараканы им щелям. Эксперимент этот и через сто лет будет выходить России боком. Сейчас главное выжить, выжить, выжить…
– А когда же жить, Родион? – спросила Елизавета Андреевна, и в ее голосе Анисимову послышалась горькая насмешка.
– Это не я переменился, – сказал он с обидой, – это ты, Лиза, сама того не замечая, переменилась неузнаваемо. Как ты смотрела на этого дикаря, Захара Дерюгина… Тебя тянет к нему.
– Ужасно! – засмеялась она невесело. – Даже в ревность способен еще играть, Родион, не ожидала. А не кажется ли тебе, что ты этому Захару Дерюгину просто завидуешь? Он-то живет, а мы с тобой только усами из щели шевелим да вздрагиваем от каждого шороха.
– Отчего же ты тогда со мной, не уходишь? – спросил Анисимов, наливая в рюмку водки. – Я тебе кажусь фальшивым, да, я сам чувствую… Для меня нет другой жизни. За границу бежать поздно, граница на замке, как утверждают господа-товарищи. – Он выпил водку и, не закусывая, стал закуривать. – А ты – другое дело. Я тебя не держу. Иди, двери открыты, ты еще достаточно молода, привлекательна, иди.
– Побойся бога, Родион, как тебе не надоело об одном и том же, – отмахнулась она. – Ты ли это? Опускаешься, пьешь в одиночку. Вот тебе еще одно… подожди, подожди, отвечу, скажу тебе, как думаю. Никакой ты не герой, и я не героиня. Сами себя обманываем – обыкновенные испуганные обыватели, хотели сытой жизни, не получилось, прикарманили чужие имена, забились в щель поглубже и живем. Прикрываемся громкими фразами и рады, что живем, уцелели в этой неразберихе. Нас не тронь, мы никого не тронем, хотя в тебе и погуливают прежние ветерки. Вот как сегодня с Захаром Дерюгиным…
Анисимов рассмеялся, перебивая ее, смех был искренним и веселым.
– Вполне вероятно, многое из твоих слов правда, но неужели ты всерьез думаешь, что я так низко пал? – спросил он, наливая еще водки. – Конечно, выхожу в одиночку на большую дорогу и проламываю черепа… Искренне говорю: не знаю, кто ему башку прошиб. Это же грубо, я еще не опустился так.
Он подошел к ней и сел рядом, держа рюмку на отлете, чтобы водка не плеснулась.
– Лиза, а если нам придется уехать куда-нибудь на новое место? Увидеть Сибирь или Дальний Восток? И самое трудное решается просто. Пожалуй, ты права, мы связаны крепче, чем я думал, проросли друг в друга, и разъединить уже невозможно. Только разрубить с кровью. Я, кажется, начинаю уставать, Лиза…
– Не трогай Захара, – неожиданно четко и враждебно сказала она и увидела перед собой его белое лицо и сжатые кулаки. – Я тебя очень прошу, не трогай Захара, иначе…
– Договаривай…
– Я тебе все сказала, Родион. Твое основное оружие не пуля и не нож из-за угла, твое оружие без улик – растлеваешь незаметно… Паутина слов, и не выберешься, в капкане. Уж я это по себе знаю. Дерюгина не тронь, считай, что это моя прихоть, каприз, как хочешь… Пусть идет своим путем этот большой ребенок. Если ты в этом деле завязнешь, нам конец. Я боюсь, Родион… Один неверный, неосторожный шаг, и все может открыться. Боюсь, смертельно боюсь этого, Родион. Я начала привыкать, кто знает, так ли мы уж правы в своей ненависти. Как видишь, складываются какие-то новые формы, страна живет…
– Ребенок, – зло засмеялся, обрывая жену, Анисимов. – Ребенок, в свою очередь строгающий детей одного за другим, дело, оказывается, в навозе. Прости, тебя интересуют именно эти его способности?
– Пόшло, Родион, ты, как всегда, уходишь от главного, – Елизавета Андреевна встала, зазвенела посудой, убирая ее со стола. – Ты можешь сколько угодно фиглярствовать, если тебе не противно, но я знаю, у каждого свой крест. Я должна быть рядом, должна помочь тебе в чем-то очень главном… Ты этого все равно не поймешь. Но пока я рядом, с тобой не случится плохого. Действительно, уже пора спать, Родион, поздно, мне завтра рано вставать.
Оставшись один, Анисимов свернул козью ножку, прикурил и, погасив лампу, открыл окно. В комнату поползла весенняя тяжелая сырость; стояла тишина, и только одиноко поскрипывал колодезный журавль неподалеку. Что ж, жена, может быть, и права, может, она поставлена провидением защищать его от чего-то плохого, страшного, чему названия нет, подумал Анисимов, и, вспоминая ее последние слова, он сильно потер подбородок. С Захаром Дерюгиным сейчас он выбрал правильную линию – просчет допущен гораздо раньше, во время раскулачивания, в деле с семьей Поливанова; вот когда нужна было схватить его за руку и, не ожидая иного случая, сбить с ног, окончательно забрать в свои руки, а он, в расчете на какие-то далеко идущие планы, промолчал, сделал благопристойный вид, внешне даже встал на защиту Дерюгина. Хотя, впрочем, к этому всегда можно вернуться, здесь арифметика несложная; и очень хорошо, что у Захара с Поливановой дело зашло так далеко, только потому семья Поливанова и оказалась вовлечена в самый центр событий. Хорошо, что он тогда промолчал, взял сторону Захара и, хотя отлично знал, что Захар здесь ни при чем, даже намекнул ему, что тот прав, сохраняя для колхоза несколько работящих мужиков, кроме того, он помнил всегда, что секретарь райкома Брюханов и Захар Дерюгин вместе воевали в гражданскую, следовательно, были друзьями. Это серьезный довод.
Анисимов затушил окурок, прикрыл окно и стал раздеваться; спал он в маленькой комнате, отдельно, и привык к своей узкой солдатской кровати с удобной, туго натянутой сеткой; налив холодной воды в стакан и поставив рядом с изголовьем, он лег. Пожалуй, он переоценил свою выдержку, жить под чужой личиной непросто, ну что ж, впредь он будет осторожнее, нервы начинают сдавать. Да и есть от чего, весь ход дел в послереволюционной России никак не оправдывал его расчетов и ожиданий, все слишком затянулось, каждый раз он надеялся и каждый раз после нового разгрома очередного оппозиционного крыла впадал в отчаяние, приходилось напрягать всю свою волю и ловкость, чтобы как-то заново пристроиться и не быть совершенно уж отброшенным в сторону. Анисимов отпил воды, поправил простыню. Пять лет работы на Путиловском прикрыли его броневым щитом; но если быть совершенно честным, то нужно сказать, что друзья очень кстати и, главное, вовремя тогда направили его на работу в окружном; это был как раз тот момент, когда нужно было затеряться где-то в глубинах, подальше от центра, и это было единственно правильное решение. Из всей своей запутанной одиссеи он вынес ценную истину: поможет выстоять только одно – терпение. Оправдывая себя, он подумал, что иногда необходима и разрядка, вроде сегодняшней, иначе можно вообще утратить к жизни всякий вкус и перестать считать себя личностью. Да и незачем недооценивать такого противника, как Захар Дерюгин; они ведь всерьез преисполнены уважения к собственной значимости, они теперь выдвинуты историей руководить и строить новое общество. Колхозы, пятилетки, осоавиахимы – все равны, как в муравейнике…
Пардон, запнулся он, нащупывая и сжимая пальцами настывшие железные поперечины кровати. Даже в муравейнике функции распределены, сама природа не терпит равенства, эволюция есть не что иное, как естественный отбор. Пусть другие смиряются, он же твердо уверен, что это всего лишь безобразный нарост на пути человечества. Пусть он не доживет до того времени, когда этот эксперимент рухнет, потонет в небывалой крови, в хаосе и ожесточении, но он знает, что так будет, потому что в природе нет и не может быть никакого равенства. Позиция Захара в отношении Поливановых – еще одно подтверждение незыблемости порядка вещей, где о равенстве всех и каждого не может быть и речи. Он не станет трогать сейчас Захара, у того тоже должно хватить инстинкта самосохранения; они проживут рядом долго, их совместный путь только начинается. Еще не все потеряно, при умелом обращении Захар может пригодиться, стать необходимым материалом, а в случае, если взбрыкнет, – под рукой любопытные факты, вполне хватит на добрую комиссию, и не одну, сам он будет всего лишь сторонним свидетелем, сокрушенно разведет руками, что ж, проглядел, с каждым может случиться.
Анисимов поморщился; он уже до того вжился в свою личину, что порой и сам затруднялся определить, где кончается он прежний и начинается новый, теперешний; он даже испытывал порою какое-то горькое наслаждение от этого своего состояния двойственности.