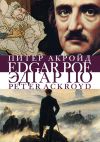Читать книгу "Чосер"
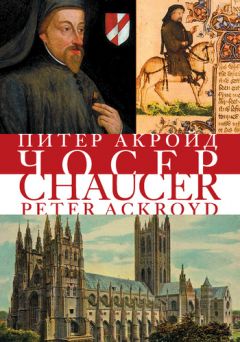
Автор книги: Питер Акройд
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Питер Акройд
Чосер. Биография
Пролог
Существует изображение Джеффри Чосера уже в зрелых летах, выступающего перед собранием придворных: он стоит на огороженном возвышении, украшенном ниспадающей с перил узорчатой тканью. Это не кафедра, но рука Чосера поднята в проповедническом жесте, почему и принято считать, что он запечатлен здесь читающим свои стихи, хотя ни книги, ни какого-либо текста в его руках разглядеть невозможно. Эта картинка, украшавшая фронтиспис рукописной копии “Троила и Хризеиды”, была выполнена в начале XV века, но само портретное изображение Чосера, по-видимому, скопировано с более ранних оригиналов; на картинке у Чосера – клинообразная бородка, усы и пышная каштановая шевелюра.
Здесь уместно заметить, что роста поэт был, по тем временам, среднего – примерно пять футов шесть дюймов – и телосложения дородного, если не тучного, как свидетельствовал он сам. Изображен Чосер не в платье, которое приличествовало бы ученому поэту, а скорее в пышном одеянии придворного. Это следует выделить особо как черту, существенную и для анализа его творчества. С четырнадцати лет и до самой смерти он находился на королевской службе. Фигура Чосера являлась привычным и неотъемлемым атрибутом придворной жизни, так как служил он трем королям и двум принцам. Вот почему орнамент по краю фронтисписа представляет собой переплетение листьев и цветов, что отражает бытовавшую тогда при дворе игру: шутливое разделение придворных на поклоняющихся “листу”, то есть чистой, возвышенной любви, “fine amour”, и тех, кто превыше всего ценит наслаждение, “plaisaunce”, и стремится к “цветку”. В ранних произведениях Чосера мы находим отголоски этой игры.
Слушатели поэта также заслуживают внимательного рассмотрения. Среди них четко выделяется облаченный в золото Ричард II. Примечательно, что представление о Чосере было неразрывно связано с этим монархом. Ричард, правивший с 1377 по 1399 год, являлся едва ли не самым интересным и загадочным персонажем среди всех сидевших на английском троне. В эпоху ослабления феодальной власти он исповедовал культ ее величия и всячески насаждал этот культ, окружая себя пышностью и великолепием. Весь антураж, сопутствующий выступлению поэта на картинке, как и его фигура, подчеркнуто театральны и драматически выразительны, ибо чертами драматизма отмечена была и культура того времени. Цветовое решение фронтисписа также приобретает аллегорический смысл, отражая драматизм исторического момента: желтый, цвет ревности, в противоборстве с синим – цветом верности, противопоставленным зеленому – цвету предательства. Четырнадцатый век получил наименование переходного. Хотя переходность, можно сказать, свойственна и всем прочим временам, отличие в данном случае состоит в том, что Чосера выпестовало столетие, когда перемены буквально витали в воздухе. Отрывочные и неоконченные “Кентерберийские рассказы” уже сами по себе являются свидетельством перемен.
Прочих придворных, собравшихся в укромном уголке парка, также можно распознать с большей или меньшей степенью точности. На картинке узнаваема королева Анна, супруга Ричарда. В толпе его приближенных мы видим и Джона Гонта, первого и самого верного из покровителей Чосера. Надо сказать, что от внимания исследователей в целом ускользнуло то обстоятельство, что кружок поэта составляют главным образом женщины. В них современники видели тогда естественную аудиторию всех выступающих – рассказчиков, стихотворцев и певцов.
В последующие века, как считалось, читательницами романов тоже являлись в основном женщины. Возможно, это способно дать нам ключ к пониманию стилистики ранней и наиболее галантной поэзии Чосера.
Но на картинке мы можем увидеть, что некоторые женщины выступающего вовсе не слушают, на лицах других – за притворным вниманием читаются скука или же замешательство. Попутно это приоткрывает нам и черту творческого воображения, характерную для художников той эпохи, пристальное внимание к мелочам и индивидуальным особенностям изображаемого. Портрет Чосера, как и его искусство способны создать иллюзию объемности той или иной находящейся в пространстве группы, иллюзию жизнеподобия аккуратно переданной детали. Но указанному тяготению к реализму, если простителен будет подобный анахронизм в терминологии, здесь сопутствует нечеткость общего плана. Изображение Чосера, выступающего перед публикой, увенчивает процессия, тянущаяся вдоль стены средневекового замка, и смысл этой сцены не совсем ясен. Есть предположение, что это иллюстрация к “Троилу и Хризеиде”, другие исследователи склоняются к мысли, что процессия состоит из придворных, идущих слушать Чосера, и что возглавляет ее сам поэт.
Джеффри Чосер являлся не только поэтом, но был также и дипломатом и чиновником, курировавшим то королевские стройки, то таможенную службу Лондонского порта. Он побывал и судьей, и членом парламента.
Будучи лондонцем, он находил первых и непосредственных своих слушателей среди богатых и влиятельных лондонских купцов, но при этом, увлекаясь французской и итальянской оэзиеи, делал отличные переводы с этих языков. Известность ему принесли в основном “Кентерберийские рассказы”, однако произведение это было создано Чосером уже под конец его поэтической карьеры, а перед тем он отдал дань и стихотворным пророческим видениям, и басням, и моралите; им была написана и длинная поэма “Троил и Хризеида”, которая может претендовать на звание первого современного романа. Он был плодовит и совершенен, обладал широтой интересов и изобретательностью. Его называют отцом английской поэзии, но странное то было отцовство. Чосер доказывал свою ученость и приверженность науке, ведя при этом активную жизнь успешного дельца. Являясь тихим и скромным человеком, он был привлекаем к суду за долги и обвинен в изнасиловании. Пользуясь славой сочинителя непристойных пародий и фарсов, он предавался мистическим прозрениям и религиозным размышлениям. Но во всех этих контрастах проступают контуры единого четкого образа, который мы и постараемся уловить.
Глава первая
Лондонец
Чосер вырос и обрел свое место в городе, именовавшемся тогда “нашим главным”. Родился он в семье, которая, по выражению Оскара Уайльда, принадлежала к “цвету лондонского купечества”. Ему не пришлось пробиваться в жизни благодаря собственной энергии и таланту. Его положение в обществе было прочным и заранее обеспеченным.
Предки его со стороны отца прибыли в Лондон из Ипсвича с постоянным притоком в столицу жителей Мидленда и Восточной Англии. Водоворот деловой активности, который захватывал Лондон, манил и затягивал в себя людей. Дед Чосера, Роберт Ле Чосер, был торговцем тканями, в конце концов поступившим,
подобно внуку, на службу к королю – связи двора и торговли в то время были уже тесными. Он был известен также как “Роберт Малин”, то есть “хитрый” – качество, унаследованное и знаменитым его отпрыском. Происхождение фамилии Чосер не совсем ясно. Возможно, она производное от слова “chauffecire” – “запечатывать бумаги горячим воском”, как то делают клерки, но более вероятно, что фамилия эта произошла от слова “chaussier” – “сапожник” или же “чулочник”. Впрочем, к семейству Чосер это имеет мало отношения, ибо фамилию они получили от бывшего своего хозяина – Джона Ле Чосера, убитого в драке.
Отец поэта, Джон Чосер, был преуспевающим и влиятельным виноторговцем, также служившим при дворе; он участвовал в неудачной кампании Эдуарда III в Шотландии в 1327 году и стал впоследствии помощником королевского мажордома. В ранней юности он был похищен посланцами своей тетки и насильно увезен в Ипсвич – план, призванный каким-то образом обеспечить ей выгодный брак, но дело окончилось судом над предприимчивой дамой и препровождением ее в тюрьму Маршалси. Этот странный эпизод служит иллюстрацией беззакония и насилия, пронизывающих собой действительность XIV века. Дед Чосера по материнской линии, Джон де Коптон, был убит в 1313 году вблизи своего дома в Олдгейте. Убийство это зафиксировано хрониками; вообще же убийства, похищения и изнасилования были тогда в порядке вещей; позднее, как мы и убедимся, и самого Чосера обвинят в изнасиловании. Агнес де Коптон, мать Чосера, стала ценным приобретением для семьи: она была богатой наследницей, хозяйкой многочисленных строений и земель в Степни и вдобавок являлась племянницей и подопечной королевского казначея.
Таким образом, Джеффри Чосер увидел свет в доме людей богатых и влиятельных. Точная дата его рождения неизвестна, но все доступные источники указывают отрезок времени между 1341 и 1343 годами. Есть свидетельство, что у Чосера была сестра по имени Кэтрин, но никаких метрических записей того времени о рождении в семействе братьев и сестер так и не найдено. Родился Чосер на верхнем этаже родовой усадьбы Чосеров на Темз-стрит, протянувшейся параллельно реке в районе Вайнтри, заселенном, как это явствует из названия, виноторговцами. Дом был просторным, удобным, изящной архитектуры. Как свидетельствуют хроники, земли усадьбы шли от реки на юге до ручья под названием Уолбрук на севере; в ручей скидывался мусор из всех окрестных домов. Каждый имеющий представление о топографии поймет, что при таком большом усадебном доме имелся и значительных размеров сад, тянувшийся от задней его стены до самого Уолбрука. Были там и погреба, куда помещали винные бочонки после разгрузки на верфях, находившихся неподалеку.
В нижнем этаже, над погребами, помещалась отцовская контора с окнами на улицу, а за нею, видимо, зал, где проходили семейные торжества. Наверху располагались кухня, кладовая, уборная и, возможно, чердачные помещения.

Само местоположение дома указывало на солидность и процветание семейства. Рядом обитали другие богатые виноторговцы; некоторые из здешних домов имели даже внутренние дворы, но особой пышности не наблюдалось: в основном здесь работали и торговали. Ряд улиц и переулков вели от Темз-стрит к реке, главным образом к верфи Трех Журавлей, где разгружались вина, прибывавшие из Гаскони. Чуть к западу находился Квинхайт, куда разнообразными судами доставлялись соль и рыба, зерно и пиломатериалы. Чосеру были досконально знакомы эти шумные городские артерии – Симпсон-Лейн, Спиттл-Лейн, Брикелс-Лейн, Брод-Лейн – самая удобная для проезда повозок и телег – и улица Трех Журавлей, в детские годы Чосера называвшаяся улицей Цветной Таверны. В нескольких ярдах оттуда был Стил-Ярд – охраняемая зона, где жили и работали немецкие купцы; возле набережной селились колонией и генуэзские купцы, – существует предположение, что знанием итальянского Чосер обязан общению с ними в ранние его годы. Несомненно, местом его взросления стал город космополитический.
Таким образом, можно легко представить себе Чосера на одной из главнейших из лондонских артерий – Чипсайде, улице, с которой он был связан всю свою жизнь. Он был поэтом скорее рассвета, чем заката, и человеком более средневековым, нежели современным, и пробуждался на рассвете вместе со всем средневековым Чипсайдом. За час до восхода солнца, с ударами колокола на церкви Святого Фомы Эконского на углу Скобяной улицы, открывались главные городские ворота, впуская в еще погруженный во тьму город лоточников и разносчиков, торговцев фруктами с корзинками крыжовника и яблок, поденщиков и подмастерьев, а также слуг, живших за городскими стенами в тесных и вонючих предместьях Лондона и пригороде. Колокольным звоном всех церквей отмечался конец ночного дозора, но к тому времени лондонский рабочий люд по большей части был уже на ногах и успевал помыться и приготовиться к новому дню. Ходил стишок:
В пять вставать, обедать в девять,
В пять за ужин, в девять – спать,
До ста лет беды не знать.
Чипсайд был улицей широкой, но шумной и вечно запруженной народом. По сторонам ее шли ряды однотипных деревянных домов в три этажа, с фронтонами, обращенными на улицу, и верхними этажами, нависающими над дорогой; дома эти были ярких цветов и украшены затейливой резьбой. Строились они на каменном фундаменте, а выше были бревенчатыми. Встречались дома и поменьше – в два этажа, были и совсем крохотные – в одну комнату, разделенную перегородками, – дома бедняков.
Эти, как их называли, “развалюхи” можно было углядеть где-нибудь в переулках, отходивших от главной артерии. И все же Чипсайд славилась своими лавками и торговлей. На одном ее конце, вблизи Старого Приказа и Святой Марии Вулчерчской, находился Скотный рынок, где торговали мясом и живностью. На другом конце Чипсайда, возле улицы Четок и собора Святого Павла, тоже располагался большой крытый рынок, куда торговцы свозили свои короба. Но в основном преобладали мелкие лавки, лавочки и склады товара, встречавшиеся через каждые десять футов. Любая область торговли имела на улице определенное место, так, например, ювелиры располагались между Пятничной и Хлебной; из сумрака их лавок на Чосера глядели выставленные на продажу ложки и чаши, позолоченные серебряные распятия, янтарные или коралловые четки. Пятничная улица была названа по Рыбному рынку, торговавшему на ней по пятницам, а на Хлебной были заведения булочников и съестные лавки, где за пенни можно было купить десяток яиц или зажаренного жаворонка, а за пять пенсов – целую курицу в тесте. Непосредственно за ювелирами между Пятничной и Боу-стрит находились лавки торговцев тканями с их шелками и прочими материями, напротив обосновались галантерейщики – там торговали шляпами, кружевами, футлярами для перьев. Иные лавки специализировались на игрушках, лекарствах, пряностях и всевозможных мелочах. На отходившей от Чипсайда улице Четос торговали книгами и марками, псалтырями, календарями, требниками, молитвенниками и лечебниками. Знак, указывающий на предмет торговли, вывешивался на столбе, помимо этого деревянные стены заведения украшались соответствующими изображениями. Крышами лавок часто служили нависавшие над ними верхний этаж или надстройка, где в одной или двух комнатах жили лавочники с семьями. Если в доме был погребок или подпол, его использовали для хранения товара или же припасов, в числе которых на первом месте находился эль.
Среди одноэтажных хибарок и двухэтажных строений с беленными известкой стенами и соломенной кровлей мелькали пустыри и садики. По улочкам и переулкам, между лавками и жилыми домами, заборами и складами бродили куры и утки, овцы и свиньи. Мостовые были сильно разбиты, всюду высились кучи мусора и навоза, ждущие уборщика или золотаря. В воздухе стоял запах горелых дров и битума, свалки и гниющей требухи.
С восходом солнца открывались главные городские ворота, и от Майл-энда начинали тянуться вереницы подвод с хлебом: пекари везли на лондонские улицы свой драгоценный груз, среди которого лучшим почитали хлеб с изюмом и цукатами и худшим – так называемый “таможенный”. Лошади и экипажи также начинали прокладывать себе путь, протискиваясь по узким улицам между носильщиками, торговцами и водоносами. Город беспрерывно разрастался, и всюду кипела стройка. К концу XIV века Лондон насчитывал, по различным оценкам, от сорока до пятидесяти тысяч жителей, но, какова бы ни была плотность населения в пределах квадратной мили, внутри городских стен стоял непрекращавшийся шум и гвалт и кипела жизнь. Лондонцев можно было уподобить пчелиному рою, вечно занятому своим делом, но если тронуть – весьма опасному. Однако звучавшие на лондонских улицах утренние приветствия были доброжелательными: “Благослови тебя Господь…”, “Спаси тебя Боже”, “Бог в помощь”, “Доброго дня, хорошей погоды”. С этими словами смешивались постепенно росший личный шум и первые крики разносчиков: “Дюжина селедок за пенни!”, “Пирожки горячие!”, “Жирные свиньи и гуси!”, “Говяжьи ребрышки!”, “Пироги на любой вкус!”. На углу какой-нибудь слепец с белым посохом в руке распевал популярную песню “На Джей потратил я напрасно труд и время”, упоминаемую Чосером, или “Любовь моя уехала в далекие края”. Чосер хорошо усвоил язык улицы, густую колоритную смесь простонародной латыни с англо-нормандской фразеологией и местным английским говором. Это проявляется у него как в настойчивом обращении к столь свойственной лондонской речи гиперболичности, так и во вкравшихся в его стихи отдельных словечках и выражениях: “Постой-ка, парень, охолони чуток”, “Рот на замок”, “Чего городишь-то”, “Поберегись-ка, дурень” и так далее. По ночам, в минуты относительной тишины, был явственно слышен шум реки.
Для Лондона XIV века и его культуры символичным представляется приблизительное совпадение количества церквей и трактиров (первых насчитывалось девяносто девять, вторых же – девяносто пять; богаделен и часовен при этом никто не считал, как и повсеместно распространенных пивных). В последующие века набожность лондонцев была признана всей Европой, и нет оснований полагать, что в XVI веке религиозное рвение их было менее пылким. Центром и самым торжественным событием религиозной жизни Лондона являлась месса. В благословенный миг евхаристии, когда хлеб становился Телом Христовым, начинали звонить колокола. Самый ход времени в городе соизмерялся с таинством религиозного обряда и определялся им. В культуре также властвовали обряд и ритуал. Светская иерархия и светские празднества и церемонии строились в подражание церковным. Неудивительно поэтому, что поэзия Чосера полнится религиозной символикой и религиозными образами. “Кентерберийские рассказы” обрамлены в сюжет паломничества, и почти в каждом из них, прямо или косвенно, речь заходит и о “благости Святой Церкви”. В этом собрании позднесредневековых повествований содержатся и рассказы о святых, и тексты весьма благочестивого содержания. Праздники и религиозные процессии на лондонских улицах, как и кричаще яркая одежда горожан, тоже свидетельствуют о тяготении тогдашней лондонской культуры к зрелищности. Культура эта несет следы взаимопроникновения идеализма и реализма, и потому даже самые натуралистические детали у Чосера могут полниться благочестием. В мистериях, которые так часто наблюдал Чосер, библейские легенды перемежались фарсом, в них вклинивались скабрезности; в “Рассказе Мельника” из “Кентерберийских рассказов” доморощенная версия легенды о Ное и ковчеге становится поводом для многочисленных упоминаний всяческих “пуканий”, “писаний” и “голых задниц”. От цивилизации, так грозно теснимой постоянной угрозой смерти и болезни, трудно ожидать неукоснительного соблюдения правил приличия и “хорошего тона”. Описание Лондона XII века у Уильяма Фицстивена дает нам представление об обстановке, в которой начинались рост и развитие города.
Фицстивен пишет о прорезаемых чистыми ручьями лугах, что раскинулись непосредственно за городскими стенами; даже в XVI веке стражники на стенах города и у его ворот могли любоваться картиной необозримых просторов, а о гашении огня в Лондоне работавших на окрестных полях оповещали колокольным звоном. Он упоминает “ровный луг” – место, предназначенное для конных состязаний и лошадиных торгов, которое во времена Чосера стало называться Смитфилдом, там устраивали рынок и ярмарку, а в рощице вязов неподалеку – вешали преступников. Уже тогда Лондон был городом ярких контрастов. Фицстивен пишет о том, как строилось управление городом, о тюрьмах, шерифах и судах. Чосер тоже рос в оковах средневековых установлений, идущих “с незапамятных времен”.
Его поэзия чаще ассоциируется с весной, нежели с осенью, так как и сам он относил себя к свежей, только что народившейся цивилизации, хоть Лондон и считался старше Рима. В заключение своего очерка Фицстивен описывает бытовавшие в городе спортивные развлечения и празднества. Театральные инсценировки евангельских сюжетов и представления из жизни святых он упоминает наряду с петушиными боями, которые устраивались школярами Шровтайда. Он описывает футбольные матчи и скачки, соревнования конькобежцев и стрелков из лука, а также игры с быком и травлю кабана злыми псами. Описание подобных грубых развлечений дает повод Фицстивену порассуждать и о вспышках ярости и жестокости у лондонцев, городские хроники полнятся документальными свидетельствами о бунтах и смертоубийственных драках, с которыми оказался лично знаком и Чосер. Фицстивен замечает также, что “к большим неудобствам жизни в Лондоне можно отнести неумеренное пьянство некоторых глупцов и частые пожары”. Так как подобное сетование мы не раз встречаем и в последующие века, вплоть до нашего времени, мы имеем основание предположить, что город этот сохранил ряд неизменных черт. Прямым доказательством чему служит и поэзия Чосера, где за приметами и деталями четырнадцатого столетия различим вечный лондонский силуэт. Чосера увлекают скопления людей и процессий. Кентерберийские паломники также образуют своего рода процессию, а фигура “истинного и безупречного рыцаря” могла быть списана со святого Георгия на колеснице карнавального шествия, двигавшегося по Корнхиллу и Чипсайду. Чосера занимают также многообразие и контрасты мира, где так причудливо смешиваются “высокое” и “низкое”. Его произведения многоголосы. И голоса эти словно соревнуются друг с другом, как будто он вторит многоголосью лондонской толпы; а живость и театральная выразительность его речи, возможно, порождены его наблюдениями над непрестанной изменчивостью города.
Чосеру дороги каждое зрелище и видимое проявление жизни Лондона и его души, и они служат для него источником наслаждения. Поистине он живописец Лондона.
В детстве Чосер жил возле церкви Святого Мартина в Винтри, и, несомненно, крестили его там на следующий же день после рождения. Рядом находился большой дом из камня и дерева, носивший название “Винтри”. В разное время в нем жили Джон Джизерс и Генри Пикард – оба являвшиеся виноторговцами и оба ставшие лорд-мэрами Лондона. Но здесь же, в непосредственном соседстве, располагались харчевни и кабаки, посещавшиеся как купцами, так и грузчиками с верфей; наибольшее оживление царило там с апреля по июнь, когда сцеживали молодое вино, и в ноябре – когда поступало выдержанное марочное. Один из отрезков Темз-стрит назывался “Поварской ряд”, потому что, согласно лондонскому историографу XVI века Джону Стоу, в то время (как и позднее) каждый зарабатывал на жизнь строго своим ремеслом и никто не мешался в дела другого: “повара готовили мясо и не торговали вином, а кабатчики торговали вином, но не мясом”.
Рос Чосер в атмосфере богатства. Описания тогдашних купеческих домов свидетельствуют о признаках достаточного комфорта – пухлые перины, подушки, вышитые занавеси и гобелены упоминаются в каждом из списков домашнего имущества. Современное представление о средневековом доме сводится к воображаемым голым каменным стенам с вонючей грязью по углам, но на самом деле дома зажиточных горожан в то время были удобными, чистыми и красивыми. В деревянных ларях и шкафах хранилось столовое серебро – непременный знак богатства, стены же украшались росписью и гобеленами. Одежду хозяев отличало не только удобство, но и изящество. Юного Чосера можно представить себе в шерстяных панталонах и длинной, до самых пят, шерстяной тунике, но воссоздать в точности атмосферу и уклад родительского дома поэта теперь, по прошествии стольких лет, мы, конечно, не можем.
В своем творчестве Чосер славит матерей, как нежных провозвестниц и проводниц отцовской воли в обществе, где, по преимуществу, царит патриархат. Матери у него всегда терпеливы и кротки, ласковы и покорны. Однако было бы неразумно судить об обстановке в его родном гнезде, руководствуясь лишь его творчеством. В его поэзии проглядывает и тенденция изображать женщин покинутыми, терпящими предательство, однако нет свидетельств, что такую же участь испытала и Агнес де Коптон. Замечено, что отцы в творчестве Чосера часто отсутствуют, но и из этого делать какие-либо выводы было бы опрометчиво.
Однако отец Чосера сыграл заметную роль в его жизни в один решающий период, когда, будучи помощником королевского мажордома, он в 1347 году был призван выполнить одну из своих служебных обязанностей в Саутгемптоне, куда был послан с семьей для контроля за взиманием винных пошлин. На следующий год после отъезда Чосеров из Лондона в город пришла беда, позднее названная Черной смертью из-за черных нарывов, которые образовывала на теле жертвы бубонная чума. Считается, что эпидемия 1348–1349 годов выкосила тридцать процентов населения Англии. В невероятной скученности и сутолоке Лондона, как мы можем предположить, число жертв было гораздо выше, хоть достоверными цифрами мы и не обладаем. Однако нетрудно предположить, что, возвратившись к себе на Темз-стрит в конце 1349 или же в начале 1350 года, семейство Чосер нашло Лондон в значительной степени опустевшим. О впечатлении, которое это должно было произвести на мальчика, можно только догадываться. Единственное упоминание чумной эпидемии мы находим в рассказе о приставе церковного суда:
Как вор в ночи, кралася Смерть,
Верша губительное дело.
Но это лишь образ в нравоучительном пассаже, где говорится о грехе алчности. Вспомним, что “Декамерон” Боккаччо, возможно, оказавший влияние на сюжетное построение “Кентерберийских рассказов”, был рожден как собрание историй, призванных скрасить тревожное ожидание и унять беспокойство публики перед лицом грозившей им чумы. Высказывалось предположение, что хорошо известная увлеченность Чосера чтением тоже непосредственно связана с его ощущением реальности как мира зыбкого и чреватого опасностями, к книгам же он обращался как к иной, устойчивой, реальности в неустойчивом мире. Разумеется, в предположении этом есть доля истины. Однако было бы натяжкой прямо проецировать чувства и ощущения современного человека на сознание человека средневекового. Людям XIV века, а в особенности лондонцам, угроза смерти или болезней была привычна, к тому же не следует забывать и о том, что для них смерть являлась лишь этапом в вечной драме человеческого существования. Так или иначе, но к семейству Чосеров эпидемия оказалась благосклонной, поскольку в результате они получили в наследство многое из имущества родственников, которым не посчастливилось, оставшись в Лондоне, они стали жертвами эпидемии.
По возвращении в Лондон, надо полагать, для Чосера начались годы серьезного учения, хотя свидетельств, в чем это учение заключалось, мы и не имеем. Учиться сыновья видных горожан в то время начинали в семь лет, поступая в школу – певческую или грамматическую, где зубрили латынь. С тем же успехом Джеффри Чосер мог обучаться дома или даже у священника церкви Святого Мартина в Винтри.
Многие исследователи сходятся во мнении, что послан он был в школу при богадельне Святого Павла, находившейся в нескольких шагах от его дома, чем можно и объяснить знание им латыни и латинских авторов, в частности Овидия и Вергилия. В этой школе его вероятнее всего обучали латыни по грамматике Доната, известного многим поколениям школьников, и знакомили с более современными книгами по риторике и грамматике; с латыни здесь, вероятно, переводили не только на английский, но и на французский – ведь англо-нормандские истоки английского общества к тому времени еще не были изжиты. Однако все эти домыслы и разнообразные предположения основываются на ревностной вере в то, что талант Чосера не мог не быть отшлифован систематическим формальным образованием. Однако проблема заключается в том, что доказательствами вера эта не подкрепляется. При этом один из возможных источников образованности Чосера мы находим ближе к родным пенатам. Примерно в 1330 году в лондонской книжной лавке было составлено рукописное собрание английских текстов, получившее название “Манускрипт Очинлека”; оно включало
в себя более пятидесяти наименований, в том числе семнадцать английских романов, а также сатиры и жизнеописания святых. Собрание это весьма убедительно связывают с семейством Чосер и его становлением. Несомненно, что подобная же антология могла быть известна и юному Чосеру. Как и Шекспир, Чосер питал свой гений, собирая и впитывая произведения других авторов, в этом смысле раннее его знакомство с английскими текстами было весьма знаменательно.