Текст книги "Источник счастья"
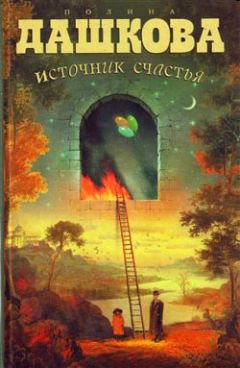
Автор книги: Полина Дашкова
Жанр: Современные детективы, Детективы
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
Глава семнадцатая
Остров Зюльт (Германия), 2006
Небо никогда не отражалось в этой части моря. Вода была такой холодной и тяжелой, что впитывала свет. Если штормило, верхушки волн пенились и казалось, это зеркальный образ мелких быстрых облаков. Ветер норд-вест, вечный хозяин острова, гонял облака, как испуганное овечье стадо посвистом кнута, пенил море, гнул деревья, опрокидывал стаканы со свежими соками на столиках пляжных кафе, рвал из рук газеты.
Никто здесь не купался. Сидели в шезлонгах, дышали йодистым соленым воздухом, кутались в меха и пледы, смотрели на море, слушали вой ветра, шум волн, крики чаек, ели знаменитых местных устриц в прибрежных ресторанах.
Богатые немцы, выбравшие местом отдыха или всего остатка жизни этот северный остров, искали покоя, уединения, чистого морского воздуха. Здесь не строилось никаких фабрик, были только фермы по выращиванию устриц, старые мельницы, маленькие пекарни. Здесь не любили автомобилей. Остров был настолько мал, что по нему ездили на велосипедах и ходили пешком.
Старый господин в полотняном шезлонге на берегу ничем особенным не отличался от своих соседей по ледяному пляжу. Разве что ноги его были укутаны не клетчатым пляжным пледом, а белым пуховым платком, который он купил когда-то за копейки в русском городе Оренбурге. Он, как многие на этом пляже, говорил вслух, как будто с самим собой. Но, в отличие от остальных отдыхающих, не по мобильному, через наушники и микрофон. Не было при нем телефона. Речь его звучала странно. Перекрикивая чаек, волны, ветер, старый господин громко, выразительно читал стихи по-русски:
Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком.
– О, майн гот, опять, – проворчала крепкая высокая немка лет пятидесяти, – ну и ехали бы в свою Россию. Теперь что мешает?
Она подошла к старому господину сзади и бесцеремонно натянула ему на голову детский лыжный шлем с помпонами. Господин сердито посмотрел на нее и спросил по-немецки:
– Который час?
– Половина пятого. Вам пора обедать.
– Спасибо, Герда. Я поем здесь, на берегу, в ресторане. Иди, скоро начнется твой любимый сериал.
– Я поняла. Это очень любезно с вашей стороны, Микки. Значит, телятину, брокколи и горячий яблочный штрудель со сливками я должна отдать соседским псам?
– О чем ты?
– О том, что вы просили меня сегодня с утра для вас приготовить. Я старалась, томила телятину на пару, пекла штрудель, взбивала сливки, и все для того, чтобы вы ели туристическую отраву за двести евро? Если у вас так много денег, лучше отдайте их бедным. Если вам плевать на ваш чертов старый желудок, лучше убирайтесь в свою Россию и пейте там щи с водкой.
– Ладно, не обижайся, – сказал старик, – пойдем. Только все ты путаешь, Герда. У соседей собак нет, ближайший пес живет у Кригеров, через пять домов от нас. Это папильон, размером меньше твоей ладони. Он вряд ли осилит и оценит твой замечательный обед.
– Уж во всяком случае он отнесется к нему уважительней, чем вы.
– Не думаю. Послушай, разве я не объяснял тебе сто раз, что щи не пьют, а едят? Это овощной суп. Ты так ненавидишь его потому, что не можешь правильно сварить.
– Я?! – Она остановилась и встала перед ним, уперев кулаки в бока. – Я не могу сварить эту вашу капустную воду с говядиной? Да я просто уволюсь завтра же! С какой стати я должна сносить ваши бесконечные оскорбления? И почему вы опять надели кроссовки? Сегодня минус десять градусов!
– Прости, Гердочка, не сердись, – старик взял ее под руку, – ты лучшая кулинарка на Шлезвиг-Гольштейнской равнине, а возможно, и во всей Германии. Не увольняйся, я пропаду без тебя.
С маленькой главной улицы, состоящей из дорогих магазинов, ресторанов, отелей, они свернули на соседнюю. Там начинались частные виллы. Когда-то в древности дома на этом острове покрывали черной камышовой соломой. Теперь это опять вошло в моду. Таких крыш не было больше нигде в Германии и, кажется, нигде в мире. Белые виллы-шкатулки стояли под черными лохматыми шевелюрами, с колючими челками над окнами верхних этажей.
– Герда, ты сегодня смотрела почту? – спросил старик, когда они вошли в дом.
– Все у вас в кабинете. Как всегда, куча ерунды. Но того, чего вы ждете, пока нет, так что можете наверх не подниматься. Идите мыть руки и быстро за стол. В третий раз я разогревать не буду.
Старик снял куртку, кроссовки, сунул ноги в теплые тапки и отправился на второй этаж, громко декламируя:
Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть Господь судил.
– О, майн гот, опять, – проворчала Герда, на это раз не сердито, а печально.
Она ни слова не понимала по-русски, но это стихотворение, кажется, могла повторить наизусть, без запинки. Она знала, что написал его Пушкин. Для русских он значит то же, что Гете для немцев и Шекспир для англичан.
Пятнадцать лет она служила экономкой в доме странного одинокого старика. Его звали Микхаил Данилофф. Через год ему исполнялось девяносто. Он был крепкий, поджарый, молчаливый и не капризный. Герда называла его Микки.
Он родился в Москве, в семнадцатом году, в октябре, двадцать девятого числа. Он навсегда покинул родину пятилетним ребенком, но продолжал считать себя русским. Он служил в СС, был летчиком «Люфтваффе» и не скрывал этого. В его кабинете на почетном месте, в рамке под стеклом, висела фотография. Он, совсем молодой, в форме лейтенанта, с ним рядом красивая фрейлейн, на руках у него грудной младенец в одеяле.
О том, что на самом деле он был английским шпионом в рядах СС, Герда узнала, когда однажды сюда, в Зюльт, приехала съемочная группа с Гамбургского телевидения. Они снимали Микки в его кабинете. Он рассказывал о какой-то хитрой шпионской операции сорок четвертого года.
– Как же вы служили в СС, если были русским? – спросила Герда.
– Я не был. Я есть русский, – ответил Микки, – но тогда, в тридцать восьмом, я этого не афишировал. Меня звали Эрнст фон Крафт. Я с детства говорил по-немецки без акцента и писал без ошибок.
– Почему же вы шпионили в пользу Англии, а не России? Ненавидели коммунистов и Сталина?
– Ненавидел, верно. Но по время войны шпионил в пользу России. Только это большой секрет, – Микки подмигнул и приложил палец к губам. – Герда, ты ведь никому не скажешь?
– Значит, вы рисковали жизнью ради тех, кого ненавидели?
– Ну что ты, Гердочка, я не такой дурак. Я рисковал ради России. Я знал, что Сталин умрет, коммунисты уйдут, а Россия останется. Так оно и вышло.
– Почему сейчас вы не возвращаетесь туда, если так ее любите, вашу Россию?
– Потому, что меня там никто не ждет. А здесь я привык, обжился. Я слишком стар, чтобы менять привычки.
– Как же вам удалось уцелеть?
– Моя мама молилась за меня.
– Если уж выпросила у Господа для вас жизнь, почему не сумела выпросить семью? Вы в молодости были вон какой красавчик, могли бы десять раз жениться, иметь кучу детей, внуков, правнуков, – проворчала Герда.
Микки сделал вид, будто не услышал ее ворчания, стал громко читать своего любимого Пушкина. Всегда, когда ему было грустно, когда он нервничал, он повторял это стихотворение.
Она хотела спросить его, куда делись фрейлейн и младенец, с которыми он снят, но не решалась.
И вот однажды Микки попросил ее приготовить праздничный ужин, а сам отправился на вокзал.
В тот день, впервые за многие годы, она увидела Микки не в поношенных джинсах и свитере с заплатками на локтях, не в спортивных штанах и кроссовках. Он надел элегантный английский костюм, белоснежную рубашку, галстук, дорогие ботинки из черной замши, дольше обычного брился, десять раз повторил свое любимое стихотворение, не только прочитал, но даже спел его, переложив на какой-то смешной мотивчик.
Герда постаралась. Стряпня была ее поэзией, ее гордостью и самым любимым делом в жизни. Она зажарила на гриле свежую форель, приготовила сложный лимонный соус, испекла свой коронный ванильный торт с черносливом, надела лучшее свое платье, поставила на стол живые чайные розы, зажгла свечи.
Микки вернулся с вокзала вместе с пожилым русским. Оба были напряжены и как будто вовсе не рады встрече. Русский пожал Герде руку и представился: Дмитрий.
На вид лет шестьдесят. Такой же седой, крепкий, поджарый, как Микки. И уши у него были, как у Микки, большие, смешно оттопыренные. За столом они говорили по-русски. Оба нервничали и вовсе не оценили кулинарные шедевры Герды. Ей было очень обидно, она хотела уйти на кухню, но продолжала крутиться в столовой. Она ни слова не понимала в их разговоре, только заметила, что оба несколько раз повторили два женских имени: Вера и Софи.
Потом они поднялись к Микки в кабинет, проговорили там еще час и спустились в прихожую.
– Дмитрий разве не останется ночевать? – холодно поинтересовалась Герда. – Я все приготовила для него в гостевой комнате, как вы велели.
– Я пробовал уговорить его, но у него заказан номер в отеле «Кроун», – ответил Микки.
– Скажите ему: это плохой отель. Только одна видимость, что четыре звезды. Там отвратительно готовят, не убирают номера, там сыро и холодно, белье всегда влажное, а дерут втридорога.
Дмитрий надел куртку, взялся за ручку своего маленького чемодана, вежливо улыбнулся Герде, произнес «Денке шеен» и добавил еще что-то по-русски.
– Он говорит, что ужин был замечательный, все очень вкусно. Тебе большое спасибо, – перевел Микки.
– Это я поняла без вас, – Герда надменно выпятила нижнюю губу, – почему вы не перевели ему то, что я сказала про отель «Кроун»?
– Бесполезно, Гердочка. Он все равно не останется.
Дмитрий прожил на острове в паршивом отеле «Кроун» дней десять. Они с Микки встречались, сидели у моря, гуляли по пляжу вечером, иногда заходили в дом, поднимались в кабинет.
Это был отнюдь не первый русский, который приезжал сюда на остров к Микки. Старика иногда навещали какие-то люди из России. Но никого из них он не встречал на вокзале, ни для кого не надевал английский костюм, не просил приготовить торжественный ужин и гостевую комнату. Никому из них он не был рад, скорее наоборот. Каждый такой визит делал его мрачным, нервным, он ворчал по-немецки: «Вот, черт принес, надоели, чтоб им всем сквозь землю провалиться».
Он писал для Герды немецкими буквами русские фамилии на листочке и просил, чтобы не звала его к телефону. Однажды какой-то вежливый, но нервный пожилой господин слишком настойчиво звонил в дверь виллы.
– Скажи ему, пусть убирается, иначе мы вызовем полицию.
– Что им от вас нужно? – спрашивала Герда.
– Они считают, что мой дед был алхимик и оставил мне тайну эликсира вечной жизни.
Герда весело рассмеялась.
– Ничего смешного, – сказал Микки, – наоборот, это грустно. Ты же читаешь газеты, смотришь телевизор. Там постоянно твердят, что среди нынешних русских много сумасшедших.
В день отъезда Дмитрия Микки разбил очки и свою любимую чайную чашку. Бреясь, сильно порезал щеку и подбородок, надел свитер наизнанку и разные носки. Герда заметила это, когда он обувался в прихожей, но ничего не сказала. Ей хотелось плакать, глядя на него.
Как только он ушел, она поднялась в кабинет, чтобы навести там порядок. На столе она увидела новую фотографию, единственную цветную среди старых, черно-белых.
Это был портрет стриженой светловолосой девушки лет двадцати пяти. Герда долго разглядывала чистое, тонкое лицо.
– Здравствуй, милая фрейлейн. Интересно, кто ты такая? Я знаю людей, я вижу, у тебя умные глаза. Наверное, ты хороший человек, и, уж точно, ты очень важный и дорогой человек для Микки. Иначе ты бы здесь не стояла под стеклом, в красивой рамке.
Герда была такой же одинокой, как ее хозяин. Она старела, и у нее появилась привычка разговаривать вслух с самой собой и с окружающими предметами. Так она беседовала с девушкой на портрете, пока пылесосила книжные полки, протирала оконные стекла, абажур настольной лампы, складывала в стопку разбросанные возле принтера листы.
Когда Микки вернулся с вокзала, она решилась спросить его:
– Кто это?
– Моя внучка, – ответил Микки и тяжело упал в кресло, – ее зовут Софи. Ей скоро исполнится тридцать лет. Она живет в Москве. Дмитрий ее отец. Мой сын.
С тех пор Герда героически держала за зубами все свои горячие «почему?». Микки жадно просматривал почту, бумажную в почтовом ящике, электронную в компьютере.
Почты было много. Кроме обычного набора бесплатных газет, рекламных брошюр и талонов, электронных спамок, Микки получал множество ответов на свои запросы в библиотеки, архивы, университеты разных стран. Приходили извещения о посылках, и Герда везла домой с почты на багажнике своего велосипеда стопки книг на немецком, английском, русском.
Микки написал несколько учебников по военной истории. До того как купил виллу и окончательно поселился здесь, он жил в Англии, Бельгии, Швейцарии, Франции, читал лекции в университетах. До сих пор к нему по электронной почте обращались за консультациями, иногда приезжали журналисты.
В последние пять лет он работал над книгой о русской революции. Стол его был завален бумагами, он часами сидел за компьютером. Герда, заглядывая ему через плечо, видела на экране незнакомый русский шрифт. Буквы становились все крупнее. У Микки портилось зрение.
– Кому это нужно? – ворчала она. – Могли бы пощадить свои глаза и мозги, отдохнуть на старости лет.
– Да, наверное, не нужно никому, – отвечал Микки, – но отдыхать я буду в могиле. И чем меньше стану щадить свои глаза и мозги, тем позже там окажусь.
Впрочем, после появления Дмитрия он подходил к своему компьютеру лишь для того, чтобы посмотреть почту. Он, кажется, даже читать не мог, брал книгу, водил лупой над страницами минут десять, откладывал, шел гулять или сидел на пляже в шезлонге часами, просто так, глядя на море и слушая чаек.
Он стал забывчив и рассеян. Не надевал шапку в холод, терял очки, мог не бриться неделю, пока Герда не напомнит.
– Тебе не стыдно, фрейлейн? – шепотом спрашивала Герда светловолосую девушку на снимке. – Неужели ты ничего не знаешь, не понимаешь, не чувствуешь? Неужели никогда не приедешь?
Москва, 1917
В Москве шла война. Город был в баррикадах. Обстреливались улицы, переулки, дворы, в окна попадали снаряды, гранаты. Пули били стекла фонарей, и вспыхивали высокие газовые факелы. Загорались дома, не только деревянные, но и каменные. Пожары никто не тушил, огонь перекидывался на соседние здания. В квартиры врывались ошалевшие, с безумными глазами красногвардейцы, искали оружие, попутно брали все, что понравится. При малейшем сопротивлении или просто так, смеха ради, расстреливали всех, без разбора.
Обыватели создавали домовые комитеты, устраивали круглосуточные дежурства в подъездах, пытаясь защитить свое жилье, имущество, жизнь, таскали ведра и тазы с водой, заливали головешки, летевшие от соседних пожарищ.
Когда затихала стрельба, по Тверским, по Арбату, по Сретенке слонялись пьяные мародеры, сдирали с трупов сапоги. Мрак, холод, смерть царили в Москве. Никто не знал, когда это кончится и что будет завтра.
Поздним вечером прибежала Люба Жарская, в облезлом тулупчике, в сером бабьем платке. Она плакала, целовала Михаила Владимировича, Таню, Андрюшу, говорила, что квартиру ее разграбили, она сама спаслась чудом и теперь хочет бежать, до Витебска, к Варшаве, там у нее двоюродный брат.
– Подожди, поживи у нас, – уговаривал Михаил Владимирович, – скоро все образуется, хотя бы стрелять перестанут.
– Нет, Миша. Ничего уж не образуется. Перестанут стрелять, значит, они победили. Тогда закроют границу, и все мы окажемся под арестом, на одной огромной каторге размером с Россию. Не хочу ждать своей очереди на убой, как скотина бессловесная. Пусть убьют по дороге, это даже лучше.
Вид новорожденного Миши вызвал у нее новый приступ рыданий.
– Ангел, чудо, как же ты в этом аду?
Няня собрала для нее узелок с едой, Таня дала что-то из своей одежды. Михаил Владимирович попытался сунуть ей в карман немного денег, но она категорически отказалась.
– У вас у самих мало, да и бумажки эти скоро ничего не будут стоить. Бог даст, увидимся, не в этой жизни, так потом, когда-нибудь.
Агапкин проводил ее до подъезда. Прощаясь, она обняла его, забормотала странно бледными без помады губами:
– Феденька, береги их, кроме тебя теперь некому. Данилов, если выживет там, в Кремле, он все равно с этой красной чумой будет биться до конца, до смерти. Он белый полковник, смертник. – Она вдруг испуганно зажала рот ладонью. – Господи, что ж я каркаю, дура такая? Типун мне на язык! Он хотя бы знает, что у него родился сын?
Агапкин молча помотал головой.
– Ладно, пойду, пока тихо. Попробую к вокзалу. Когда-нибудь какой-нибудь поезд поедет, а нет, так пешком добреду. Прощай, храни тебя Бог, Феденька.
Люба исчезла во мраке. Только сейчас, проводив взглядом ее длинную, смутную фигуру в нелепом платке, Федор заметил, что и правда тихо. Слышно, как ветер шуршит ледяными листьями, и, если закрыть глаза, можно подумать, все по-прежнему. Обычная московская ночь в конце октября.
Он нащупал папиросы в кармане, чиркнул спичкой. А может быть, правда, все кончилось? Если до утра стрельбы не будет, надо сходить на Никитскую, поговорить с Мастером. Нельзя больше оставаться в роли слепой марионетки. Пусть объяснит, что они собираются делать? Станут сотрудничать с красной чумой? Или, может быть, тихо исчезнут, пока не закрыта граница? Такой вариант вовсе не исключен.
Федор ясно представил пустой особняк, намертво запертую дверь. У него, в отличие от многих других в Москве и во всей России, в эти жуткие октябрьские дни почему-то не было сомнений, что чума обосновалась здесь надолго. При всей внешней абсурдности этой новой власти в ней есть сила и даже определенное обаяние, бесовской соблазн. Они говорят то, что от них хотят слышать измученные одичавшие массы. Солдатам обещают мир, рабочим – хлеб, крестьянам – землю. Когда все другие болтают, спорят, сомневаются, эти – действуют, с абсолютным, безоговорочным чувством собственной правоты. Не боятся крови, людского суда, Божьего гнева.
Он не успел докурить папиросу, а со стороны Красной площади послышался жуткий гул, грохот. Тротуар затрясся под ногами.
В полночь 30 октября большевики открыли огонь из тяжелых орудий по Кремлю. Трое суток шла пальба по древним стенам. Со стороны храма Христа Спасителя подступы к Кремлю защищал пулеметный расчет под командованием прапорщика, девятнадцатилетней баронессы де Боде. Каждая очередная большевистская атака гасилась пулеметным огнем.
Юнкера из последних сил держали оборону и сдаваться не собирались. Большевики готовы были разрушить Кремль, лишь бы выбить оттуда его последних защитников.
Рухнула глава Беклемишевской башни. С Никольских ворот смотрел на город расстрелянный образ Святителя Николая.
Электричество опять погасло. В темной ледяной квартире телефонный звонок прозвучал как взрыв.
– Включили! Включили! – завопил Андрюша и бросился к аппарату.
На улице едва светало. Таня спала в своей комнате так крепко, что ни звонка, ни Андрюшиного крика не услышала. Для новорожденного мальчика устроили кроватку в большой овальной корзине. Он спал, запеленатый в кусок разрезанной простыни, сверху закутанный в теплую шаль и укрытый старым Андрюшиным одеялом. Няня торжественно надела ему на головку розовый чепчик из мягкой шерсти. Оказывается, она успела связать его заранее, только почему-то думала, что будет девочка.
В гостиной чадила керосинка. Свечи берегли, запас их кончался.
– Для тебя, Мишенька, я тоже когда-то розовый связала. Матушка твоя, Ольга Всеволодовна, Царствие Небесное ей, голубушке, девочку ждала. Живот был круглый, широкий, по всем приметам девочка. Но нет, родился ты. А как Наточку носила, так все наоборот, живот огурцом. Думали, мальчик. Для Наточки я и связала голубой, – бормотала няня, сидя на краю дивана, перебирая в полумраке свои ветхие сокровища. – Видишь, я их все храню, вот твой, вот Володюшкин, – няня всхлипнула и перекрестилась, – а вот Танечкин, Андрюшин. Только моль поела. Уж я ее, проклятую, и лимонными корками, и лавандой. Смотри, твои первые носочки, а это платьице Наташино, панталончики, пинетки.
Профессор задремал под бормотание няни, и во сне с лица его не сходила счастливая спокойная улыбка.
Стрельба продолжалась, то тише, то громче, но уже никто от нее не вздрагивал. Привыкли.
– Федор Федорович, это вас, – разочарованно сказал Андрюша и протянул трубку.
– Как здоровье профессора? – спросил знакомый голос.
– Благодарю вас. Все хорошо.
– Если что-нибудь понадобится, телефонируйте.
– В доме очень холодно. Опять погас свет.
– Да, – сказал Мастер, – у нас теперь тоже.
– У вас? – изумился Агапкин.
– По всему центру. Вы разве не слышите, что происходит?
– И когда же все это закончится? – мрачно спросил Агапкин.
Минуту он слышал только треск в трубке и чувствовал ухом, щекой неодобрительное молчание своего собеседника.
– Успокойтесь, – произнес наконец Мастер, – возьмите себя в руки. Предстоит еще много испытаний, куда более суровых, чем нынешние. Уличные бои продлятся недолго. Надеюсь, вы помните, в чем на сегодня заключается ваша главная обязанность?
– Да, разумеется.
– Не забывайте о животных. Навещайте их чаще. Их вы тоже должны сохранить. Телефон пока исправен, если будет в чем-нибудь нужда, сообщите.
– Да. Благодарю вас.
«Я не сказал, что Таня родила, – вдруг подумал он, – я не сказал, а должен был».
В эту минуту он почти ненавидел Матвея Белкина, Мастера, учителя, благодетеля.
– Кто это? – шепотом спросил Андрюша, когда Агапкин положил трубку.
– Знакомый из госпиталя. Что ты так испуганно на меня смотришь?
– Не знаю. У вас стало такое лицо…
– Какое? – Агапкин повернулся к зеркалу.
Дрожал огонек свечи, подсвеченное снизу, его лицо правда выглядело жутковато.
– Ну, как будто он вас очень сильно обидел, – шепотом объяснил Андрюша.
– Ерунда. Это свет так падает. Никто меня не обидел. Просто мы все страшно устали. Шел бы ты спать, Андрюша.
– Нет. Зачем спать? Уже утро. Я должен ждать звонка. Павел Николаевич еще ничего не знает, я хочу первым сказать ему, что у него родился сын.
Федор прошел в лабораторию. Зажег керосинку. Крысы метались, пищали. У них кончились вода и корм. Все до одной были живы, и как только Агапкин насыпал в кормушки зерна, налил воды в поильники, кинулись, с писком расталкивая друг друга. Только Григорий Третий сидел, не двигаясь. Он видел, что другие уже едят, пьют. У него было все свое, отдельное, тоже пустое.
– Здорово, приятель. Для тебя я припас кое-что особенное, – сказал Федор искусственно бодрым голосом, – вот тебе от наших старших братьев.
Он выдвинул лоток, кроме обычного зерна положил туда кусок швейцарского сыру, маленькое сдобное печенье. Крыс прыгнул к кормушке так стремительно, что Федор отпрянул.
– Ого, сколько у тебя сил, какая отличная реакция, я уж не говорю про аппетит. Ты еще помолодел, что ли? Станет светло, осмотрю тебя. Кажется, в этом аду ты чувствуешь себя лучше всех.
Когда он вернулся в гостиную, профессор уже не спал. Няня подложила ему под спину подушки, придвинула керосинку. Он сидел и читал газету «Новая жизнь», которую Агапкин принес вчера с Большой Никитской.
– Федор, кто звонил? Откуда взялась у нас эта странная пресса? Это что, теперь только такие выходят газеты?
Агапкин объяснил, что звонил знакомый и ничего нового не сказал, а газету он вчера случайно подобрал на улице. Но профессор все это пропустил мимо ушей и стал возбужденно зачитывать список членов Временного рабочего и крестьянского правительства.
– Председатель Владимир Ульянов (Ленин). Такой маленький, лысый, картавый? Дружит с германцами? Кажется, именно он заявил, что каждая кухарка будет управлять государством? Погодите, но ни одной кухарки я здесь не вижу. Рыков, Милютин, Шляпников, Скворцов. Никого не знаю. А, вот, Л.Д. Бронштейн (Троцкий). Человек с уникальной глоткой. Когда он выступал на каком-то митинге, в окрестных домах звенели стекла. Боже, а это кто? По делам национальностей, И.В. Джугашвили (Сталин). Слушайте, может, именно он и есть та самая кухарка?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































