Текст книги "Источник счастья"
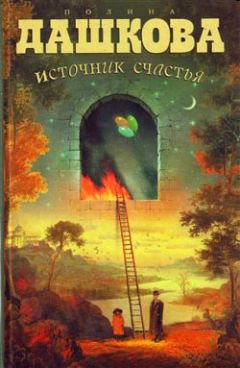
Автор книги: Полина Дашкова
Жанр: Современные детективы, Детективы
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
Глава пятая
Семьи Петр Борисович Кольт не имел. Было некогда и неохота. Женщинам он не доверял, любовь считал не более чем товаром, как нефть, алюминий и природный газ. Он мог купить любую девушку, какая понравится, и неприступность была всего лишь вопросом цены.
В его кругу еще с советских времен существовали специальные сводники, которые находили самых красивых девушек для очень богатых клиентов, предлагали десятки фотографий на выбор, устраивали случайные романтические знакомства. Заказать себе в подруги можно было кого угодно и в любом количестве. Сводник гарантировал качество товара с медицинской и юридической точек зрения.
Исключительно честные, чистые, культурные девушки, они хотели выйти замуж, но не за слесаря или инженера, а за человека достойного. Изредка достойные люди действительно женились на них, но в большинстве случаев нет. Либо они уже были женаты, либо вообще не собирались заводить семью, как Петр Борисович.
В любви, как и в бизнесе, Кольт был стремителен, щедр, но крайне осторожен. Меняя подруг, он следил, чтобы ни одна не забеременела от него, и когда вдруг какая-нибудь лапушка признавалась ему, что ждет ребенка, он точно знал – врет.
И все-таки ребенок у него был. В семьдесят седьмом году ему на короткое время вскружила голову двадцатилетняя студентка Института кинематографии. Ее звали Наташа. Он познакомился с ней в Доме кино на премьере фильма, в котором она сыграла одну из главных ролей. Она показалась ему красивой до спазма в горле. Он даже думал – не жениться ли? Но через год, когда он, слегка утомившись однообразием, привез на дачу восемнадцатилетнюю солистку ансамбля песни и пляски, Наташа неожиданно явилась туда и устроила отвратительную сцену.
Она была на восьмом месяце. Петр Борисович дождался родов, не без волнения взял на руки розовый сверток, в котором пищала и морщилась прелестная новорожденная девочка, отвез Наташу с младенцем в трехкомнатную квартиру в элитной новостройке на проспекте Вернадского и уехал домой.
Девочку назвали Светланой. Отчество – Петровна, но фамилия матери, Евсеева. Петр Борисович выплачивал Наташе и ребенку щедрое ежемесячное содержание, дарил подарки, аккуратно навещал дочь по праздникам, сам не заметил, как привязался к белокурой пухленькой малышке.
Когда девочке исполнилось шесть, Наталья заявила:
– Светик хочет танцевать!
– Отлично. Пусть поступает в балетное училище, – сказал Кольт.
– Мы уже ходили. Ее не берут. Говорят, нет выворотности, низкий подъем, широкая кость, слабая прыгучесть.
Кольт посмотрел на крупную широкоплечую девочку с большими плоскими ступнями, с тяжелыми пухлыми руками и подумал: вряд ли из его дочурки выйдет танцовщица. Он знал, какие тела у балерин, какая кость, какие плечи и шеи.
– Светик хочет танцевать! Светик хочет! – вопила дочурка, топала ногами и била увесистым кулачком по колену Петра Борисовича.
Через год ее приняли в училище. Все знали, что девочка «блатная», но чья именно она дочь, не знал почти никто.
Наблюдая, с каким упорством Светик занимается трудным и совершенно не своим делом, Кольт ловил себя на новых незнакомых чувствах. Он теперь не только любил дочь, но и уважал ее.
Девочке не хватало таланта, она компенсировала это упорным трудом. Когда и труд не помогал, она ловко интриговала, хитрила, клеветала на соперниц, подставляла их и устраняла со своего пути.
– Танк, а не ребенок. Раздавит, любого раздавит, – говорили о ней.
Петр Борисович слушал и ухмылялся. Он знал, что в этом подлом мире лучше быть танком, чем травой под его гусеницами.
– Светик хочет танцевать в Большом и стать солисткой, – сказала девочка, когда закончила училище.
Ее не брали, даже в кордебалет. Слишком высокая и тяжелая, ни один партнер не поднимет. К тому же танцевала она все-таки плохо, как ни старалась. У нее было роскошное тело, но оно не годилось для балета. Отцовское упорство и хитрость сочетались в ней с материнской красотой и склочностью.
– Светик хочет! Хочет!
В Большой театр ее все-таки взяли, заключили договор на год. Стоило это Петру Борисовичу значительно дороже, чем поступление в училище.
Наташа давно не снималась в кино. Она стала чем-то вроде импресарио при дочери. Она занималась ее пиаром, свободно пользуясь деньгами и связями Петра Борисовича. Она устраивала телеэфиры, покупала восторженную критику, нанимала «группы поддержки» для бурных аплодисментов и криков «браво».
В интервью Светик повторяла, что добилась успеха исключительно собственным трудом и талантом, полученным от Бога. Никто не верил. Сначала скептически хмыкали, потом открыто смеялись. Молодая балерина, правда, была красива, чрезвычайно высоко поднимала ногу, невинно трепетала накладными ресницами перед камерой, говорила о вечном, о духовности и милосердии, при посторонних почти не употребляла мата и очень редко произносила плохое слово «блин». Все это, конечно, достоинства неоспоримые, но при чем здесь сцена Большого театра?
Чтобы унять неприятные смешки, следовало придумать какие-то более приземленные объяснения волшебным успехам балерины Евсеевой. Все понимали, что за девушкой стоят огромные деньги, и всех интересовало – чьи?
Открыть публике, что деньги папины, Светик не желала. Это банально и неромантично. Да и Петр Борисович не спешил легализовать свое отцовство. Он считал, что таким образом возьмет на себя некие излишние тягостные обязательства. К тому же слава Светика становилась все скандальней, а Кольт не любил попадать в центр внимания желтой прессы.
Наташа придумала распространять и подогревать слухи о загадочных иностранных миллиардерах, которые покровительствуют Светику из любви к высокому искусству. Тут же замелькали фотографии, где Светик на банкетах, фуршетах и презентациях беседует с разными состоятельными мужчинами. Петру Борисовичу идея понравилась, и все шло отлично. Но тут вдруг Светика выгнали из Большого.
Умная Наташа использовала это безобразие для очередного витка раскрутки Светика. Оскорбленная балерина не слезала с телеэкрана, ее одухотворенное лицо сияло на глянцевых обложках, она жаловалась публике на интриги, намекала на месть могущественного отвергнутого обожателя.
Петр Борисович пытался договориться, чтобы Светика восстановили в театре, но, выяснив, в чем дело, понял: невозможно. Подобранный специально для нее партнер, самый крупный и сильный из всех танцовщиков, поднимая ее, надорвал спину. Нашли другого. Но у него случился сердечный приступ. Труппа собиралась на гастроли в Париж, и там солистку Светика нельзя было выпускать на сцену никак. Даже если половину мест в Гранд-опера занять оплаченной группой поддержки, все равно вторая половина покинет зал с шиканьем и свистом. Париж – не Москва.
Когда стало окончательно ясно, что в театре балерину Евсееву не восстановят, и мегаскандал вокруг этой истории всем надоел, Петр Борисович услышал:
– Светик хочет сниматься в кино!
Наташа узнала, что у одной из продюсерских студий есть готовый сценарий по роману известного писателя, где главная героиня – балерина. Фильм сняли быстро и дешево. Светику даже не пришлось утруждаться, читать сценарий. Его переделали таким образом, чтобы вместилось максимально возможное количество крупных планов Светика, все персонажи мужского пола поголовно любили единственную женщину, главную героиню, а все персонажи женского пола стремились быть на нее похожими. В кадре Светик меняла наряды и делала свой знаменитый батман. Перед очередной съемкой режиссер быстренько рассказывал ей, что должно происходить в той или иной сцене, и она произносила какой-нибудь приблизительный текст.
Получилось нечто вроде домашнего видео, которое интересно смотреть только в узком семейном кругу. Круг этот ограничился Наташей и Светиком. Даже Петр Борисович более десяти минут не выдержал. Наташа заранее позаботилась о положительных рецензиях, но они не помогли.
Провал был полный и безнадежный. А тут еще писатель, человек пожилой и тихий, вдруг разговорился в интервью, что действо на экране нельзя назвать фильмом. Это длинный и дешевый рекламный ролик балерины Евсеевой, вернее, ноги балерины, которую она все время гладит и прижимает к щеке. Нога, безусловно, хороша, но так долго смотреть на нее невозможно, и совершенно непонятно, при чем здесь его роман.
– Папа, срочно заткни этого старого козла! – орала телефонная трубка в руке Петра Борисовича. – Купи, напугай, уничтожь! Светик хочет, чтобы он заткнулся, блин! Светик хочет! Хочет!
В ухе звенело. Кольт почувствовал легкую усталость. Наверное, в чем-то он ошибся. Танк – штука хорошая, но ведь прет, зараза, так, что не остановишь, и давит гусеницами не только траву, а все живое, что есть на пути.
– Уймись, – сказал он Светику и отключил телефон.
Чтобы как-то утешиться, Светик купила себе квартиру на Старом Арбате и, конечно, потратила денег в пять раз больше, чем обещала папе. Когда она с гордостью вела Кольта по розово-голубым, украшенным колоннами, лепниной, рюшами и завитушками комнатам, у него зарябило в глазах. Стены опочивальни были покрыты сусальным золотом и выпуклыми гипсовыми розами. С потолка свисала люстра, как в Колонном зале Дома союзов.
– Скажи, тут миленько? – щебетала Светик. – Такой укромный уголок, уютный замок маленькой принцессы. Нужно еще сто пятьдесят тысяч за мебель и аксессуары.
– За эту пакость я платить не буду. У тебя на счету достаточно денег, – сказал Кольт и улетел на Аляску, ловить рыбу.
Ему было интересно, как она поступит. Она обиделась и не звонила. Пару раз в трубке возникала Наташа.
– Светик хочет…
– Обойдется! – отвечал он, не дослушав.
Через неделю по одному из российских каналов в ночных новостях показали сюжет, как у Светика в аэропорту забрали заграничный паспорт. Дизайнер, автор двухсот пятидесяти гипсовых розочек, подала в суд, так и не получив за свой труд ни копейки.
Разбухал очередной скандал. Звонила Наташа.
– В чем проблема? У нее на счету десять таких сумм. Пусть заплатит, – сказал ей Петр Борисович.
– Ты же знаешь Светика, она не может платить сама.
Да, он знал. Это была какая-то загадочная патология. Светик с такой болью расставалась с деньгами, словно они являлись частями ее тела. Конечно, Петру Борисовичу ничего не стоило расплатиться с дизайнерской фирмой и прекратить скандал. Он платил балетному училищу, Большому театру, бесчисленным журналистам и группам поддержки, балетмейстерам, театральным критикам, продюсерской студии, телеканалам, режиссерам. Но двести пятьдесят розочек на сусальных стенах его доконали.
Он отошел в сторону и продолжал спокойно наблюдать. Скандал набирал обороты. На Светика завели уголовное дело. В суд по повесткам она не являлась. Адвокатов наняла самых дешевых. У одного из сотрудников дизайнерской фирмы сгорела машина. Кольт спокойно выслушал доклад начальника службы безопасности о том, кто и за какую сумму сделал эту глупость для Светика.
– Петр Борисович, вы не хотите вмешаться? – осторожно спросил Зубов.
– Не хочу! – отрезал Кольт.
Еще через неделю фирма отказалась от иска, удовлетворившись половиной суммы. Светик справилась сама, сумела договориться.
Как-то поздним вечером, лежа на диване в полном одиночестве в своей огромной полутемной гостиной, Петр Борисович смотрел на огонь в камине, лениво переключал кнопки пульта, гулял по каналам. Вдруг на огромном экране возникло лицо Светика. Шло ночное ток-шоу.
– В искусстве главное для меня – духовность, – говорила Светик, – в быту я человек благочестивый.
На ней была кофточка, невероятно пышная, розовая и прозрачная, как медуза. Трепетали накладные ресницы. В наивном изумлении взлетали нарисованные брови. Петр Борисович вдруг вспомнил слова приятеля министра за поминальным столом: «Моя кровь, мое продолжение». Потом представил себя лет через десять, беспомощным и старым. Не дай Бог, маразм, паралич. А рядом Светик.
На следующее утро он позвонил своему старому знакомому, губернатору Вуду-Шамбальского автономного округа. Он давно собирался наведаться в далекий степной край, не только из-за нефтяных вышек и конных заводов, а еще потому, что там, в глуши, жил человек, которому исполнилось сто десять лет. Он отлично выглядел, был бодр и полон сил, скакал на коне, пил вино, и его младшему сыну сейчас должно быть два с половиной года.
Москва, 1916
– Барышня, Татьяна Михайловна, из госпиталя телефонируют.
Таня с трудом открыла глаза. Она не заметила, как уснула в гостиной в кресле. Над ней стояла испуганная горничная Марина.
– А? Что? Который час?
– Да уж двенадцатый. Сказали, срочно. Я говорю, нету их, Михаил Владимирович в театре, а они говорят, вас позвать. Я говорю, спит, мол, а они: буди, буди. Там этот мальчик, еврейчик, вроде как помирает.
Таня бросилась к аппарату.
– Плох. Отходит, – мрачно сообщил фельдшер Васильев.
– Нет! – крикнула Таня. – Нет, я сейчас.
Как была, в домашней кофточке, в нянькиной вязаной шали, она выскочила из квартиры. Сбегая вниз по лестнице, услышала телефонные звонки и громкий голос Марины:
– Да вот, убежала. Ничего не сказала.
Михаил Владимирович должен был вернуться не раньше часа ночи. Драматург Жарская увезла его на премьеру своей пьесы «Страсть Коломбины». После премьеры предполагался ужин. Театр был далеко, на Сретенке. Точного адреса Таня не знала.
Взять извозчика удалось только на Триумфальной площади. Сонная кляча тащилась невыносимо медленно. Жар после бешеной гонки прошел, Таня стала мерзнуть в тонкой кофточке и шали. У нее стучали зубы, она то молилась, то повторяла в ватную спину извозчика:
– Быстрей, пожалуйста, быстрей!
– Это, барышня, неправильно ты мыслишь, потому как поспешишь, людей насмешишь, тише едешь, дальше будешь, не погоняй, не ты запрягала, – ворчал извозчик, и от монотонного, безнадежного звука его голоса Таню трясло еще больше.
Наконец свернули на Сретенку.
– Ну гляди, где тут твой театр.
– Он называется «Мадам Бернар». Где-то совсем близко.
– Тьфу ты, театр! Какой такой театр? Веселый дом тебе нужен, «Мадам Бильяр», так бы сразу и сказала, это не тут, это на Самотеку надо. – Извозчик чмокнул и стал разворачивать свою кобылу.
– Подождите! Не надо на Самотеку! Что значит веселый дом?
– А то и значит, барышня, то и значит. Заведение, с девицами.
– Мне не туда! Вы что?
– Да как не туда, когда говоришь «Мадам Бильяр»!
– Бернар! Артистка такая французская, Сара Бернар, понимаете? В честь нее назван театр. Езжайте вперед, пожалуйста, я очень тороплюсь. – Таня еле сдерживала слезы и готова была убить этого сонного болвана.
– Бернар, Бильяр, черт их разберет, вон, вроде, театр был в Селиверстовом переулке, туда, что ли?
– Не знаю! Езжайте вперед, я вспомню. Там булочная рядом и галантерейная лавка.
– Галантерейная? Так это в Просвирином переулке, туда, что ли?
– Туда, туда!
Просвирин переулок был мал и темен. Здание театра пряталось в глубине, между доходными домами. Таня с трудом разглядела вывеску.
– Подождите здесь, я скоро!
– Куда! А заплатить? – извозчик ловко соскочил с козел и схватил ее за руку выше локтя. – Видали мы таких. Скоро она! Двор-то проходной, убежишь и смоешься!
– Да пустите же! Нет у меня денег, там мой отец в театре, он заплатит, подождите здесь минут десять, не больше. – Таня пыталась вырвать руку, но у извозчика была железная хватка.
– Отец заплатит! Видали мы таких! Нет денег, зачем села? Вот я тебя сейчас в участок!
В переулке не было ни души. Таня видела прямо перед собой в тусклом фонарном свете толстую красную рожу и понимала: не отпустит, и вырваться она не сумеет. У нее на левом запястье были золотые часики, она поднесла их вплотную к маленьким злым глазкам извозчика.
– Вот, часики возьмите, вместо задатка.
– А ну, покаж! – Извозчик ловко перехватил ее за левую руку и стал разглядывать часы. – Вместо задатка, говоришь? А и то сойдет, – толстые пальцы быстро ловко расстегнули браслетку.
Таня вырвалась и побежала к театру, влетела в пустое полутемное фойе, промчалась мимо дремавшего швейцара и прямо перед входом в зрительный зал налетела на Жарскую. Драматург курила, прислонившись к колонне.
– Таня! Вот сюрприз!
– Любовь Сергеевна, простите, мне папа нужен, очень срочно. Где он? В каком ряду?
– Ты что, хочешь забрать его? Прямо сейчас? Ты с ума сошла! Ни в коем случае! Сорвешь мне премьеру! Там самая важная сцена, я вышла, не могу, волнуюсь страшно, подожди! Объясни хотя бы, что случилось?
Но Таня отстранила ее, проскользнула в зал.
На сцене три барышни, босые, в коротких туниках, извивались, подняв вверх руки и задрав лица к потолку. Под потолком, на подвесных качелях, сидела полная пожилая дама в пышной юбочке, болтала ногами и декламировала басом:
– Дух изнывает в темной клетке плоти. За что эта тюрьма, о мой творец? Не слишком ли суров твой приговор для маленькой послушной Коломбины?
Барышни расступились, и стало видно, что в заднике декорации проделана дыра, из нее торчит усатая мужская голова в цилиндре.
– Смирись, смирись, порочное дитя! – сказала голова сиплым тенором. – Ты отдала себя страстям тлетворным, ты дышишь кокаином и грехом.
Таня вглядывалась в затылки зрителей в первых рядах партера, но было слишком темно. Она двинулась вперед, по боковому проходу.
– О, мой творец, но если плоть бессильна противиться страстям и наслажденьям, ее ли в том винить? Не ты ли ее из глины создал ради скуки, чтоб забавляться ею, как игрушкой?
Оркестр заиграл нечто бравурное. Качели стали медленно опускать даму. Она больше не болтала ногами, сидела смирно, понурив голову в красных кудряшках. Три барышни принялись отплясывать канкан. Таня была уже у края сцены. Кто-то с откидного сиденья тронул ее за руку и громко прошептал:
– Сядьте куда-нибудь или уйдите!
Она набрала побольше воздуха и, перекрикивая оркестр, завопила:
– Папа!
Все головы в маленьком партере тут же повернулись в ее сторону, рядом громко возмущенно зашикали. Из середины второго ряда поднялась высокая фигура Михаила Владимировича и быстро направилась к Тане.
Извозчик уехал, видно, понял, что за часики выручит больше, чем заплатят ему седоки. Михаил Владимирович надел на Таню свое пальто, побежали по пустому переулку к Сретенке, извозчика нашли только на Садовой.
– Помолись, подготовься, – прошептал Михаил Владимирович и сжал Танину кисть, – рано или поздно это все равно бы произошло, он мужественный мальчик, он боролся, не показывал виду, но я знаю, как ему было худо. И ты знаешь. Он держался из последних сил.
– Нет. Не смей ничего говорить. – Таня вырвала руку и отвернулась.
До госпиталя ехали молча. В гулком полутемном вестибюле столкнулись с сестрой Ариной.
– Ну, слава Богу, успели, хоть попрощаетесь. Без сознания он, но пока дышит, пульс совсем слабый, – сказала она, – я в аптеку за кислородной подушкой. Час назад обещали прислать посыльного, все не идет, а наши запасы еще вчера закончились.
Ося лежал в маленькой процедурной. Глаза приоткрыты, лицо заострилось и разгладилось. Дыхание было редким и хриплым. Рядом стояли фельдшер Васильев и хирург Потапенко.
Михаил Владимирович приподнял Осе веко, стал считать пульс.
– Два раза сердце останавливалось, делали искусственное дыхание и непрямой массаж, – сообщил хирург.
– Ося, – тихо позвала Таня и провела ладонью по детской седой голове, – Осенька, я здесь, и папа здесь, мы с тобой, вернись к нам, пожалуйста.
Синеватые веки дрогнули. Михаил Владимирович, не отпуская тонкого запястья, прижал ухо к Осиной груди. Все затихли. Он слушал минуты три, потом вдруг вскочил, приказал сухо и быстро:
– Адреналин. Камфару подкожно. Натрия гидрокарбонат, хлорид кальция, глюкоза с инсулином. Окно открыть!
Таня вытащила подушку из-под головы Оси, одну руку подложила ему под шею, другую на лоб и глубоко вдохнула, принялась делать искусственное дыхание, рот в рот. Михаил Владимирович стиснутыми ладонями ритмично давил на грудину. Потапенко держал пальцы на запястье. Васильев распахнул окно и ушел кипятить шприцы.
Неизвестно, сколько прошло времени.
– Все, Таня, остановись, довольно. Ты слышишь меня? – Михаил Владимирович силой оттащил ее от Оси.
– Нет! – крикнула она и попыталась вырваться из отцовских рук. – Нет, пусти!
– Что – нет? Он дышит сам. Успокойся. – Он усадил ее на стул в углу палаты и поднес стакан холодного чая к ее губам.
Ося не только дышал, он открыл глаза и смотрел на Таню. Васильев ставил ему капельницу. Губы Оси шевельнулись. Таня подошла, склонилась над ним и ясно расслышала:
– Барбарис.
– О чем ты, Осенька?
– От тебя пахнет барбариской. Изо рта.
– Михаил Владимирович, вы сами понимаете, все бесполезно. Нужна операция на сердце, но наркоза он не выдержит, – сказал доктор Потапенко, когда они вышли покурить в коридор.
Таня уходить от Оси отказалась категорически, сидела возле его койки, читала ему «Капитанскую дочку».
– И что вы предлагаете? – спросил профессор.
– А что тут можно предложить? – Потапенко пожал плечами. – Ох, да, я совсем забыл, вас какой-то полковник искал, Данилов, кажется.
– Данилов? Когда?
– Около часа назад. Он приехал с фронта, всего на сутки, спрашивал вас и Таню.
– Где же он?
– В приемном. Наверное, уже ушел. Простите, что сразу вам не сказал, но совсем вылетело из головы.
В пустом приемном отделении полковник Данилов спал прямо на стуле. Профессор не стал его будить, отправился за Таней.
– Я никуда не пойду, – сказала она, увидев отца, – я буду здесь сидеть всю ночь.
– Сиди, пожалуйста, я не возражаю. Только сейчас сходи в приемное, ненадолго.
– Зачем?
– Иди, я сказал! – он взял у нее из рук книгу. – Я останусь здесь, не волнуйся.
Таня быстро сбежала по лестнице. Дверь приемного отделения была приоткрыта, она заглянула и сначала никого не увидела, кроме дежурной сестры, дремавшей за столом.
– Что за дурацкие шутки!
Она хотела уже идти назад, к Осе, но заметила силуэт в углу.
Данилов спал, прислонившись головой к стене. Шинель сползла с плеча, фуражка лежала на коленях. Он был небрит и в грязных сапогах. Короткий ежик волос стал совсем белым. Таня подошла на цыпочках, прижалась губами к его щеке и тут же отпрянула. Он открыл глаза, часто, удивленно заморгал, увидел Таню, обнял ее, так неловко и крепко, что она чуть не упала.
– Павел Николаевич, вы не предупредили, – она подняла с пола его фуражку, – вы такой бледный, измученный. Что-то случилось?
– Ничего, Танечка, все в порядке. Просто не спал три ночи. Предупредить никак не мог, сам не ожидал, что вырвусь. Ваша горничная сказала, вы убежали в госпиталь, Михаил Владимирович в театре. Я, собственно, уже и не надеялся, заехал сюда, думал, вдруг повезет. А вас и тут нет. Какой-то хирург сказал, что вы обязательно будете. У меня поезд в шесть. Который теперь час?
– Да уж третий, – подала голос дежурная сестра.
– В шесть? – Таня без всякого стеснения сжала ладонями его лицо, поцеловала в губы. – Вот за это я вас ненавижу.
– За что, Танечка?
– Нет. Больше не целуйте меня. Голова кружится.
– Так вы сами меня целуете.
– Нет. Я вас ненавижу. Не отпущу ни на какой поезд. Худой, небритый, волосы все седые, как будто не три месяца прошло, а тридцать лет. Пойдемте, хотя бы чаем напою. Да оставьте вы шинель с фуражкой, вон, повесьте на вешалку. Как прикажете вас любить? Заочно? Я жду, жду, после той записки – ни слова, ни весточки. Только во сне и вижу.
Она говорила быстро, тихо и вела его за руку по лестнице, по спящим коридорам. Он шел за ней и счастливо улыбался.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































