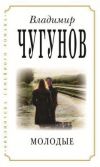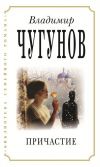Текст книги "Невеста"
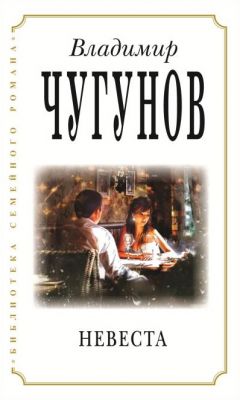
Автор книги: протоиерей Владимир Чугунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Завтра или послезавтра всё подробно опишу.
Поклон от Ильи с Катей. Простите и благословите.
Ваша Пашенька».
Запечатав письмо, Пашенька старательно вывела адрес и, накинув пальто, сбегала к дому, на углу которого висел ближайший почтовый ящик. Дорогой опять думала о Ване и опять пришла в недоумение.
«Да! Но что я ему скажу? Ванечка, не молись? Глупо!»
Но не только это тревожило её. Беспокоил и Савва Юрьевич – чего ему от неё надо?
Вернувшись домой, Пашенька присела на тахту и, кажется, немного вздремнула. Сон её был так тонок и короток, что, пожалуй, она и не спала, хотя тяжесть с души сошла и усталости не было. Поднявшись, она прошлась по комнате, подошла к окну. Вечер был тихий. Иней искрился на ветвях корявых клёнов, на кустах аккуратно подстриженной чайной розы вдоль фасада. Длинные тени вытянулись через весь двор.
Пашенька уже начала беспокоиться и с тревогой поглядывать на часы, когда наконец появился Ваня.
Вошёл он тихо и сразу прислонился к косяку двери. Лицо его, осенённое жиденьким пушком, было свежо от мороза и, даже несмотря на худобу, привлекало избытком «закованных в вериги» жизненных сил и желаний. Одни глаза светились тем особенным умиротворением, которого прежде не наблюдалось.
Несколько мгновений они стояли друг против друга молча.
– А я уж подумала не придёшь, – первая нарушила затянувшееся молчание Пашенька и осторожно, чтобы, не дай Бог, не обидеть, улыбнулась. – Катя тут такого наговорила!.. Представляешь?
Опустив глаза, негромко, без всякого выражения чувств, то есть «бесстрастно», Ваня произнёс:
– А ты что?
– А что – я? – дёрнула плечами Пашенька. – По крайней мере, отговаривать тебя не собираюсь.
Ваня вроде бы даже удивился, но по-прежнему «бесстрастно» спросил:
– Отговаривать от чего?
– От веры твоей… – как бы само собой вырвалось у неё. «Ненормальной» хотела уже добавить она, но в последнюю минуту сдержалась.
– От веры моей – понятно. У тебя, надо полагать, какая-то другая.
– Выходит так, раз твоя не позволяет родителей успокоить. Ты почему им не пишешь? Знаешь, что Зинаида Сергеевна даже в органы заявлять собралась? Американские шпионы совратили Ваню с пути истинного.
У Вани сначала поднялись брови, а только потом уже веки.
– Так прямо и говорит?
– Так прямо и говорит.
После томительного молчания «умоленный» выдохнул наконец:
– Хорошо. Ты что предлагаешь?
– Я?
– Ну, ты же знаешь деда, отца. Да они через все газеты от меня отрекутся, когда узнают, что произошло, и тогда из университета меня точно выставят. Я, конечно, не против, да благословение у меня – учиться.
– Благословение? Чьё?
– Матушка благословила.
– Матушка? А не старец этот, с острова?
– Отец Николай? Нет. Матушка Олимпиада.
– Это она тебе не велит родителям писать?
– Перестань!
– И не Андрей этот?
– Никто и ничего мне не запрещает. С чего ты взяла? Просто не знаю, что писать, вот и всё.
– Чего проще! Жив, здоров, чего и вам желаю.
– И ничего о случившемся? – удивился Ваня.
– А ничего и не случилось, Вань, – как-то так по-особенному произнесла Пашенька – Просто ты вернулся – и всё.
Ваня посмотрел на неё уже каким-то другим, совершенно новым взглядом.
– Да-а! – вдруг вспомнил он. – Матушке о тебе сегодня рассказывал. «Скажи, говорит, ей (тебе то есть), очень бы мне хотелось с ней познакомиться. Спроси, говорит, её, не навестит ли старую глупую старуху?»
– Что ж, я с удовольствием, Вань. Когда?
– Да хоть завтра. Вечером. В семь. Идёт?
– Зайдёшь за мной?
– Ну разумеется.
В дверь постучали.
– Заходи, Кать, у нас секретов нет! – крикнула Пашенька.
– Де-эти, пора! – отозвалась Катя из-за двери. – Я уже пальто надеваю.
– Ну, пора так пора, – вздохнула Пашенька. – Ну что, Вань, пойдём? Мы ведь обо этом ещё поговорим, да? А вообще, я за тебя рада! Правда! Хотя, может, и не всё понимаю…
Однако не всё ей понравилось в Ване. Но как об этом сказать? Чуть что не так – и сразу в штыки. И Пашенька решила подождать, помолиться, а там, глядишь, «Господь управит».
На улице было, как обычно в это время в Москве, относительно темно и относительно морозно, снег сказочно искрился в свете множества огней.
Катя спросила Ваню:
– Ты из мастерской?
– Да.
– Все уже там?
– Не знаю. Уходил, только этот… профессор был… имя у него ещё такое… нарочно не придумаешь…
– Мокий Федулович, что ли?
– Вот-вот. Занятный дядечка. Ему, кажется, за пятьдесят, а как узнал, что Андрей семинарию закончил, сразу привязался: давайте, говорит, пока никого нет, с вами поспорим?
– О чём?
– Могла бы и сама догадаться.
– Что, так и не рукополагают?
– Андрея? Нет. В трёх епархиях, говорит, уже был. Приду, говорит, на приём, Владыка: «О, семинария! Вставай в собор на клирос. Подбирай матушку. Женишься – и сразу хиротония». А через неделю вызывает: извини, говорит, не могу, сам понимаешь. А всё из-за типографии этой.
Пашенька спросила, какой, и Ваня стал рассказывать:
– Подпольной, разумеется, – какой же ещё! До семинарии дело было. Один знакомый как-то попросил Андрея помочь, а в тот вечер как раз милиция нагрянула. Поскольку ответственность за незаконные промыслы нёс руководитель, остальные проходили как свидетели. Руководила типографией тайная монахиня, а поскольку числилась психучётной, громкого процесса организовать не удалось. Что с дурочки взять? И отправили в очередной раз в Казанскую психушку до полного излечения. Недавно, кажется, вышла. Тогда же всё вроде бы затихло. Андрей в семинарию поступил. Окончил. В прошлом году с Петей в академию прошения подали. Петю приняли, а Андрея вызывают в военкомат, заводят в какую-то отдельную комнату, дело это перед ним выложили, будешь, говорят, сотрудничать. Он ни в какую. Тогда, говорят, и учиться не будешь. И точно. Как прочёл в приказе ректора, за скрытие анкетных данных отчислили.
– И где он теперь?
– На сельском приходе подвизается.
– Как ты у нас выражаться-то стал – подвиза-ается! – не преминула кольнуть Катя. – Между прочим. Мокий Федулович сам когда-то в семинарии учился, да не доучился. А ты не знал? Ну! При Хрущёве дело было. Чего-то он там, в этой семинарии, накуролесил, ну и выставили чуть ли не как еретика. Он сразу в МГУ, на исторический документы подал. В качестве разочаровавшегося клерикала, говорит, наверное, только и приняли. Даже какое-то время щеголяли им. С разными интервью приставали. Насилу отвязались. И то, говорит, потому только, что Хрущёва сняли, и открытую борьбу с «религиозным мракобесием», как они на этот счёт всё выражаются, свернули… Стало быть, спорят? А этот уморённый откуда?
– А вы его не узнали?
– Кого? – почти одновременно воскликнули сёстры.
– Ну ты, Кать, понятно, а вот Паша…
– Я? – удивилась Пашенька, о чём-то уже смутно догадываясь и всё же не желая этому верить как чуду, которого столько лет ждала. – Да я и не смотрела, – ужасно покраснев, потерянно добавила она.
– Даже если и не узнала – немудрено. И я бы не узнал, кабы вчера случайно не разговорились. У Иннокентия в особняке. – И ещё раз странновато посмотрев на Пашеньку, прибавил: – Что ж, значит, будет сюрприз.
С матовыми от инея окнами подкатил троллейбус. Ваня помог Кате подняться, проводил до места. Троллейбус тронулся, разбежался и покатил. Разговаривать стало неудобно. И так, молча, доехали до «Моссовета» и, перейдя через подземный переход на другую сторону, мимо книжного магазина «Москва», сидевшего на бронзовом коне Юрия Долгорукого, направились к Столешникову переулку, где находилась мастерская.
Чем ближе они подходили к мастерской, тем сильнее Пашеньку охватывало беспокойство.
3
А в мастерской в это время происходило то, что и могло происходить в подобных местах, где собирались так называемые «несознательные элементы». И этот, если так можно выразиться, культурный слой, заменивший в России аристократию, был, наверное, самой беспокойной частью общества, хранителем исторической и культурной памяти, собирателем цветов невытоптанного тачанками народного эпоса, украшением и даже, говоря высоким слогом, совестью своего народа.
Иначе говоря, мастерская была чем-то вроде рассадника вольнодумства или, по-современному, диссидентства, как некогда Пушкинский лицей или Московский университет при Николае I, только с обратным, как выражался Савва Юрьевич, знаком. Никакие союзы писателей, композиторов и художников, никакая забота руководящей и направляющей роли партии, во главе с живыми и мёртвыми вождями, никогда бы не смогли отменить, а тем более удовлетворить потребность в этих собраниях – не собраниях, а, скажем, в том совете, прообразом которого, может быть, и явился тот «Превечный совет», о котором Катя, Варя и Пашенька когда-то умилительно пели на три голоса: «Совет превечный, открывая Тебе, Отроковице, Гавриил предста…»
О чём шла речь на этих собраниях?
Вообще, о чём угодно, только не о марксизме-ленинизме. Говорили, например, об «антихристовом добре», и не только вслед за Владимиром Соловьёвым или Бердяевым, но и поглубже. Рассуждали о смысле монархии, идее земного града, образе и прообразе в искусстве, прямой и обратной перспективе, смысле культуры, «умном делании», о старчестве и филокалии в русской религиозной мысли. Учились думать, учились видеть, учились говорить и писать, стараясь не утерять нить истории и культурных традиций.
Не ахти что, но даже за это, кабы узнали и донесли, кое-кого из собравшихся могли лишить кафедры, снять с должности, оставить без любимой работы, отчислить из института и даже «до полного излечения» отправить в Казанскую психушку. И такое по недогляду и опрометчивости происходило, поэтому никого из случайных людей в мастерской Ильи не было.
Размещалась она на последнем этаже старинного здания, с украшенными лепниной окнами.
Когда Ваня, Катя и Пашенька друг за дружкой вошли в подъезд и по крутой, забрызганной белилами лестнице поднялись наверх, в мастерской царил полумрак. Картины уже были развешаны и расставлены по правой стене, и даже в темноте выделялась размером одна, остальные как бы обрамляли её с обеих сторон в известном лишь одному создателю порядке. Несмотря на то что свет с улицы совершенно отчётливо обозначал все предметы, изображений не было видно, а стало быть, ещё не время смотреть. Кое-где виднелись следы пожара, но практически всё уже было приведено в надлежащий порядок, а вместо потолка – просто чудо какое-то! – стеклянная крыша – не причуда хозяина, так оказалось дешевле.
Возбуждённые голоса доносились из закутка, отделённого старым бархатным театральным занавесом, в дальнем правом конце мастерской.
Раздевшись и пристроив слева от входа на стойку-вешалку верхнюю одежду, гости направились на звуки голосов.
Немалую часть пространства закутка, куда они вошли, занимал длинный раскладной стол. Справа у стены – кожаный диван, изрядно потёртый, но ещё крепкий. Напротив него и с обеих сторон стола – с десяток разнофасонных стульев. Неяркий свет двух наскоро прикрепленных к стене бра освещали это прямоугольное замкнутое пространство.
Мокия Федуловича Пашенька видела впервые. Сидел он развалившись, закинув ногу на ногу, в дальнем конце дивана, в профиль. Суховатое лицо его было тщательно выбрито, волосы аккуратно зализаны назад. Представлялся явно не желающий стареть бодрячок, года три как овдовевший и вроде бы не прочь, как проговорился Илье, а тот Кате, а та Пашеньке, «не поджениться, нет, а жениться, аки и подобает, с «Многими летами», но без участия Мендельсона».
Подойдя к столу, Ваня заглянул в заварной чайник, потрогал руками большой, предложил сёстрам и, когда те отказались, налил себе. Катя с Пашенькой присели на диван. Разговор, видимо, шёл серьёзный, и, похоже, все, кроме Саввы Юрьевича, откровенно издевательски зевавшего, в нём принимали участие.
Вошедшим почти не уделили внимания. «Упитанный семинарист», краснощёкий и красноухий, выглядел загнанным в угол зверьком. На гостей он не обратил никакого внимания, зато второй Ванин знакомый так глянул, что Пашенька его сразу узнала, а узнав, уже не смела поднять глаз.
– Картина уничтожения Церкви, молодой человек, сопровождала всю мою жизнь! – Говорил Мокий Федулович с тою основательностью, с которой профессора читают лекции, и было видно, что всё это им давно обдумано и приведено в стройную систему. – Поэтому давайте не будем делать скоропалительных выводов – еретик перед вами сидит или человек, кровно в этом заинтересованный, – в конце концов, решать не нам, а Богу, и всё, что говорю, говорю, в первую очередь, имея в виду именно это. В отличие от вас, например, я собственными глазами видел, как сбрасывают колокола, разбирают на кирпичи или взрывают храмы, рубят и жгут в печах иконы. Я прекрасно помню то предвоенное время, когда храмовая служба была запрещена практически по всей стране. И всё это происходило через тринадцать лет после декларации выгораживаемого вами митрополита Сергия. И относительно Сталина, молодой человек, будто бы он с началом войны поумнел, вы глубоко заблуждаетесь. Церковь была выдвинута им всего лишь в качестве пешки в политической игре. Поэтому и возрождение её ничего общего ни с ним, ни с декларацией вышеупомянутого митрополита и всех его последователей не имеет. Не благодаря их малодушной капитуляции с начала войны стала подниматься из руин Церковь, а благодаря очнувшемуся народу. Если бы грехи иерархов перекладывались на весь народ, давно бы уже всё рухнуло. Поэтому и освобождение из Вавилонского пленения, если оно всё-таки когда-нибудь совершится, так совершится не уступками продажного епископата, а процессами внутренними, неисповедимыми, не прогнозируемыми даже самыми дальновидными умами. И относительно канонов, на которых якобы всё стоит, вы глубоко заблуждаетесь. Не слишком ли самонадеянно: «Нам и святому Духу изволися?» Вера, молодой человек, – это стихия, которую нельзя удовлетворительно прочесть и заключить в какие бы то ни было каноны, будь вы хоть все семи пядей во лбу. Если, по-вашему, главное «соборы», «заседания» и «постановления», при чём тут, скажите, моя душа? Как метастазы расползлись по лицу земли с незыблемыми постановлениями своих «соборов» и уверяют, что для спасения души это важно, тогда как это ни для какой души неважно, а всё сводится к борьбе за власть и комфорт, всего лишь прикрываемый борьбою за чистоту учения. Почему никто никого до сих пор так и не переспорил, вы никогда не задумывались?
– И почему же?
– Да потому, что никому такого комфорта и почёта лишаться не хочется! А что вы опять улыбаетесь? Реки крови пролили за расширение сфер влияния под видом насаждения правильной веры, а затем всё свели к специфике местных традиций. Разве не так? Так сказать, перешли к цивилизованному диалогу, который назвали экуменизмом. И это означает, что передела больше не будет, а только деятельность по заманиванию очередных экономических единиц, под видом спасения души, в свою единственно правильную конфессию. И в этом, ещё раз повторяю, основное различие, лицемерно прикрываемое богословскими выкладками и видимостью ревности за чистоту веры. Все погибнут, одни мы, правильные, спасёмся – вот что в первую очередь декларируется и вдалбливается в умы каждой новообращённой экономической единице. Разве не так? Протестанты, например, требуют десятину от зарплаты. Ватикан ничего не требует, поскольку давно понял в чём дело и хорошо устроился в экономике. Православие, как самое отсталое в этой области, да ещё находясь под большевиками, пока кровно заинтересовано в неграмотных «приношанах».
Поэтому совершенно согласен с Достоевским, который считает, что всё в религии сводится к делу конкретных личностей и тому окружению, которое создаётся вокруг них. Всё остальное – обыкновенный канцелярский аппарат. Да, необходимый, но уж никак не главный. И не смотрите на меня так, пожалуйста. Собственно, ни в одной йоте Завета я до сих пор не разуверился, а вот церковного управления, ни нашего, ни католического, ни протестантского, без оговорок принять не могу. Раннехристианское – принимаю, все последующие, организованные по ветхозаветному образцу и образцу Римской империи – нет. В первые века всё решалось не авторитетом иерархов, а мнением всего народа, соборно. А теперь что?
– Извините, но Церковь не знала поместных соборов, а только архиерейские, – со знанием дела возразил Андрей.
– «Потому что…» Ну? «Потому что…» Ну, продолжайте, молодой человек, продолжайте!
– Что продолжать?
– Предложение своё продолжайте. Вы так уверены, что заблуждаюсь я, а в данном случае заблуждаетесь вы. Церковь действительно не знала поместных соборов, а только архиерейские, это вы совершенно справедливо заметили, но это только начало предложения, которое имеет продолжение, где говорится следующее: Церковь не знала Поместных соборов, «потому что больше половины епископата было женатым, и все до одного (подчёркиваю), все до одного – избраны народом». Так если они народные избранники – для чего народу, выбравшему их, ехать с ними на соборы, когда он им и так, как родным отцам, во всём доверял? Тогда народ не только избирал, но и изгонял недостойных. Кому же, как не народу, знать, кто достоин быть епископом, пресвитером или дьяконом, а кто нет? Пока избирал народ – и священники были соответствующие, до сих пор они слава и честь Церкви, но стоило ввести имперскую форму правления – и сразу же начались разделения и расколы. Поэтому со всей ответственностью заявляю: пока народу не вернут законную власть, в Церкви будет умаляться дух Христов.
Андрей хотел было возразить, но в разговор неожиданно влетел Савва Юрьевич.
– Позвольте, Мокий Федулович! – несмотря на свою тучность, легко поднялся он. – Вот вы тут всё критикуете наше родное православие, а я, например, обеими руками – за!
– Вы?
– Я. И как раз в таком виде, какое оно существует. И знаете почему?
– Ну?
– Видите ли, я хоть и был женат дважды, один раз официально, для прописки, второй раз неофициально, и мог бы жениться без конца, но!.. Все те разы, бывшие и возможные осуществиться в будущем, – согласно нашему родному православию – я пребывал в грехе, так? Но вот прямо сию минуту я говорю себе – амба! И вот я уже не в грехе, а в истине, а, стало быть, самый что ни на есть настоящий жених! Да меня после этого в любой церкви обвенчают как невинность, и даже на белое полотенце поставят, как сохранившего добрачную чистоту, а не как какого-нибудь второбрачного прощелыгу, не сумевшего перенести «вар и зной» низменных страстей, как у них про это в требнике напечатано. Им, второсортным, даже венцы на головы не надевают. А мне наденут. Я узнавал. Ведь прежде я пребывал в грехе, а теперь – в истине! А как удобно-то! Полжизни жил свиньёй, сходил на исповедь – и ты уже ангел, разве что без крыльев. А посему – ура нашему родному православию, ура!
– Ура – невежественным попам! – возразил Мокий Федулович.
– Ну, тогда, извините, практически всем без исключения! Знаете, сколько моих знакомых, оставив по одной, по две и даже по три незаконные жены, теперь живут в святом законном браке?
– Ну, да вы, как обычно, всё наизнанку вывернете, – с недовольной миной заметил Мокий Федулович.
– Извините, Савва Юрьевич, за нескромный вопрос, – спросил Андрей. – Вы сами-то в Бога верите?
– Я-то? Действительно – нескромный, если, к примеру, предположить, что мы на худсовете нашего театра или, что ещё хуже, на партсобрании. А так, ну что? Обыкновенный вопрос. Разве что теперь об этом не принято и даже неприлично спрашивать. Но простите – как вас там?
– Андрей.
– Так вот, Андрей, мать моя – обыкновенная русская женщина, крестьянка одной из русских губерний или областей, кому как угодно, и природе своей никогда не изменяла. Учились мы, конечно, кто где хотел, а мать всю жизнь прожила на одном месте и всю жизнь верила в Бога. И даже Библию по утрам читала. Она теперь у меня, такая… настоящая, в общем, Библия, и я сам иногда её читаю… для общего развития. А в детстве, помнится, когда я в школу ещё не ходил, зимой дело было, сядет моя дорогая мама с утра пораньше у окна, в печи дрова потрескивают, в доме тишина, только её шёпот и слышно. Всегда шёпотом читала и даже не понимала, что значит – читать про себя. Так я, бывало, спущусь к ней с печи, подойду, спрошу: «Ма-ам, а тут про что написано?» Она вздохнёт, виновато улыбнётся да скажет: «Шёл-ка бы ты спать! Вырастешь – сам прочитаешь». А ты, говорю, мне дашь? Дам, говорит. Ну, я и доволен. Лезу на печь досыпать. Думаю, боялась говорить, тогда вообще об этом говорить боялись, а может, сама ничего толком не понимала. И такое бывает. Но сколько умела мистического страху напустить. Жуть! Не хуже Николая Васильевича! Лежишь, бывало, и шелохнуться боишься. Вот сейчас, думаешь, кто-нибудь тебя ка-ак схватит… ну и так далее. Я этих историй полно знаю. Были бы у меня дети, честное слово, каждую бы ночь пугал. А что? Пусть боятся. Для профилактики не повредит… Не надо спорить, Мокий Федулович. У нас в деревне говорили, кто спорит – тот кое-чего не стоит. Кое-чего – это чего зайцы нюхать не любят…
Пока Савва Юрьевич мастерски всё это рассказывал, Илья, подойдя, наклонился к Кате с Пашенькой и шепнул потихоньку: «Врет, как всегда. Он же коренной одессит и в деревне никогда не жил».
– Одессит! – обескуражив Илью своей догадкой, тотчас же согласился Савва Юрьевич, следивший за ним краем глаза. – Но в деревне я всё-таки жил – под Томском, в эвакуации, во время войны. И было мне тогда три или почти четыре года. И всё это на самом деле происходило в доме хозяйки, где мы тогда жили. Почему так рассказал? Да потому что это мой собственный рассказ, написанный от первого лица. А на рассказы я с детства мастак. Весь двор, бывало, собирался слушать. Я заливаю – ребята слушают. Например, захватывающая история о некой… не знаю даже, как поприличнее выразиться, нечто вроде Лисички из фильма Федерико Феллини «Амаркорд»… Так всё это я к тому, что тогда, в детстве, я во всё это, в демонологию эту, совершенно искренне верил. Мрак этот, как уверяют учёные и богословы, с годами рассеялся, но мне его иногда почему-то жаль. Будь моя воля, я бы всё это разрешил. Право, никакому социализму не помешало бы, хотя господин Варламов, например, и уверяет, что это идея Бердяева, но для того чтобы это понять, не обязательно быть философом, верно?
– А, собственно, кого ждём? – перебил Мокий Федулович не столько потому, что надоело слушать пустую болтовню, сколько от обиды, что этот паяц, как он его за глаза называл, посмел его перебить, и выразительно посмотрел на свои ручные часы.
Илья глянул тоже.
– Вообще-то всем было сказано – к семи. Теперь половина восьмого. Стало быть, не ждём? – спросил он скорее самого себя. – Ну что, тогда пошли… Что вы так смотрите, Мокий Федулович? Это Пашенька, Катина сестра, в гости к нам из Самары приехала.
Мокий Федулович действительно только теперь заметил Пашеньку, и взгляд его выражал откровенное любопытство. Но гораздо большее любопытство выражали глаза Ваниного знакомого, да и бывший семинарист поглядывал совсем не безразлично.
Когда Илья включил свет, Пашенька с Катей подошли к первой, если смотреть слева направо, картине. К ним присоединился Савва Юрьевич. Мокий Федулович, Андрей, Ванин знакомый, Ваня столпились у картины большой.
Минут двадцать, переходя от картины к кар тине, все молча смотрели выставку. Практически все до одной работы были по-своему замечательны, но особенно выделялось самое большое полотно, с невозможным для царившей за окнами эпохи сюжетом и однако же абсолютно верно свидетельствующей о тех подводных течениях, которые стали обнаруживать себя особенно с начала семидесятых, с каждым годом всё более и более набирая силу.
В левом углу, на фоне дома, на пороге, в проёме открытой двери, стоял старенький седой священник в чёрном, выцветшем подряснике. Редкие седые волосы доставали до худеньких плеч. В правой руке старец держал кисточку, в другой – пузырёк с елеем и кисточкой помазывал лоб подошедшей женщины в светлом платке. На крыше, которой был виден край, у ног стоявшей очереди приехавших за советом к старцу было множество голубей. Одни клевали семечки, другие вспархивали, третьи расхаживали, никого не боясь. Хорошо были видны лица всех, кого хотел изобразить художник. Были тут просто одетые женщины, девочка лет десяти. Стояли молодые люди, похожие на студентов, ищущих смысл жизни. Солидный мужчина в возрасте о чём-то беседовал с молодящейся дамочкой лет сорока, а она холёным пальцем с массивным перстнем осторожно указывала ему на старца. Лица у всех ожидающих были сосредоточенные. Но более всех, конечно, Пашеньку поразило лицо старца – кстати, был он изображён ещё на двух небольших картинах. Пашенька давно заметила – эти старческие лица чем-то очень похожи друг на друга: глубоко посаженные глаза, белый цвет лица, молитвенная отстраненность во взоре, – и много раз видела такое выражение лиц в дедушкином альбоме, давно уже была приучена относиться к старцам, как к людям особенным, но ещё ни разу ни одного живого не встречала, но встретить хотела и заранее робела. Эту робость она испытала и теперь, глядя в просветлённое лицо старца на этой и на других картинах, где тот либо занимался рукоделием, либо играл на фисгармонии, либо просто сидел под цветущей вишней в весенний полдень. Несколько замечательных пейзажей с изображением того же озера, деревенской улицы украшали выставку. Имелось несколько портретов обыкновенных деревенских старушек, с обветренными, морщинистыми лицами, напомнивших Пашеньке дедушкиных прихожанок.
Наверное, вот-вот последовал бы и обмен мнениями, но за входной дверью послышался шум, дверь распахнулась, и вслед за морозным холодком один за другим вошли трое. Первый, с гитарой в чехле, долговязый, с длинными волосами, был тот самый «ещё не всеми признанный композитор» Роман Щёкин, второй, с русыми курчавыми волосами, сероглазый, чем-то напоминал былинного богатыря в дозоре, третий выглядел добродушным дедушкой Мазаем, с такой неотразимо доброй улыбкой на бородатом лице, что Пашенька сразу же догадалась, что это и есть тот самый «сторож бывшего Морозовского особняка», к которому все ходили ума-разума набираться. Богатырём в дозоре оказался тот, кого больше всех ждала Катя, и была рада, что появился он без «звезды».
Пока пришедшие раздевались и смотрели выставку, к Пашеньке с Катей подошёл Ванин знакомый.
– Простите, вы – Пашенька?
Чувствуя, что краснеет, боясь задержать на его лице взгляд, Пашенька с усилием над собой кивнула. Катя удивлённо на сестру посмотрела, затем перевела взгляд на подошедшего и спросила:
– Вы знаете мою сестру?
– И вас. Правда, заочно, по фотографии. Тогда, в Покровском, на метеостанции, помните, с вами один непутёвый старатель хотел познакомиться?
– А-а, ну всё понятно… – тут же вспомнила, сама отчего-то немного смутившись, Катя. – Вы тот самый друг нашего Пети. Павел, кажется? И где вы теперь?
– В том году в Литинститут на заочное отделение поступил.
– Жена, дети?
– Вроде как женат, – ответил он с заминкой и с тою же заминкой прибавил: – И дочь вроде как имеется.
Катя уже хотела спросить, что значит «вроде как», но в эту минуту к ним подошёл возбуждённый Илья.
– О чём сыр-бор? Катя в общих чертах рассказала, что вместе с их Петей когда-то Павел работал старателем на Бирюсе, с Пашенькой виделись всего пару раз, но сразу друг друга узнали.
– Ах, во-он оно что! – скорее для порядка удивился Илья и, повернувшись к Павлу, кивнув на свои шедевры, ибо ни о чём другом ни разговаривать, ни думать сейчас не мог, поинтересовался: – И как вам?
– Мне пейзажи очень понравились, – почему-то уклонился от разговора по существу Павел. Было видно, что чувствовал он себя неуютно, как это бывает с теми, кто случайно оказывается в совершенно чуждой для себя обстановке, и в то же время что-то определенно держало его тут.
Илья с недоумением на него глянул, с нескрываемым разочарованием произнёс:
– Н-да.
И в это время Иннокентий, стоя перед главной картиной, по привычке покручивая кончик шкиперской бороды, с какою-то горестною задумчивостью, как будто только для одного себя, однако же и во всеуслышание произнёс:
– Тот, кто закончил своеволие, начал умирать, вступил в порядок творения, но быть ещё не начал, речи не имеет, говорить не научился, зова не слыхал, что он может сказать?
– Как-как?.. – не упустил случая ввернуть Савва Юрьевич.
Иннокентий на это даже не отреагировал.
– А поконкретнее?
– Может быть, правильнее обратиться к профессионалам? – предложил Мокий Федулович.
– Если бы мне было важно мнение коллег, я бы пригласил их. Но в данном случае меня интересует ваше мнение, – возразил Илья.
– Иначе – идея?
– Если хотите, да.
– Хорошо. Тогда спрошу. Ты считаешь, что Достоевский всё-таки не ошибся, уверяя, что спасение России придёт из кельи инока?
– С чего вы взяли? И потом, откуда ему было знать, что монастырей не будет?
– А это – что?
– Остров.
– Я про монаха.
– А почему вы решили, что это монах?
– А кто же?
– Если хотите, примета времени – старчество в миру.
– И чем он отличается от монаха?
– Тем же, чем матушка Олимпиада – от любой игуменьи.
– И чем, любопытно, какая-то матушка Олимпиада (не знаю, кстати, кто такая) отличается от любой игуменьи?
И тогда Илье уже ничего не оставалось, как только тут же объяснить:
– Матушка Олимпиада – наша хорошая знакомая, тайная схимница, в кельях бывшего монастыря с послушницей Лизаветой на Рождественке проживают. А от любой игуменьи отличается она, в первую очередь, неуставным обращением со своими, разумеется, такими же тайными послушницами, а их у неё около двадцати, и всё они для неё «деточки». Такое впечатление, что и монашество в ней какое-то школьническое, как для нашего Пети когда-то Ленин – самый добрый дядя на свете. Я всё недоумевал, почему она никогда схиму не надевает, а ведь знаю, что она у неё есть, на погребение приготовлена? А потом понял – неловко, поскольку ни в облике, ни в стиле жизни – ничего схимнического. Обычная бабуля из русской классики, на мою, кстати, чем-то очень похожая. Такая же грузная, мягкая, с пухленькими ручками, щёчками, на носу классические очки с толстыми линзами – бабушки же все слепенькие. И как у всех бабушек, первая забота у неё – накормить, и не просто – а чем-нибудь вкусненьким. А постные шоколадные конфеты! Не на одной ли фабрике их изготовляют? Так нет же, откопали с Лизаветой какие-то постные шоколадные конфеты. Какая же это схимница? Бабушка – да, которая тем только и занята, что внучат балует. И всегда у них с Лизаветой чего-нибудь вкусненькое имеется: вяленая рыбка, всякие соленья, икра кабачковая, подливки, закуски, маринады, вареньица, выпечки… И всё – постненькое, а как и непостненькое, калорийное и очень вкусное, пальчики оближешь. Так если Бог есть Любовь, к кому же Ему быть ближе, как не к ней?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?