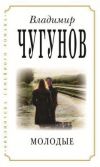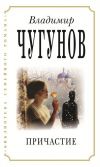Текст книги "Невеста"
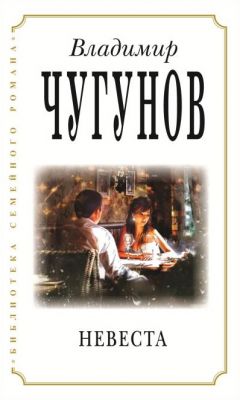
Автор книги: протоиерей Владимир Чугунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
И так, на обычном оптимистическом задоре, всё и началось. А потом без особого энтузиазма и существенных изменений целый год длилось и длилось, и даже казалось, не будет этой жевательной резине кропотливых разборов очередных ученических опусов конца, как вдруг нагрянуло довольно солидное областное совещание молодых. В качестве председателя из Москвы прибыл один из секретарей Союза писателей, выходец из здешних мест, и, разумеется, первое, о чём спросил на обсуждении, – кого из писателей Павел считает своим учителем, на что он, не задумываясь, ответил: «Достоевского». «А Горького?» – «Ну так…» С этого, собственно, и начался разгром. Ему, видите ли, Горький «ну так»! Ну, так и получи: ни чувства слова, ни чувства формы, ничего вообще… А он уж размечтался (до полночи мял подушку), что его, как кого-то из молодых знаменитостей, примут в Союз по одной рукописи.
Игорю Тимофееву, кстати, самому близкому из остальных, повезло больше. Не потому ли, что среди литературных кумиров он в первую очередь обозначил Горького?
Сидели, помнится, вдвоём после семинара в стенах Нижегородского кремля, за административными зданиями, на откосе и, поглядывая на сонный дрейф белых теплоходов, на предзакатную червонную рябь великой реки, сетовали: «А судьи – кто?»
И всё-таки шли они с Игорем своей дорогой. А однажды за разговорами о литературе прошли от верхней части города до Автозавода – часа три или четыре пути. Но даже когда пришли на улицу Фучика и оказались в заставленном антикварной всячиной кабинете товарища Петрова (литературный псевдоним того самого директора ДК, куда Павел до армии ходил в театральную студию), так и не смогли окончить начатый в верхней части города разговор. Казалось, мог он длиться целую вечность – такой же бесконечной представлялась им их собственная жизнь, в которой огорчало пока одно – непризнание: ни столичные, ни провинциальные журналы печатать их не хотели.
И читали одно и то же. По прочтении горячо спорили, причём Игорь, когда бывал с чем-то не согласен, выходя из себя, старался не столько переспорить, сколько перекричать, что случалось, правда, не так уж часто, поскольку в фундаментальных понятиях они всё же сходились. К фундаментальным понятиям в первую очередь следовало отнести их патологическую влюблённость в Пушкина, открывшегося им вдруг чудом «Маленьких трагедий», «Домиком в Коломне», потрясающе лаконичным: «беда, барин, буран».
Затем было обнажённое влажным хладом поздней осени Болдино, барский дом, с множеством (заплутаться можно) высоких двустворчатых проходных дверей, письменным столом под зелёным сукном, инкрустированной чернильницей, с забытым в ней великим хозяином гусиным пером.
И усадьба оказалась огромной, с искусственными ступенчатыми водоёмами, отражавшими свинцовую безликость неба, с маленькими колодцами, посыпанными песком дорожками, лавками, лесенками – и вокруг, куда ни глянь, безлесые, вспаханные под озимь холмы, на одном из которых махала четырьмя гигантскими крылами ветряная мельница.
Внизу, на лавочке, раздавили четвёрку и около часа с идиотическим восторгом кричали наперебой: «Нет, ты только представь себе: “Я присяду у камина,/ Загляжусь не наглядясь”. А?» – «А “лодка, веслами махая”, как тебе?»
Спустившись ниже, через лаз в заборе перебрались на одну из овражных улиц, с неказистыми бедными избами, и до полночи бродили по безлюдному селу.
Второй семинар проходил поздней осенью на пустой летней турбазе на берегу Оки под патронажем обкома комсомола. И кроме молодых писателей, были приглашены молодые актёры, режиссёры, художники, музыканты.
В первый день во время так именуемой «общей части» читал лекцию о «партийности» искусства профессор из строительного института, чем-то смахивающий на Мефистофеля, и по его (профессора, а не Мефистофеля) идее, исключительно всё выходило «партийным».
– Какие чувства вызывает, например, этот пейзаж? – спрашивал он, указывая на изображение утреннего тумана над тихой лесной протокой. – Добрые?
– Чуть-чуть ностальгические, а в целом – да, – соглашались все.
– Стало быть, – заключал эскулап, – он – партиен! Что – почему? Чему нас учит партия?
И выходило: одному добру. А стало быть, и пейзаж, и натюрморт и всё на свете – «партийно».
Это было забавно слушать. Но когда речь зашла о создании модели советского человека, по которой предполагалось штамповать подрастающее поколение, все стали многозначительно ухмыляться.
Затем читал что-то из Чехова народный артист Познанский – и чтение было захватывающим. После него изображала мадам Книппер смазливая, с выцветшими от беспутной жизни глазами артисточка.
И, наконец, закончили танцами, в которых никто, кроме режиссёра, поставившего эту жуть, да самой «мадам Книппер», участия принимать не захотел. И когда разошлись по комнатам и «сообразили», Николаю Николаевичу вздумалось пригласить «мадам Книппер» за общую тумбочку – к сожалению, ни стола, ни стульев в комнатах не оказалось, все стояли или сидели на кроватях. Вблизи это смазливое создание производило ещё более удручающее впечатление. И, однако же, скупой на похвалы Николай Николаевич не смог удержаться от комплимента о красоте, «которую трудно судить». Потом говорили с молодыми актёрами о том, что местное творчество в полном застое, что лично они ждут от нас новых пьес, а у нас, как на грех, не было ни одного драматурга. Даже поэта, чтобы украсить эту пьяную говорильню, не оказалось ни одного.
На второй день занимались по секциям. И вот тогда Николай Николаевич, по привычке одёргивая свитер и оглаживая аккуратную бородку клинышком, обронил такую фразу:
«Несмотря на недостатки, в рассказе Тарасова есть такие места, по которым можно заключить, что, если автор раньше времени не свихнёт себе шею, из него выйдет писатель не малой величины».
Поскольку рассказ этот, как, впрочем, и остальные, завернули все столичные и провинциальные журналы, Павел отнёс это замечание к разряду очередной менторской поддержки.
Но вот наконец и первая ласточка из столицы: сообщение об удачном прохождении творческого конкурса в Литературном институте (как раз с той разбитой на семинаре молодых писателей повестью), успешная на этот раз сдача экзаменов, непередаваемая на человеческом языке радость и, в довершение всего, буквально две недели назад пришедшее из редакции столичного журнала письмо: его очерк о старателях принят «Юностью», Павла просят зайти, когда будет в Москве.
И вот он тут.
В отделе очерка и публицистики встретили, в общем и целом, дружелюбно, и только несколько диковато было созерцать в редакции журнала, представление о котором всегда ассоциировалось с чистотою и наивностью юности (судя по изображению девчушки на обложке), среди стоп рукописей, как в совдепах, курящих бледнолицых, мосластых, с потухшими глазами, женщин.
– Ну что, – прохрипели ему прокуренным женским баском, – в общем и целом очерк написан, как говорится, не без царя в голове. Есть, правда, некоторые замечания. Если хотите, возьмите, доработайте, а через пару месяцев пришлёте.
Рукопись с редакционным штемпелем и профессиональной правкой казалась немножко чужой и вызывала уважение. В первые минуты чтения Павел даже не мог сосредоточиться – всё как будто где-то парил. А что будет, когда увидит очерк на страницах журнала!
«Всё это так, – вздохнул он, отходя от окна. – Но что же всё-таки произошло?»
И вдруг словно наткнулся на что-то:
«Пашенька?..»
Часть вторая
1
Хотя огоньки лампад были затеплены практически все, а на панихидном столе, перед иконой «Праздника», Распятием, чудотворной иконой «Взыскание погибших» слева от амвона, ещё перед двумя или тремя иконами, постреливая меленькими искорками, наперегонки тая, трепещущими лепестками горели свечи, а за стойкой и на левом клиросе солнечно светились простенькие бра, – в храме царил тот «предначинательный сумрак», который Пашенька больше всего любила.
Купив три свечи (в честь Святой Троицы), одну она поставила на тетрапод и помянула усопших, вторую – «Празднику» и помолилась о живых, третью – чудотворной иконе «Взыскание погибших», приложившись к которой на этот раз не попросила ни о чём.
Тяжесть бессонной ночи, отступившая во время пути, в тепле храма дала о себе знать лёгкой зевотой, задумчивой пустынностью в голове и тяжестью самих собою опускающихся век, когда неодолимо хочется только одного – спать. И если бы присела на лавочку у стены, тотчас бы и уснула, как засыпала не раз на дедушкином приходе. И Александра Степановна никогда, если только Пашенька сама не проснётся, до начала Литургии её не будила, всего лишь к концу «Шестого часа» в ожидании очередного возгласа тихонько напевала на ухо: «До-очка-а, вставай». И тогда, сладко позёвывая, Пашенька поднималась и, ещё ничего не видящими со сна глазами уставившись в богослужебный текст, покаянно винилась: «Ой, Александра Степановна, простите, опять уснула». «Ничего-ничего, – в ожидании очередного возгласа успевала ответить та. – Соберись. Скоро Небо с землёй соединять будем». По старческой ли глухоте, молитвенной ли сосредоточенности возгласы дедушка давал с задержками, иногда очень большими. И доходило до курьёза. Бывало, ждёт Александра Степановна возгласа на «Отче наш», ждёт да и не выдержит, приоткроет дверь в алтарь и нетерпеливо крикнет: «Батюшка! Изба-ави нас от лука-авого!» И дедушка сразу же «избавлял». А вообще, хорошая она, Александра Степановна, хоть и старая, как про неё говорили, дева, с малолетства самого, считай, всю жизнь при церкви – и пономарить, и просфоры печь приходилось, а в тридцатых годах, когда один за другим стали закрывать храмы, даже устраивала тайные ночные службы у себя на дому и не раз от бдительных органов скрывала заезжих священников. И Господь, как выражалась она, всю жизнь хранил её «от всякого зла и напасти». Где и на каких только приходах она не побывала, чего только не натерпелась и от властей, и от «своих» – и за всё благодарила Бога. А дедушка…
И в эту минуту дали возглас на «Третий час».
Чтобы никому не мешать, Пашенька отошла назад и встала у стены. «Часы» она знала наизусть, как и чинопоследование Литургии, и по обычаю «молящихся в храме» стала творить «молитву мытаря» («Боже, милостив буди мне, грешной»). Но так получалось, что голос чтицы, отдаляясь, не задевая внимания, постепенно переходил в мерное звучание, которым наполнялся объятый предрассветным сумраком храм. Такое с Пашенькой происходило всегда, когда она молилась не на клиросе, но теперь к этому состоянию нет-нет да и подмешивалось чувство печали или даже тоски по невосполнимой потере. И тогда она побуждала себя слушать чтицу, а потом незаметно проваливалась в набегавшие переживания опять.
Когда вспыхнуло паникадило и началась Литургия, Пашенька встряхнулась и практически всю службу простояла собранно. Вместе со всеми пропела «Символ веры», «Отче наш», и когда священник, сияя парчовой белизной ризы, вынес на амвон «Чашу», сотворила земной поклон. Причастницей оказалась всего одна девочка лет пяти, которая, приняв «дары», важно прошагала со скрещенными на груди ручками сквозь образованный немногочисленными молящимися коридор к месту раздачи «теплоты» и раздробленных просфор.
Приложившись к Кресту, к чудотворной иконе, а на выходе к изображениям ангелов («и оба с крыльями, и пламенным мечом»), на которых, занятая своими думами, даже не взглянула утром, Пашенька вышла на улицу.
После тёплого сумрака храма снежное сияние улицы ослепило. Глубоко вдохнув морозного воздуха, сама не понимая чему, Пашенька улыбнулась. И в ту же минуту (просто чудо какое-то!) услышала, сразу узнала, а затем и разглядела того, кому голос этот принадлежал. Перед нею стоял тот, кого больше всего хотела и боялась она теперь увидеть. И, должно быть, не было в эту минуту во всей Москве людей, которые с таким непраздным любопытством хотели поскорее узнать друг о друге всё.
Поздоровавшись, Павел удивлённо спросил:
– Вы одна?
– Да, – растерянно улыбнулась она в ответ. – Вчера припозднились, и Катя не поднялась. Да я и сама хорошо дорогу знаю. И запоминать нечего. Села на троллейбус или автобус – и прямо до «Моссовета». Можно и на метро, только от Пушкинской идти дальше.
– И куда теперь?
– Домой. Куда же ещё?
– Срочные какие-нибудь дела?
– Какие могут быть дела? Так, Кате помогаю. – И с подчёркнутым уважением спросила: – А вы… теперь на писателя учитесь, да? И как, нравится?
– Очень!
Бегло скользнув по его лицу взглядом, Пашенька переспросила:
– Нет – правда?
– Какая учёба на заочном? Контрольные пишу, читаю. А вообще в пожарке работаю.
– Так вы ещё и пожары тушите? – совершенно искренне, как ребёнок, удивилась она.
– Да-а! Ни одного, правда, за два года так и не потушил.
– Такие сильные?
– Жуть! От востока до запада как заполыхает – и горит, и горит!..
– Нет, правда? – с детским удивлением глянула она опять.
– Да какие у нас пожары? – засмеялся он. – Деревня! Так, для порядку держат. Да ещё чтобы по весне капусту сажать. Воду к сажалкам возим. А в первый год вообще одна машина была, и я один практически без выходных дежурил. По воскресеньям да когда срочно куда надо, на свадьбу, на концерт или в литобъединение, старичок один, пенсионер, фронтовик бывший, подменял. А в прошлом году приобрели ещё одну машину и завели посменное дежурство – сутки через трое. Теперь вообще – лафа. Двое суток, когда надо куда скататься, отдежурил – и шесть дней свободен как ветер. Почему, думаете, я здесь? Поэтому. Так что десятого вечером еду назад, но четырнадцатого намерен приехать снова.
– Значит, на крестины Иннокентия не попадёте?
– Как, разве он не крещён? – удивился Павел. Когда же услышал, что крёстным будет Трофим Калиновский, что назавтра намечается поездка в Лавру к Пете с Варей и что Петя (проговорилась всё-таки), «если ничего не случится, скоро станет дьяконом», удивился ещё больше. – А знаете что? – предложил он. – Если у вас действительно ничего неотложного нет, давайте посидим где-нибудь? А пойдёмте в нашу столовую? Сейчас как раз обед. Заодно Литинститут… где на писателей учат, – прибавил не без иронии, – посмотрите.
Пашенька колебалась недолго, мило над собой улыбнувшись, вздохнула.
– Ну пошли-ите.
– Тогда берите меня под руку. Берите, не бойтесь. Ваш Самарский (или Нижнеудинский?) жених всё равно не увидит, – прибавил он не без намека.
– Нет у меня никакого жениха, – призналась она простодушно.
– И под ручку, стало быть, вы ещё ни с кем не ходили? Неужели я первый?
– Да, вы первый, – с обезоруживающей доверчивостью призналась она опять.
– Тогда я должен проникнуться огромной ответственностью и хорошенько смотреть по сторонам, прежде чем улицу переходить.
– Да-да, пожалуйста, смотрите получше, а то я такая рассеянная в последнее время стала, – с тою же доверительностью согласилась она.
Шли практически пустыми заснеженными улочками и переулками, вдоль фасадов старинных московских особняков.
– Как вы на сестру свою похожи!
– И поэтому вы меня узнали?
– Не только.
– Почему ещё?
– По вашему взгляду.
– По моему взгляду?
– А что это вас так удивляет? Вам разве никто об этом не говорил?
– О чём?
– Что у вас такой… не знаю даже, как сказать… такой, в общем, на всю жизнь запоминающийся взгляд. Думаете, льщу? Нисколько. Как сейчас помню ту зиму, неказистый Нижнеудинский вокзал, вынырнувший из метели и налетевший с пронзительным свистом поезд…
– И что?
– И всё. Мы уехали, вы остались, – уклонился он от ответа.
– А, поняла! – весело улыбнулась она. – Это вы опять шутите.
– Какие уж тут шутки. Половину ночи не спал. Всё вспоминал. И сразу столько всего накатило… Сколько лет мы с вами не виделись – пять, шесть?
– Шесть.
– Во-от. А за шесть лет, знаете, сколько всего может произойти?
– И что же произошло? – отвернув в сторону голову, как бы между прочим, поинтересовалась она.
– Да уж произошло…
– Что?
– А вам это так необходимо знать?
Пашенька неопределённо пожала плечами, и тогда он заговорил:
– Видите ли, Пашенька, я хоть всю жизнь и не верил в Бога, может, и теперь не верю, но с тех пор как стал писать серьёзно (раньше я всё-таки писал несерьёзно), и особенно когда заново стал читать Пушкина, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, думаю об этом постоянно. И потом, что такое в обычном понимании смерть? Абсолютное же небытие – верно? И для чего тогда, спрашивается, было родиться, чтобы всё тут полюбив, ко всему привязавшись, однажды уйти навсегда? Это «навсегда» больше всего и угнетает. А порою смотрю на звёздное небо и думаю: неужели всё это появилось само собой, просто так, ни для чего? И главное – почему мне всё это нравится? А закаты, а восходы, а зимний лес? Осенние туманы ещё, игра света и теней в летние полдни, полёт майского жука, шелест листвы, шум дождя за окном в промозглый осенний вечер, «грозу в начале мая» – почему?.. Помню, однажды, в сорокаградусный мороз, насквозь продрогшие, вымотанные на нет суровостью длинных бессонных ночей, постоянной заменой спускавших колёс (у 131-го ЗИЛа, чтобы заменить колесо, надо миллион гаек открутить), чуть живые вернулись мы из дальнего рейса и, разгрузив машину, сели за стол. Хозяйка на закуску вместе с огромной сковородой жареной картошки подала нарезанного тонкими дольками розового мороженого свиного сала. И мы, хватив по стакану водки, стали им с ржаным хлебом и репчатым луком закусывать. И когда наконец в ослепительно яркий полдень поднялись на пустой машине на перевал и перед нами во всём своём снежном великолепии раскинулся Белогорск, я почувствовал такое счастье от того, что всё это вижу, что даже с какою-то особенной остротою подумал: неужели всё это однажды потухнет для меня навеки? Тогда я ещё не думал о Боге, хотя был у нас в артели мужичок по прозвищу Зёма, всё про рай, ад да мучения грешников заливал. Но ад и рай, какими он их рисовал, я, конечно, принять не мог. А вот Зосимы Достоевского слова, что «ад – это страдание о том, что любить больше нельзя», даже очень понимаю. Если на земле самое сильное чувство – любовь, наверное, нет ничего ужаснее лишиться его навсегда. А вы как считаете?
– Не знаю, я об этом никогда не думала. Как удивительно вы всё это рассказали. Я как будто своими глазами сейчас всё это увидела, хотя была в Белогорске только летом… Скажите, а трудно это – в Литинститут поступить?
– Кому как. Мне только со второго раза удалось. Первая попытка была после армии.
– Знаю.
– Да? Откуда?.. А, Петя сказал!
– Нет. Из вашей повести о Полине.
Чего-чего, а этого Павел никак не ожидал.
– Где это вы её взяли? Я Пете ничего не посылал.
– Потрёпанная такая рукопись, вся в карандашных пометках, у Вари на этажерке в папке лежала. Я нечаянно наткнулась, когда прибиралась. Открыла, смотрю, ваше имя над названием. Начала читать и оторваться не смогла.
– Ну, понял: у Трофима, видимо, выпросили, когда в Москве гостили.
– И как на этот раз удалось?
– Поступить-то? А я слово себе дал – поступить, и поступил. Не без труда, конечно.
А сколько радости, видели бы вы, было! Как сейчас вижу: идём втроём по Москве в сторону общежития, и Серёга, прозаик наш один, свою спортивную сумку, как спортсмен диск на корте, мечет. Метнёт, подойдём, поднимет, и опять метнёт.
– Зачем?
– А разве нужны какие-то объяснения? А видели бы вы первый творческий семинар! Ужас! А сшибки в общежитии! Жуть! Так что если кто вам скажет, что писатели умные, не верьте. Заверяю с полной ответственностью: все, как один, непроходимые идиоты!
– Вы надо мной опять шутите? Это потому что я ничего в вашем писательском деле не понимаю?
– Ну что вы! Просто шучу. По-писательски, так сказать. Но если вам обидно…
– Что вы! Ни капельки!
– Минуточку! – придержал он её руку, когда, пройдя мимо огромной стены МХАТа, они вышли на Тверской. – Троллейбус проедет – и переходим… Пошли!
И они поспешно перешли на заснеженный, обнесённый голыми липами бульвар, пересекли его и, преодолев вторую проезжую часть, подошли к воротам Литературного института, о чём извещала при входе в калитку доска.
– Это и есть наш Лицей! Прошу!
2
В столовой, как и всегда в этот час, было полно вечно голодных и вечно нищих студентов, поэтому длинная очередь двигалась довольно быстро. И когда наконец они расположились за столиком у окна, к ним скорее из деликатности, чем из-за ненадобности никто не подсел. Пашенька ела медленно – от стеснительности, которую испытывала в присутствии такого количества «настоящих писателей». Павел по армейской привычке быстро опустошил посуду и, подумав, что Пашенька стесняется его, сказал, что подождёт на улице, и, отнеся посуду, вышел.
И как только вышел, возле стола с подносом в руках остановился интеллигентного вида лет шестидесяти мужчина, по всему видно, профессор.
– Вы позволите?
– Да-да, конечно, – встрепенулась Пашенька.
Составляя тарелки, профессор с откровенным любопытством на неё поглядывал. И когда, отдав проходящему мимо студенту свой поднос («Захватите, пожалуйста»), сел, прежде чем приступить к трапезе, спросил:
– Вы наша студентка? Что-то я вас не помню. Не с первого курса?
– Что вы, нет, я… меня… пришла с одним вашим студентом, – пролепетала она поспешно и, отложив ложку, от страха, что её сейчас, может быть, отругают за это, ужасно покраснела.
– Да вы ешьте, ешьте! Чего вы так всполошились? – поспешил успокоить профессор. – Вы почти ничего не съели. – И когда Пашенька послушно взялась за ложку, поинтересовался: – И откуда, простите, будете, да ещё с такой великолепной косой?
Пашенька сказала, что приехала в гости к сестре из Самары.
– А сестра ваша, если не секрет, кто?
– По профессии? Врач. Детский. А муж у неё художник.
– Та-ак! И что? Учиться у нас намерены или что?
– Вы словно мысли мои читаете, – после непродолжительного молчания призналась она.
– Да что вы! Ну-ка, ну-ка, поделитесь.
– Только вы никому больше.
– Ну что вы! Можете на меня положиться, – с едва заметной улыбкой заверил он. И тогда Пашенька, заговорщицки оглянувшись, стала рассказывать:
– Я действительно, когда передумала поступать в медицинский, в ваш институт поступить решила и для этого в Доме пионеров в школе филологов занималась. В девятом классе в начале учебного года учительница по литературе объявила, что идёт набор в эту школу, и я записалась. Два года два раза в неделю на электричке ездила, чтобы узнать, есть ли у меня талант. Школой руководил заслуженный учитель эсэсэр Василий Павлович Финкельштейн. Не слышали? Нет? Что вы, такой умный! Всё про всех писателей знает! Приходили читать лекции профессора из нашего университета. В первый день недели – лекция, в другой – круглый стол: какие-нибудь произведения после прочтения разбираем или кто-нибудь чего-нибудь напишет, и мы обсуждаем. Один мальчик целую поэму про революцию написал – четырёхстопным ямбом. А я… мучилась-мучилась… думала, может, всё-таки проявится у меня талант…
– И что?
– Не проявился, к сожалению, – с печальным вздохом призналась она.
– И как вы об этом догадались?
– Василий Павлович сказал.
– Так прямо и сказал: нет таланта?
– Нет. Сказал, что талант вообще-то есть, но другой. Не такой, какой для стихов надо.
– Та-ак. И какой же?
– А вы не будете смеяться?
– Ну что вы?
– В общем, говорит, у вас, Павла Николаевна (он меня всё на вы, а одного мальчика, он ещё в музыкальную на скрипке играть ходил, Переганини звал), у вас, говорит, Павла Николаевна, талант вдохновительницы. Представляете?
– Даже более чем.
– Вы серьёзно?
– Вполне-э!
– Ну хорошо, пусть… Я понимаю, о чём вы подумали. Да вся беда в том, что в институт ваш с таким талантом не принимают.
– Ну, насчёт беды – это вы преувеличили. В наш институт не принимают – верно, да разве в другом месте нельзя вашему таланту применение найти?
– Это в каком же? – с недоумением посмотрела на него Пашенька.
– Ищите своего Достоевского… Ну вот, вы опять покраснели! На этот-то раз из-за чего?
– Удивительно, как вы всё время мои мысли читаете, – нечаянно призналась она.
– А-а!.. И поэтому вы здесь, – подытожил он.
– А вот и нет… просто с одним знакомым зашла, – только теперь догадавшись, что проговорилась, ужасно смутившись, возразила Пашенька. Не могла же она, в самом деле, признаться, что именно затем, чтобы стать подобной Анне Григорьевне Достоевской, записалась в школу филологов.
– А этот ваш, простите, знакомый… Как, кстати, его зовут?
– Павел. Тарасов. Вы даже не представляете, какую он интересную повесть написал! Я когда читала, даже плакала!
– Понятно, понятно… – и нахмурившиеся брови собрали меж глаз две глубокие морщины. – Да вы ешьте, ешьте! Стало быть, наш институт зашли посмотреть? И как вам?
– Ещё не видела. Я имею в виду внутри. А сквер красивый!.. Ой, извините, побегу! – спохватилась она и, поднявшись, стала торопливо собирать посуду.
– Что ж, всего хорошего, заходите при случае, буду рад вас видеть. А хотите, на лекции мои с вашим знакомым приходите. А ежели всё-таки вдруг надумаете, – прибавил он с едва заметной улыбкой, – ну мало ли, вдруг проклюнется у вас талант и начнёте вы, скажем, писать недурные стихи или критику, обязательно обращайтесь, чем смогу, помогу. На кафедре русской литературы спросите Михал Палыча Ярёмина – и меня сразу найдут.
– Спаси, Господи. Ой, спасибо… – тут же в смущении поправилась она, и тем вызвала ещё большее любопытство.
– Погодите-ка, – ещё на минуту задержал он её. – Поскольку мы с вами земляки – да-да, я тоже родом из Самары. Как, вы сказали, вас зовут?
– Пашенька… Павла!
– Ну да!.. Вы, Пашенька, случаем, ничего не слышали в Самаре про Калиновских?
– Про Трофима с Машей?
– А-а, стало быть, знаете!
– Как же! Петя рассказывал!
– Постойте-постойте… – опять что-то припоминая, наморщил лоб. – Уж не тот ли это Петя, который, как у нас тут шутили, «очень хотел увидеть Ленина», а жену его Варей, кажется, зовут – нет?
– Вы их знаете? О-ой! Варя же другая моя сестра! А Петя в ак… – и запнулась. – Так вы их знаете, ну во-от!
– Как же, как же – имел удовольствие! Я им тогда и поход в театр на Таганке организовал. Они, помнится, что-то ненадолго приехали и сразу всё хотели охватить. Видите, как удивительно бывает: вы случайно со знакомым зашли, я случайно проголодался, случайно к вам подсел, а оказалось, ничего случайного, а всё только продолжение одной и той же истории под названием жизнь.
– Да, удивительно! – улыбнулась Пашенька.
– Вы уж извините за навязчивость, – сказал он опять, – и не подумайте чего-нибудь плохого. Но мне так просто не хочется с вами, как с землячкой, расстаться. Может быть, всё-таки дадите телефон, где остановились, или мой запишите. Нет-нет, – поспешил заверить он, заметив её растерянное движение. – Просто у меня имеются кое-какие возможности. Например, как уже сказал, в любое время и совершенно без всякого труда достать билеты в театр на Таганке. Слышали про такой? – Пашенька, как школьница на уроке, виновато потрясла головой. – Тем более интересно будет посетить. Чисто по-дружески, если хотите, отечески или как земляк землячке предлагаю.
– Ну дава-айте, – ещё не понимая, хорошо это или плохо, протянула она.
И Михаил Павлович, достав из грудного кармана пиджака записную книжку с ручкой, записал номер телефона, который Пашенька продиктовала, на другом листе размашистым профессорским почерком написал свой и, вырвав, протянул смущённо стоявшей перед ним девушке. Смущало ещё и то, что практически со всех столов на неё, как на невидаль с длинной косой, с нескрываемым любопытством посматривали студенты. А студенты, особенно такого повёрнутого на сто восемьдесят градусов против течения вуза, всё неординарное тотчас же примечали.
Глянув на пылавшее пожаром Пашенькино лицо, Павел поинтересовался, что произошло. И когда узнал, заметил, что Михаил Павлович на самом деле один из любимейших преподавателей института, пушкинист, фронтовик.
– А слышали бы вы Юрия Селезнёва! Специально приезжаю его спецкурс по творчеству Достоевского слушать! У нас он на втором курсе читать будет. Ну что, идёмте?
И они направились к парадному крыльцу главного учебного корпуса. Сквер утопал в снегах. Лежал снег и на скамейках, и на парапете копьеобразной ограды, и даже на голове и плечах кем-то разбуженного Герцена.
Войдя через остеклённые двери, по старинной дворянской лестнице поднялись на первый этаж. Павел потянул на себя ручку высокой массивной двери справа.
– В этом зале у нас обычно проходят творческие семинары, – сказал он, пропуская Пашеньку вперёд.
– А это что значит? – спросила она, с любопытством разглядывая довольно просторный зал с рядами кресел, с проходом посередине и небольшой домашней театральной сценой впереди.
– Студенты читают работы друг друга и разносят в пух и прах. Руководитель в конце высказывает свои замечания, попутно давая оценку выступлениям. У нас этих обсуждений ждут как манны небесной и боятся пуще огня.
– Почему?
– Ты над своим детищем, как Кощей над златом, чахнешь, а его на твоих глазах превращают в ничто. Это всё равно что страстно влюблённому наговорить гадостей о его возлюбленной. Но ничего не поделаешь, приходится выслушивать, иначе не будет творческого роста.
– Не понимаю, зачем говорить друг другу неприятности, когда мне, например, понравилось.
– К сожалению, господам писателям, как и всем сумасшедшим, нравится только своё. Нет, бывает, и хвалят. Даже некоторые вещи проходят на ура. Но очень редко. Ну что, идём дальше?
Покинув аудиторию, поднялись выше. В январе в Литинституте, как и во всех других вузах страны, шли экзамены, а в этот прекрасный морозный день – предэкзаменационные собеседования. Но по четвергам, обычно вечером, у многих проходили творческие семинары, и Павел сказал, что, перед тем как отправиться вчера в мастерскую, побывал на семинаре Михаила Петровича Лобанова, заметив при этом, что семинары прозаиков на их курсе в этом году набрали Амлинский с Лобановым и что первый прозаик, а второй критик. «Есть ещё семинары поэтов, драматургов, первый раз в этом году набрал семинар очерка и публицистики Черниченко. Тоже известный. Семинары у нас ведут практически одни известные».
Когда, всё осмотрев, вышли на улицу, Павел предложил погулять по Москве. Пашенька согласилась при условии прежде откуда-нибудь позвонить домой.
Позвонили с телефона-автомата у входных ворот. Катя, разумеется, была ужасно недовольна, требовала, чтобы «глупая девчонка» немедленно ехала домой, но Пашенька, внимательно выслушав словесную бурю, спокойно ответила: «Да-да, Кать, я скоро буду».
Когда пересекли проезжую часть и по широкой вычищенной дорожке Тверского, меж чёрных лип, направились в сторону памятника Пушкину, речь зашла о вчерашних разговорах в мастерской, а именно, о споре Иннокентия с Мокием Федуловичем, которого Пашенька с Катей не слышали. А разговор зашел о природе самодержавной власти и, само собой, коснулись личности последнего царя. Мокий Федулович с присущим ему академизмом пытался доказать, что Николай II сам во всём виноват, что своими тайными встречами с Григорием Распутиным давал повод распространению нелепых слухов, чем уронил значение самодержавия в глазах народа. И вообще, уверял, за всю русскую историю на престоле впервые оказался такой безвольный и бездарный царь, на что Иннокентий возразил, что царь тут ни при чём, просто ему в духовном и нравственном смысле досталось от государства то, что в медицине принято называть раком четвертой степени.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?