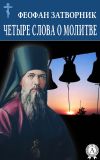Читать книгу "Безвидный свет. Введение в изучение восточносирийской христианской мистической традиции"
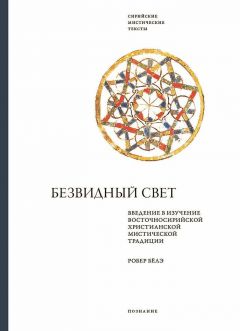
Автор книги: Робер Бёлэ
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
В текстах как Макария, так и восточносирийских мистиков, которые мы приводили до сих пор, неоднократно встречались упоминания о непрестанной молитве или о постоянной памяти Божией (или равнозначные выражения). Утверждение о необходимости непрестанной молитвы очень характерно для сочинений псевдо-Макария109. Это также один из тех элементов, который восточносирийские монахи охотно восприняли из поучений, приписываемых в Апофтегмах Макарию Египетскому (которого вместе с Макарием Александрийским наши отцы отождествляют, напомним, с автором всех макариевских писаний). Об этом свидетельствует следующее изречение аввы Макария, приводимое Фомой Маргским110: «Блаженный авва Макарий, быв спрошен братьями: “Какое из подвижнических деланий (pulḥānē d-‘anwāyūṯā) приносит с собой награду?” – ответил так: “Нет ничего выше непрестанной молитвы. Ведь демоны до последнего пытаются прекратить ее, ибо знают, что ею уничтожаются все их ухищрения”»111.
Можно найти сходство между этим наставлением и отрывком из первой Мемры сирийской версии Макария: «Вершина всякого владычества добродетелей и лучшее из всего, что есть благого в душе, – это постоянство в молитве, [непрестанно] устремленной к Богу»112. Молитва – для Макария, как мы скоро увидим, она является прежде всего молитвой сердца – может иметь в качестве синонима выражение «память Божия», которая, как и молитва, должна быть постоянной113. Как молитва, так и память Божия являются деланием сердца, исходят из него и совершаются в нем; в той же первой Мемре (Макария Египетского) сказано: «Не станем соединять в нашем сердце вместе благое и злое, но будем пользоваться только благим через память Божию и попечение о Боге в нашем сердце»114; и в другом месте, в отрывке, где Макарий поясняет, что непрестанная молитва есть та самая молитва Духа в нас: «Когда благодать возобитала в человеке, она [благодать] не перестает молиться, ибо Дух непрестанно молится в нем. И это есть степень великих и совершенных: ходят ли они, говорят ли – непрестанно у них на устах и в сердце молитва, устремленная к Богу»115. Хотя она может быть и гласной, как об этом сказано в только что процитированном тексте, Макарий прежде всего имеет в виду молитву, совершаемую в сердце, когда говорит о непрестанной молитве и призывает молиться «непрестанно, а не только во время [гласной уставной] молитвы»116 и «усердно пребывать в молитвенном безмолвии»117.
Следы этого учения о непрестанной сердечной молитве у восточносирийских мистиков многочисленны. Например, мы уже видели, что Дадишо Катарский цитирует фрагмент из сирийской версии Макария о непрестанной памяти Божией118. Он также упоминает119, говоря о пользе безмолвия, «постоянную память Божию и забвение всякого [иного] памятования», как раз цитируя по этому поводу авву Макария: «Нужно, чтобы пребывающий в безмолвии не имел совершенно никаких воспоминаний, когда он пребывает в келье»120. В другом месте121 он говорит о непрестанной молитве как об упражнении и как о даре Божием122.
Симеон д-Тайбуте, в свою очередь, пишет, что «молитва любви есть родник, который никогда не перестает струиться»123, и прибавляет, что эта молитва есть дар Божий, который подается тогда, «когда сердечный источник возжжен огнем любви»124; молитва тогда состоит в том, что «ум (mad‘ā) непрестанно славит Бога на ангельском языке»125. Он также говорит о «постоянном воспоминании благодеяний Божиих»126 и о необходимости «днем и ночью неослабно пребывать у дверей сердца»127, – это бдение, если оно состоит в охранении сердца от нападения страстей, также является одной из сторон практики памяти Божией128.
У Сахдоны, хотя он, по-видимому, относительно мало говорит129 о постоянной памяти Божией и непрестанной молитве, встречается тем не менее такое прекрасное выражение: «Чувственный воздух станет, быть может, не так близок дыханию наших внешних чувств, как Дух Божий будет постоянно пребывать в нашем сердце, и в нем будет проноситься память о Нем во всякое время»130, а также следующее весьма содержательное высказывание: «Они должны непрестанно прилежать сокровенной сердечной молитве и к духовной заботе о помышлениях»131.
Исаак Ниневийский в одном отрывке из De perfectione religiosa говорит о непрестанной молитве так, как будто решил собрать вместе аллюзии на многие макариевские тексты, цитированные выше. На вопрос: «‘‘Какова та вещь, которая объединяет все дела монашеской жизни так, что когда кто-либо достигает ее, он знает, что подошел к концу этого образа жизни?” – он отвечает: “[Это бывает] когда удостаиваешься постоянства в молитве. Достигший этого пришел к пределу всех добродетелей132, и отныне человек становится жилищем Духа. [Действительно,] если кто-либо не получил поистине дара Утешителя, он не может пребывать в тишине этого постоянства в молитве. Ибо Дух, когда вселился в человека, не прекращает молиться: Сам Дух непрестанно молится [в нем]133. Тогда, спит ли он или бодрствует, молитва не прекращается в его душе: ест ли он или пьет, уснул ли он или делает что-либо134, и даже когда он погружен в глубокий сон, благоухание молитвы без усилий разливается в его сердце. Молитва, которой он отныне обладает, не есть молитва по предписанию, но [молитва] на всякое его время”135»136. В другом месте Исаак рассматривает непрестанную сердечную молитву в связи с ее деятельной стороной и говорит, вновь используя терминологию Макария: «Разумное жительство (dubbārē d-re‘yānā) есть сердечный труд, который совершается беспрерывно чрез размышление (marnīṯā) о великом грядущем Суде, чрез непрестанную сердечную молитву и [чрез помышление] о Промысле и о попечении Божием в отношении сего мира […]»137.
В то же время, хотя Исаак и в других местах упоминает о непрестанной молитве138, можно было бы ожидать, что он скажет о ней больше. Относительная редкость мест, посвященных непрестанной молитве, в творениях Исаака объясняется, как я думаю, тем, что термин «молитва» у него в общем и целом не применяется к общению с Богом, которое бывает при достижении степени духовного совершенства. Под влиянием ошибочного перевода одной из глав Сотницы Евагрия139, он воспринял терминологию, которая располагает молитву, собственно относящуюся к душевной степени, на степени духовной (или же степени совершенства), характеризуемой изумлением (tahrā) пред Богом, которое заставляет ум позабыть самого себя и все, что не является Богом140. Впрочем, это изумление иногда называется «духовной молитвой»141, и на этом этапе можно говорить о «памяти Божией»: «Те, коих Дух ведет через созерцание, […] уже не имеют нужды в продолжительной молитве […]: одной памяти Божией достаточно для них […], поскольку они никоим образом не являют пренебрежения к занятию молитвой, но воздают ей почтение, вставая в определенное время, не говоря о той молитве, [которая совершается] непрестанно»142.
Это замечание относится также к Иосифу Хаззайе, который среди всех цитируемых нами авторов более всего испытал влияние Евагрия143. Впрочем, как у Исаака, упоминание о непрестанной молитве в его сочинениях не отсутствует, однако она является лишь подготовительной ступенью для перехода на высший духовный уровень; непрестанная молитва у него рассматривается более всего в ее деятельном аспекте, который объединяет ее с добродетелями (исполняемыми, впрочем, под влиянием Духа). Так, он говорит, что «никто не может стать достойным божественных откровений и видений […] без непрестанной молитвы»144. Также среди признаков достижения душевной степени он отмечает следующий: «Ни на одно мгновение твой ум (mad‘ā) не перестает помнить о Боге, и его язык непрестанно произносит в твоем сердце сокровенную молитву»145. И даже тем, кто достиг духовной степени, подобает «не оставлять в пренебрежении деятельные орудия, служащие для сего извлечения прибыли, которые суть умеренный пост, непрестанная молитва телом и умом (mad‘ā), смирение и любовь друг ко другу»146. Однако он уточняет, что среди этих добродетелей непрестанная молитва стоит особняком: «Я говорю здесь не о молитве, совершаемой в определенное время, но о той, которая постоянна и никогда не прекращается […]: она есть совершенство всех заповедей»147.
Что касается Иоанна Дальятского, то, хотя и ему известно то, что превосходит молитву148, он, несомненно, является среди наших писателей автором, который больше всего говорит о непрестанной молитве и памяти Божией, что объясняется, как я думаю, постоянным и глубоким влиянием Макария на его мистическую мысль. В моей книге Духовное учение Иоанна Дальятского я посвящу главу его учению о памяти Божией149. Сейчас отметим лишь макариевский характер этого учения и то, что для него истинная непрестанная молитва есть то «оцепенение» (temhā), которое приостанавливает обычную молитву: «непрестанная молитва есть оцепенение в Боге»150.
3.2.3. Смирение сердца и любовь к ближнемуСреди качеств сердца, занятого непрестанной молитвой, Макарий151 настойчиво упоминает его глубокое смирение, употребляя выражения, которые мы найдем и у наших восточносирийских писателей.
Достигнув смирения тела, говорит Макарий, подчиняя его постом, бдением, многими молениями и т. п., монах получает «смирение сердца»152, которое есть «смирение разума (re‘yānā), пребывающее внутри сердца»153. Оно состоит в том, что «Утешитель полагает закон в сердце чистой души, дабы она ставила себя ниже всякой твари и не смотрела на людские прегрешения»154. Тогда «душа, которая возлюбила Бога, […] не думает о себе, что она сделала что бы то ни было доброе»155, и «в своих глазах она ниже и ничтожнее всех людей»156.
В сочинениях восточносирийских мистиков можно найти довольно много мест, которые, по-видимому, являются отзвуком этих отрывков из сирийской версии Макария. Например, у Исаака Ниневийского: «Поистине, смирен тот, кто, имея сокровенно у себя нечто достойное гордости, не гордится [этим], но в помыслах своих [думает о себе], что он – прах»157; и: «Человек, достигший совершенного смирения, есть тот, который не имеет нужды находить в разуме (tar‘īṯā) своем причину для того, чтобы смиряться. Он исполнил [все, что был должен исполнить], но [однако] этот помысел пребывает в нем как бы естественно и не требует усилий, так что даже если он получит внутрь себя великий дар, который все творение не может вместить, он почитает себя в очах своих ничтожным грешником»158.
И у Иосифа Хаззайи: «Второе же знамение, о брат мой, по которому ты почувствуешь, что Дух, Коего ты восприял от Крещения, действует [в тебе], состоит в следующем. В твоей душе рождается истинное смирение; <не о плотском [смирении] говорю я, но о том истинном [смирении],>159 которое [происходит] из души; при котором, в то время как великие и дивные [вещи] совершаются у человека Духом, живущим в нем, он почитает себя “прахом и пеплом”160, и “червем, а не человеком”161, а все [прочие] мыслятся в очах его великими и святыми, когда нет в мысли его ни доброго [человека], ни злого, ни праведника, ни грешника»162.
У Иоанна Дальятского: «Бывает, что благодать посевает смирение в сердце такового [монаха] и полагает его помыслы ниже праха и пепла»163; «Когда человек пробудился от нерадения и расслабления и предался труду покаяния, устраняясь от бесед и встреч с людьми; и [когда] тело было ослаблено и сердце смирилось в слезах и скорби; и [когда] вследствие непрестанного продолжительного повергания пред Богом сделались мертвы все движения, воздвизающиеся страстным образом; и [когда человек], в сокрушении сердца, соделался в собственных очах презренным, уничиженным и ниже всего […]»164.
В некоторых из только что процитированных текстов можно заметить четкую связь между смирением сердца и состоянием, когда не видишь людских прегрешений165. Мистическим плодом сердечного смирения является невозможность видеть зло в других или, точнее, как говорит Иосиф Хаззайя, видение человека по тому образу, в котором он был сотворен и который вновь обретет в вечной славе166. Эта связь между смирением сердца и любовью к ближним, которую мы встречаем одновременно у Макария и у Иосифа Хаззайи, может быть признаком макариевского влияния на сложившееся у восточносирийских мистиков понимание смирения сердца (определенные аспекты такого понимания можно, безусловно, найти в монашеской традиции в целом).
Относительно дара не видеть людских прегрешений, упоминание о котором мы находим в сирийской версии Макария, но в менее определенной форме и без такой разработки вопроса, как у некоторых из наших авторов167, – приведем следующий текст Симеона д-Тайбуте: «Когда благодать действует в нас, свет и рачение (reḥmṯā) к людям так разливаются в зеркале сердца, что в мире уже не существует ни грешников, ни злых»168; а также высказывание Иосифа Хаззайи: «Блаженна душа, если она не унижается до вкушения с древа познания добра и зла, то есть до различения грешников и праведников, хороших и дурных»169; и слова Иоанна Дальятского: «Как тот, кто закрывает свои очи, не видит тел, так и тот, чье сердце чисто, не ведает дурных деяний людей»170.
Основу этой мистической любви объясняет нам Иосиф Хаззайя (но здесь влияние Макария, кажется, дополнено влиянием Иоанна Отшельника171): «Ниспадает в душу рачение (reḥmṯā) ко [всем] людям и непрестанное прошение об их обращении. И когда [ум] взирает внутрь себя, он видит всех “по подобию образа Божия”172, в котором они были сотворены. Здесь, в сем видении, присущем этому состоянию, нет ни праведника, ни грешника, “ни раба, ни свободного, ни обрезания, ни необрезания, ни мужеского пола, ни женского”, но всё и во всех зрится Христос173»174. О том же самом, с некоторыми оттенками и уточнениями, говорится в Послании о трех степенях иноческого жития так: «В то же самое время, когда он видит их немощи и низость их грязи […], он услаждается […] той великолепной славой, в которой они будут пребывать после воскрешения из мертвых»175.
То же учение находим у Исаака Ниневийского: «Пусть это будет для тебя точным знаком ясности (šap̄yūṯā) души твоей: когда, наблюдая за самим собой, [видишь, что] ты преисполнен сострадания ко всем людям и в жалости по отношению к ним твое сердце изнемогает и горит, будто в огне, – без различия лиц. […] через это в тебе постоянно будет виден оный образ (ṣūrtā) Отца Небесного [= тот, по которому они были созданы]»176.
Этот текст Исаака подводит нас к обсуждению другого аспекта сердечной любви к людям – ее пламенного характера177. Мы еще рассмотрим далее все то, что восточносирийские мистики (и особенно Иоанн Дальятский) заимствовали у Макария в их употреблении символики огня, но здесь отметим, что мысль о связи между действием огня Духа и очищением сердца от всякого видения зла – упоминание о чем неявно содержится в вышеприведенном тексте Исаака и явно, как мы сейчас увидим, у Иосифа Хаззайи – может быть навеяна одним из отрывков сирийской версии Макария: «Жар этого огня очищает сердце, испытует и просвещает его […]. Сожжем же в этом огне бревно, которое находится в очах нашего сердца, чтобы, очищая взор нашей души, достичь ей состояния чистоты своего естества и того состояния, в котором Бог создал душу в начале, так что уже ничто не мешает ей понимать, когда она созерцает чудеса законов своего Создателя»178. Хотя в конце этого отрывка не уточняется, каковы чудеса, созерцаемые душой, и речь здесь идет о состоянии самой души во время ее создания, а не – как в цитированных выше текстах – о видении первозданной природы других людей179, упоминание евангельского бревна180 подразумевает сопоставление с видением прегрешений других (видение, которое исчезает, когда сердце, по терминологии Макария, очищено огнем, а душа возвращается к своей изначальной чистоте).
Впрочем, это сопоставление куда менее явное, чем сделанное А. Гийомоном181, который использует один из текстов греческих Бесед псевдо-Макария, в связи с одним местом на ту же тему у Иосифа Хаззайи: «Когда помысел твой простирается ко всем людям, слезы источаются из глаз, словно потоки вод, и все люди будто пребывают в сердце твоем, и ты обнимаешь и лобызаешь их с рачением (reḥmṯā), изливая в любви твоей (ḥubbāḵ) благость твою на всех. И, когда ты вспоминаешь о них, пылает сердце твое, словно огонь, силою действия Духа в тебе. И от сего в сердце твоем рождается благость182 и наслаждение, в котором ты не можешь ничего [дурного] сказать [никакому] человеку, и помысел твой не приемлет по отношению к кому бы то ни было злого расположения183, но ты благотворишь всем людям мысленно и в действительности184»185. Профессор Гийомон с этим текстом сопоставляет следующий отрывок из греческой Беседы 18:8186: «Но иногда [они] как бы плачут и сетуют о роде человеческом и, молясь за целого Адама, проливают слезы и плачут воспламеняемые духовною любовию к человечеству. Иногда такою радостию и любовию разжигает их Дух, что, если бы можно было, вместили бы всякого человека в сердце своем, не отличая злого от доброго. Иногда в смиренномудрии духа столько унижают себя пред всяким человеком, что почитают себя самыми последними и меньшими из всех»187.
Очевидно, что это сопоставление гораздо более убедительное, чем сделанное нами выше с текстом сирийского Макария, особенно если заметить упоминание у Иосифа Хаззайи и в греческом Макарии о пребывании людей внутри сердца, которого я не нашел в имеющихся сирийских рукописях Макария188. С другой стороны, если и рассматриваемые восточносирийские писатели, и сирийский Макарий связывают любящий взор с видением образа Божия в человеке или же чистоты его изначального состояния (понятие, которое отсутствует в процитированном выше отрывке из греческого текста), то можно отметить, что такое рассмотрение других в их первозданной полноте может иметь в качестве источника учение Иоанна Отшельника о видении людей, даже грешников, во славе, которая будет им дана, – видении, основанном на духовной любви, которая направлена на людей189. Эта связь между Иосифом Хаззайей и греческим текстом Бесед псевдо-Макария также наводит на мысль190 о том, что восточносирийские авторы могли располагать более пространной редакцией сирийского перевода Макария, чем та, что дошла до нас.
3.2.4. Любовь и рачение191Другой вероучительный аспект, касающийся деятельности сердца, по-видимому, тоже связан с влиянием Макария: это различие между любовью (ḥubbā) и рачением (reḥmṯā). Иоанн посвящает этой теме целую беседу192, основное содержание которой применительно к данному вопросу мы приводим ниже.
Под любовью Божией (ḥubbēh d-’Аlāhā, то есть любовью к Нему) Иоанн подразумевает устремление, одновременно активное и внушенное благодатью193, которое побуждает с радостью194 трудиться над все более и более совершенным исполнением заповедей195, заставляет покинуть мир, чтобы полностью посвятить себя служению Богу196, и стремиться к такому единению с Ним, о котором в реальности человек пока не имеет представления197. И даже если любовь опьяняет198 и сожигает199 его в желании посвятить себя Богу, она, однако, пока является делом рабов, которые обязаны повиноваться200.
Рачение же свойственно сынам201, которые опытно познали, что они призваны уподобиться своему Отцу и стать с Ним одним202. Оно есть некое совершенное приятие203, претерпевание, относящееся к измерению высшему, нежели аскетическое усердие, вызванное любовью204, – всепоглощающее желание зрения красоты Божией205, которое освобождает от всякого иного желания206, поскольку этим видением сила естественного влечения души изменяется в желание Бога207. Одним словом, оно есть мистическое совершенство любви208. Собственно, именно к нему прилагается символика опьянения209 и возгорения210, поскольку именно оно делает саму любовь по-настоящему пламенной211, хотя огонь рачения должен распространяться в мирном состоянии исступления и единения212.
Большинство этих черт, приписываемых Иоанном Дальятским любви и рачению, можно найти в текстах сирийской версии Макария213. Некоторые из них также встречаются, как мы увидим, у Григория Нисского, но ввиду постоянного и прямого влияния214 Макария на Иоанна Дальятского (о чем у нас еще будет возможность поговорить), именно в сочинениях Макария нужно прежде всего искать источник этих понятий.
Хотя Макарий215 и не делает явно выраженного различия между любовью и рачением216, употребление им этих двух терминов показывает тем не менее, что он придает каждому из них вполне определенный смысл.
Любовь (ḥubbā) для него особенным образом связана с соблюдением заповедей217. Вот почему она находится среди добродетельных деяний218 или связана с ними219. Но она не является плодом одного только человеческого усилия, поскольку она есть дар Господа220 и, в частности, Его постоянное присутствие в сердце и помыслах221. Именно благодаря ее возгорению (reṯḥā)222 можно с легкостью соблюдать заповеди Божии223. Впрочем, как кажется, в развитии любви под действием благодати224 существуют степени225 – от простого возгорения (или пыла) в делании добродетелей, через ежедневно увлекающую226 «духовную любовь»227, к «любви небесной»228, возженной божественным огнем229, которая поглощает230 вкусивших ее231 и соединяет их с Господом232. Отметим здесь, что, даже если любовь, согласно Макарию, фундаментальным образом связана с деланием заповедей и добродетелей и с направленностью душевной воли к Богу233, вполне естественным представляется ее пребывание в человеке даже до момента мистического единения, которое связано с рачением234; ведь слово ḥubbā (любовь) у Макария имеет все значения новозаветной ἀγάπη и, как он напоминает (цитируя 1 Ин. 4:8.16), «[Сам] Бог есть ḥubbā». Термин ḥubbā действительно является передачей слова ἀγάπη при переводе Библии и греческого Макария235, тогда как термином reḥmṯā (рачение) переводится в этих текстах слово ἔρως236.
О рачении сирийский Макарий говорит, что оно поглощает237, побеждает238, пленяет239, – как это мы видели и у Иоанна Дальятского, который настаивает на том, что оно есть воспринимаемый и полностью претерпеваемый дар. Для Макария оно также есть неутолимое240 желание241, вызываемое действием Святого Духа242, жажда пития, которым является оно само243, и опьянение244 сияющей красотой божественной природы245. Итак, для Макария рачение, по-видимому, это собственно мистическая любовь, которой свойственно желание единения с Божеством, тогда как любовь – это главным образом ревностная отдача себя и приведение своей воли в соответствие с волей Возлюбленного.
Однако весьма знаменательно, что сирийский Макарий246 связывает божественный огонь исключительно с любовью, а не с рачением247. Напомним по этому поводу, что у него, как кажется, существует тесная связь между рачением и высшей степенью любви, которая является ее расцветом (то есть «небесной любовью» или даже просто «духовной любовью»248), – связь, которой могло бы объясняться отличие в этом аспекте с Иоанном Дальятским, обычно связывающим огонь с рачением. Также напомним, что для Иоанна огонь не является неотделимым от рачения элементом, поскольку он утверждает, что на своей высшей степени рачение больше не обладает свойством огня пылать. Как бы то ни было, связи между Иоанном Дальятским и Макарием в том, что касается в целом темы любви и рачения, можно проследить достаточно четко.
У Иосифа Хаззайи мы встречаем употребление терминов, аналогичных любви и рачению, но менее ясно выраженных, чем у Иоанна Дальятского. У него любовь также есть одна из добродетелей249, в то время как пламенное рачение характерно для дара созерцания бестелесных250. Однако еще выше располагается понятие «совершенная любовь»251: хотя в другом месте Иосиф и говорит, что на духовной степени (то есть, согласно ему, степени, которая находится выше созерцания бестелесных252) «душа преисполняется любви и рачения Бога»253, но на самом деле для него, как и для сирийского Макария, существует связь между рачением и совершенной любовью: «Для любви естественно пылать рачением»254.
У других восточносирийских мистиков, представленных в данном исследовании, я не заметил255 четкого различия между свойствами любви и рачения256.