Текст книги "Стихи, песни, поэмы. В переводе Юрия Лифшица"
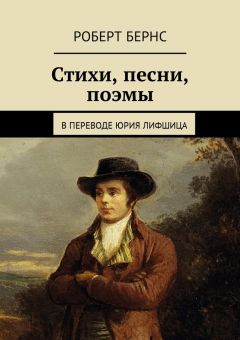
Автор книги: Роберт Бернс
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Добрый эль
А в упряжке шесть волов
плуг тянули – будь здоров!
Продал их и сел на мель —
греет сердце добрый эль!
Добрый эль, мои штаны
без тебя мне не нужны.
Продал их – в душе свирель! —
греет сердце добрый эль!
Добрый эль, я весь раздет,
у меня и девки нет.
Стыд и срам, но был бы хмель —
греет сердце добрый эль!
А в упряжке шесть волов:
плуг тянули – будь здоров!
Продал их и сел на мель —
греет сердце добрый эль!
Примечание. Скорее всего здесь в основе лежит народная песня, обработанная Бернсом.
Охота милорда
Миледи, ваш красив наряд,
где золотом цветы горят,
но юбка Дженни и корсаж
милорда вашего пьянят.
Милорд – охотник будь здоров,
но без собак и соколов:
его охота – в поле дом,
поскольку Дженни в доме том.
Миледи из себя видна,
роднёй богата и знатна,
но для его сиятельства
приданое важней родства.
За пустошью, где там и тут
бекасы в вереске снуют,
девчонка славная живет,
как лилия среди болот.
Ее движения нежны,
как песни милой старины!
А в голубых брильянтах глаз
улыбка плещется подчас.
Миледи стан, миледи речь
никак не могут не увлечь,
но та, кого ты ждешь любя,
счастливым сделает тебя!
Миледи, ваш красив наряд,
где золотом цветы горят,
но Дженни юбка и корсаж
милорда вашего пьянят.
Примечание. Оригинальная работа Бернса, сочетающая в себе традиции народной песни и баллады.
«Ладонью прикоснись к моей…»
Ладонью прикоснись к моей,
коснись моей, коснись моей
и поклянись рукой своей,
что будешь ты со мной.
Слепой Любви я был рабом,
страдал из-за нее тайком,
но стал теперь ее врагом,
пока ты не со мной.
Хотя пленял меня стократ
прелестный взор других девчат, —
твои глаза в душе царят, —
не уходи, постой…
Ладонью прикоснись к моей,
коснись моей, коснись моей
и поклянись рукой своей,
что будешь ты со мной.
Примечание. Песня написана весной 1795 г., но опубликована только в 1801 г., через пять лет после смерти Бернса.
«Если б я не оженился…»
Если б я не оженился,
то б вовек не знал забот,
а теперь жена и дети
просят каши круглый год.
Каша раз, два раза каша,
каша третий раз на дню.
У меня нет каши больше,
чтоб насытить ребятню.
С Голодухой и Нуждою
я дерусь уже давно:
только выпру их за двери, —
лезут в дом через окно.
Каша раз, два раза каша,
каша третий раз на дню.
У меня нет каши больше,
чтоб насытить ребятню.
Примечание. 1-я строфа и припев – текст народной баллады. В письме к миссис Данлоп от 13 дек. 1793 Бернс цитирует этот фрагмент (строфу и припев), прямо называя его «старинной шотландской балладой». 2-я строфа – оригинальное сочинение Бернса.
«Ты наслаждался, олух…»
Ты наслаждался, олух,
неверной красотою,
поймал надежды сполох
волшебною игрою.
Но в море ураганы
и ветер тихий самый,
и облако тумана, —
все это наши Дамы!
Любил ты без причины
их глупости и фальши,
но если ты мужчина,
пошли ты их подальше!
Найди друзей ватагу,
налей себе кларета
и спать ложись с отвагой
до самого рассвета!
Примечание. Приписывается Бернсу, хотя его авторство ничем и никем не подтверждено.
Тост
Пища есть – нет сил поесть,
силы есть – еда убога.
А у нас – и сил запас,
и еды – и слава Богу!
Примечание. Принято считать, что это экспромт, произнесенный Бернсом в конце июля 1793 за обедом у лорда Селкирка в его замке на острове Св. Марии в Киркудбрайте. Однако в весьма подробных воспоминаниях о посещении поэтом замка, которые оставил его компаньон по поездке Джон Сайм, такого рода эпизод не упоминается.
Поэмы
Два пса
Рассказ
Где, по преданью, в землях Койль
одноименный жил король,
там жарким летом как-то раз,
в полуденный примерно час,
двух псов, забывших про дела,
судьба случайная свела.
Скажу о Цезаре сперва,
любимце «их сиятельства».
Его размеры, шерсть, живот
являли всем, что он не скотт,
но завезен к нам с островка,
где славно ловится треска.
Ошейник именной имел он,
а значит, был он джентльменом,
достойным гордости ученым,
но напрочь гордости лишенным,
поскольку даже шавку мог
прижать к забору на часок.
В церквах, лабазах, кузнях, мельнях
не гнал дворняжек распоследних,
и все неслись к нему гурьбой
и с малой, и с большой нуждой.
Второй был колли – пес поэта.
Поэт – болтун, буян отпетый, —
звал своего дружка с хвостом
с младых когтей он Люатом —
в честь некой достославной псины
из песни вроде бы старинной.
Пес был умен, красив, здоров,
мог перепрыгнуть через ров
и мордой доброю своей
везде отыскивал друзей.
Был белогруд он, а спина
была кудлата и черна;
кольцом закручен и лохмат,
хвост украшал мохнатый зад.
Собаки очень были рады
сойтись тайком для променада
и сунуть нос в нору, где крот
или семья мышей живет;
пускались в долгие вояжи,
гонялись друг за другом даже,
пока, устав от всех забав,
на землю сев, хвосты поджав,
не стали меж собой опять
царей природы обсуждать.
Цезарь
Сказать мне, Люат, невтерпеж,
что ты собачью жизнь ведешь.
Дворяне-псы живут богаче,
дворовые – чуть-чуть иначе.
У лорда – рента и налог,
и уголь, чтоб он не продрог;
спит, сколько хочет, крепким сном;
сзывает слуг одним звонком;
в карете мчит на всем скаку;
сует в мошну с мою башку
монеты, не сказать, большие,
но все Георги золотые.
А в кухне днем и ночью труд:
шинкуют, жарят и пекут:
вконец объевшихся хозяев
меняет челядь, рты раззявив,
и фрикасе такое жрет,
что просто деньгам перевод.
Наш карлик-псарь – собаки злее,
зато он ест куда плотнее,
чем может бедный фермер съесть,
которому хвала и честь.
А харч какой у мужиков,
я и представить не готов.
Люат
Да, Цезарь, им хоть волком вой:
в земле копаться день-деньской,
ворочать камни, стены класть,
чтоб мужику поесть не всласть,
но накормить жену, детей,
полуодетых малышей,
ведь без его рабочих рук
семье тотчас придет каюк.
А заболеет в трудный год
или работу не найдет, —
прикинь, какая им житуха:
убьют мороз и голодуха.
Но как тут не сказать о чуде:
ведь счастливы порою люди,
причем рожают напропад
ребят прекрасных и девчат.
Цезарь
Но все пренебрегают вами,
гнобят делами и словами!
Скотов, крестьян и землекопов
милорды презирают скопом:
для них трудяга самый лучший,
как для меня барсук вонючий.
Не раз я видел в день суда,
(и сердцем плакал я тогда),
как фермер, не отдавший дань,
сносил приказчицкую брань:
под вопли, топот и божбу,
угрозы отобрать избу
стоял он, опустив лицо,
боясь промолвить хоть словцо!
Живут отменно богачи,
но голодранцы – хоть кричи!
Люат
Не так страшна, как смотришь ты,
их жизнь у края нищеты,
и так с ней сблизились они,
что не боятся искони.
То случай, то судьба слепая,
ведут их, кое-как питая,
а в час усталости для них
отраден краткий передых.
Но в жизни их всего важней
любовь жены да смех детей;
еще бедняк гордится всяк,
что и у них есть свой очаг.
А стоит кружку эля взять,
тогда и вовсе благодать:
забыв свое, твердят о том,
что в Церкви и в Стране разгром;
с одушевлением кричат,
чехвостя клир и патронат;
клянут налоги и народ,
что в Лондоне баклуши бьет.
А в Хэллоуин холоднолицый
есть повод им раскрепоститься,
когда все села всей страны
всеобщей радости полны:
веселье, шутки, переглядки —
и нет забот, и все в порядке.
И в Новый год ликует люд,
когда от вьюги дверь запрут,
и сладость пенистого эля
дарит сердцам людей веселье.
Кто курит, кто берет понюшку,
по кругу потчуя друг дружку;
дедки трындят, поддав едва;
по дому скачет пацанва, —
я сердцем таю, видя это,
и гавкаю из-за буфета.
Но прав и ты, что ежедневно
все завершается плачевно:
хороший, добрый, честный род,
несчастье в одночасье ждет:
его под корень рубит плут,
спесивый ненасытный шут,
желая подло подольститься
влиятельным и знатным лицам,
что, может быть, все силы тратя,
за родину шумят в палате.
Цезарь
Ну, друг-приятель, ты простак!
«За родину!» Как бы не так!
Милорд Премьеру смотрит в рот,
а лично слова не сболтнет.
Его труды – парад, ломбард,
театры, карты, маскарад,
а может он, приняв на грудь,
в Гаагу иль в Кале рвануть:
пошиковать, усвоить тон,
увидеть мир со всех сторон.
В Версале, Вене на зеро
кладет отцовское добро;
в Мадриде смотрит, как скотов
кончают под гитарный рев;
в Италии стремится в сквер
за дамами лихих манер;
в Германии пьет воду впрок,
чтоб снова нарастить жирок
и вылечить дары любви
от карнавальных визави.
«За родину?» Нет, за раздор,
ее погибель и разор!
Люат
Вот, черт возьми, каким путем
богатство тает с каждым днем!
Мы все в заботах и в нужде,
а наши деньги черт-те где!
Не при дворе бы сэры жили
и радовались сельской были,
счастливей были б кое в чем
Милорд и Фермер с Батраком!
Пусть мы грубы, беспечны, шумны,
порой не слишком дружелюбны,
пускаем лес дворян под нож,
пускай злословим их Госпож,
бьем куропатку или зайца,
но не обидим оборванца.
Но, Цезарь, по всему видать,
живет прекрасно ваша знать,
не зная ни забот, ни слез;
ничто ей голод и мороз.
Цезарь
Когда б со мной ты жил, дружок,
ты б им завидовать не смог.
Нет, не тревожит их покой
работа, голод, холод, зной;
и, как у бедных стариков,
не ноют кости от трудов.
Но гомо сапиенс – осел,
хоть он все Колледжи прошел!
Когда нет истинного горя,
он сам себя измучит вскоре:
при самой малости забот
малейшим злом себя гнетет.
Селянин попахал сохой,
возделал землю – и домой;
селянка с прялкой насидится,
но все равно поет, как птица.
Но Леди с Лордами от лени
приходят в умопомраченье:
угрюмы, вялы и сонливы,
хоть не больны, но еле живы;
их дни безвкусны и скучны;
их ночи смутны и длинны.
Их скачки, игры, буффонады,
в местах публичных галопады,
парады, роскошь, суета,
а в сердце – боль и пустота.
Мужчины, проиграв дебаты,
смягчают боль путем разврата:
в борделях затевают пьянку,
жизнь проклиная спозаранку.
А Дамы стайками с утра
щебечут, как с сестрой сестра,
но то, что говорят приватно,
и бесам слушать неприятно:
за чаем всех подряд честят,
глотая перетолков яд;
и от заката до восхода
гоняют чертову колоду,
спуская враз возы добра,
мухлюя, словно шулера.
Есть исключения, однако,
но в целом жизнь Дворян – клоака.
* * *
Но тут исчезло с глаз светило
и тьма ночная мир накрыла;
коровы замычали в стойле
и трутни загудели в поле;
и встали псы, лизнув носы,
решив, что лучше жить, как псы;
и прочь пошли своим путем,
условясь повидаться днем.
Примечание. Биографическая легенда связывает эту поэму с гибелью собаки Бернса по кличке «Люат». Поэт начал было сочинять «Стансы в память о четвероногом друге», но вскоре этот, в общем, тривиальный замысел уступил место более сложному, который и был осуществлен. Сатирическое изображение социальной жизни через ее восприятие «со стороны» простыми людьми или животными, или даже персонифицированными неодушевленными предметами имело к тому времени уже богатую традицию.
Тэм О’Шентер
Рассказ
Мегер и Магов сей исполнен Манускрипт.
Гавин Дуглас.
Когда торговцы спать идут
и жаждет выпить добрый люд,
на рынке тишь, и каждый рад
замок на свой повесить склад,
а кто уже надулся пенным,
себя почувствовал блаженным, —
так вот и мы давно забыли
канавы, рвы, болота, мили
меж нами и родной женой,
что копит ярость день-деньской,
по дому бродит, хмурит брови,
грозы мрачнее и суровей.
С подобной Тэм О’Шентер думкой,
из Эйра выехал, дотумкав,
что только там красивы девки
и парни вовсе не обсевки.
О Тэм, жену послушай, Кэтти,
и станешь всех мудрей на свете!
Она твердит, что ты болтун,
лентяй, кутила, глупый лгун;
что с октября, в базарный день,
до ноября ты пьяный в пень;
что с мельником гудишь, пока
не опростаешь кошелька;
что даже гвозди от подков
ты с кузнецом обмыть готов;
что по субботам неустанно
ты поддаешь в трактире Жана;
что в речке Дун когда-нибудь
и ты всплывешь, приняв на грудь;
что Аллоуэйской церкви бесы
тебя подстерегут, повеса.
О дамы! Не сдержать рыданья,
припомнив ваши пожеланья,
хотя мужчинам недосуг
внимать премудростям подруг.
Но я продолжу. – На базаре
Тэм пребывал в пивном угаре.
Горел камин и кружки эля
блаженно шли не мимо цели;
был рядом Джони-закадыка,
томимый жаждою великой:
они с неделю пили в лад,
и Тэму братом стал собрат.
Шумело песнями кружало;
еще вкуснее пиво стало;
с хозяйкой Тэм крутил амуры,
исподтишка ей строил куры,
пока хозяин скалил рот
на свежий Джона анекдот.
Снаружи завывал буран,
но Тэм плевал на ураган.
Забота, сдохни: пред тобой
везунчик, элем налитой!
Как пчелы в улей прут со взятком,
минуты шли в забвенье сладком:
король велик – и Тэм не мал,
поскольку зла не замечал!
Но радость – словно в поле маки:
нарвешь цветов – завянет всякий.
Так в речку падающий снег
становится водой навек;
так свет Полярного Сиянья
бежит от нашего вниманья;
так радуга горит в лазури,
пока лазурь не сгинет в буре.
Но время нам не обмануть,
и должен Тэм пускаться в путь.
И в полночь он – никак иначе —
седлает Мэг, родную клячу,
хотя отчаливать домой
не должен грешник в час такой.
Буянил ветер, в раж войдя,
гремя потоками дождя;
тьма пожирала молний стрелы,
гром грохотал осатанело.
Дитя в такую непогоду
поймет, что Дьявол мутит воду.
На серую кобылу Мэг
запрыгнул Тэм и, взяв разбег,
пошлепал по размытым тропам
назло ветрам, громам, потопам.
Берет покрепче нахлобуча,
во рту сонет шотландский муча,
глядел с опаскою кругом,
чтоб не столкнуться с ведьмаком,
ведь близко церковь, где ночами
хохочут совы с упырями.
А вот и брод, где как-то раз
один торгаш в снегу увяз.
Чуть дальше Чарли, пьян в дымину,
сломал себе о камни спину.
А там, под валуном, в сторонке,
нашли убитого ребенка.
А над колодцем, у омелы,
мамаша Мунгова висела…
Вот мрачный Дун: река бурлила
и ветер выл с двойною силой,
сверкали вспышки вразнобой,
бабахал гром по-над землей,
и Тэм сквозь рощицу узрел
той самой церковки придел,
где свет мерцал и шел вертеж,
и громкий слышался галдеж.
Но Джон Ячмень внушил бродяге
с прибором класть на передряги.
Нам с пивом – по колено море,
а с виски – Дьявола уморим!
И Тэм, упившись до бровей,
не ставил ни во что чертей.
Стояла Мэг, дрожа слегка,
но все ж, отведав каблука,
пошла на свет. Но Боже! Чем
донельзя ошарашен Тэм?!
С чертями ведьмы, видел он,
плясали – но не котильон, —
горели джига и страспей
в ногах у этих упырей.
В окне восточном Старый Ник
ощерил свой звериный лик,
а пудель черный, злой, шкодливый
возился с музыкой визгливой:
волынки скрежетали так,
что дребезжал дверной косяк.
Шкафам подобные, рядами
гробы стояли с мертвецами,
а те, поддавшись заклинанью,
держали свечи мертвой дланью.
Но Тэм, герой не поневоле,
приметил на святом престоле
труп некрещеного малютки,
скелет в оковах и ублюдка,
с удавкою, с открытым ртом
и высунутым языком;
пять томагавков, кровью мытых;
пять ятаганов, ржой покрытых;
петлю, душившую младенца;
клинок, что был папаше в сердце
вонзен сынком, а на клинок
налип седых волос клочок.
И было то, чего нет гаже,
о чем грешно подумать даже:
сердца святош – гнилье и прах, —
лежащие во всех углах,
и стряпчих языки с изнанки,
как ветхий плащ у оборванки.
Был Тэм раздавлен, потрясен…
Меж тем веселье шло вразгон:
волынщик дул на всю катушку,
танцоры тискали друг дружку,
скача, топчась, кружась без меры, —
как вдруг вспотевшие мегеры,
сорвав с себя свои тряпицы,
в исподнем кинулись резвиться.
Бедняга Тэм! Будь эти рожи
пригоже, глаже и моложе,
и не в засаленной фланели,
а в белых кружевах на теле, —
штаны последние, поверьте,
из плюша с ворсом синей шерсти
и я бы скинул с ягодиц
при виде этаких девиц!
А ведьмы – тощие, как былки,
костьми гремящие кобылки, —
скакали так через батог,
что я харчи метнуть бы мог.
Вдруг Тэм, взглянув на это стадо,
увидел ведьмочку что надо,
впервой пришедшую на бал, —
потом ее весь Каррик знал.
(Она шутя морила скот,
на дно пускала каждый бот,
глушила виски, эль пила
и всех пугала не со зла.)
Она была еще девчушка,
когда ей справили ночнушку:
белье короче стало вдвое,
но ведьме нравилось такое.
Бабуся, на последний пенни
купив исподнее для Нэнни,
не ведала, что внучка в нем
станцует в церкви с колдуном.
Но здесь опустит Муза крылья,
иначе рухнет от бессилья
воспеть, как Нэнни гарцевала
(сказать – как шлюха – будет мало);
как Тэм, завороженный в хлам,
не верил собственным глазам;
как Сатану смутил разгул,
волынку он в сердцах раздул;
как вновь распрыгались враги —
и Тэму вышибло мозги:
он рявкнул: «Ай да рубашонка!».
Погасло все. Его душонка
застыла. Тронул повод он —
и взвыл бесовский легион.
Как пчелы рвутся в бой жужжа,
спасая мед от грабежа;
как лютый враг летит на зайца
в надежде застрелить мерзавца;
как мчится лавочников свора
на дикий крик «Держите вора!» —
так Мэгги прочь несла копыта
от сатанинского синклита.
Бедняга Тэм! Как сельдь, поджарит
тебя в аду лукавый скаред!
Тебя дождется Кэт едва ль!
Ее удел – тоска-печаль!
Ну, Мэгги! План спасенье прост:
скорей промчаться через мост!
Хвостом вильнешь в конце пути:
чертям реки не перейти!
Но чтоб схватить за хвост судьбу,
за хвост пришлось вступить в борьбу,
ведь Нэнни во главе погони
летит, подобная горгоне,
чтоб ухватить за хвост кобылу, —
но знать кобылу нужно было!
Храня того, кто сел в седло,
крутя хвостом чертям назло,
она огузок свой спасла,
но хвост достался силам зла…
* * *
Пускай прочтут отцы и дети
правдивейшие строки эти,
чтобы мечта о крепком пиве
и рубашонке покрасивей,
напомнила об этой гонке
и Тэм О’Шентера клячонке.
Примечание. История создания этого произведения связана с именем Фрэнсиса Гроса разносторонне одаренного человека: художника, ювелира, лексикографа, любителя старины. Бернс познакомился с Гросом в 1789 г. и даже показал ему старинную церковь близ своей родной деревушки Аллоуэй (приход Аллоуэй в 1600 был объединен с Эйром, и полуразвалившаяся церковь с прилегающим к ней кладбищем представляла собой картину живописного запустения). Церковь пользовалась дурной славой: считалось, что там по ночам собираются на шабаш ведьмы и колдуны, и в народе на этот счет рассказывали всякое. Грос попросил Бернса записать для него две-три такого рода истории. Весной или летом следующего 1790 г. Бернс послал Гросу три небольших рассказа, составленных на основе народных преданий. Когда именно возник замысел написать на основе такого рода историй стихотворную повесть – не вполне ясно. Во всяком случае, первые редакции поэмы появились уже осенью 1790, а окончательная редакция – ранней весной 1791. Для эпиграфа Бернс взял 18-ю строку из пролога Гавина Дугласа к VI книге его перевода вергилиевской «Энеиды» (в оригинале – «Of Brownyis and of Bogillis full is this Buke»). Епископ Гавин Дуглас (1474? – 1522) – один из самых крупных шотландских поэтов 16-го века.
Веселые нищие. Любовь и свобода
Кантата
РечитативПесня
Когда листву с ветвей готов
смести, как стаю кожанов,
рассерженный Борей;
когда убогих и калек
зима, закутанная в снег,
терзает все сильней, —
в трактир идет веселый сброд,
бедовые отброски,
и Киске Нэнси отдает
за выпивку обноски.
И хохот, и грохот,
и песни за столом,
и ласки, и пляски,
и кружки кверху дном!
В лохмотьях, перед очагом,
сидел с мешком и тесаком
солдат молодцевато
и девку тискал, а она,
теплом и виски сморена,
глядела на солдата.
Он шлюху пьяную в уста
лобзал, объят желаньем,
но ротик свой держала та,
как блюдо с подаяньем.
Сначала – чмок, потом – шлепок,
как будто хлещет плеть;
встает солдат – сам черт не брат, —
чтоб песню прохрипеть.
Речитатив
Я Марсом был воспитан, привык к суровым битвам,
израненным, побитым хожу из дома в дом.
Ножом я в драке мечен и шрамом от картечи,
когда кипела сеча под барабанный гром.
Я ученик пехоты, я штурмовал высоты,
куда нас бросил ротный, погибший под огнем.
Но скоро мне приелась такой забавы прелесть,
когда мы взяли крепость под барабанный гром.
Потом я стал смелее во флотской батарее —
культяпкою своею я вам ручаюсь в том.
Но если в бой шагая, зовет страна родная,
и я поковыляю под барабанный гром.
Хоть я из нищей бражки, с ногой из деревяшки,
и прикрываю ляжки немыслимым тряпьем,
я так же счастлив в мире со шлюхою в трактире,
как счастлив был в мундире под барабанный гром.
Покрыт я сединою, в копне я сплю порою,
пещера под скалою – чем для меня не дом?
Но если с девкой пылкой уговорю бутылку,
дам черту по затылку под барабанный гром!
Песня
Закончил он. Раздался крик —
и задрожал кабак.
Две крысы, выглянув на миг,
забились под косяк.
«Анкор!» – промолвил напрямик
со скрипкою чудак.
Но голос девки тут возник,
запевшей для бродяг.
Когда – не припомню – была я девицей,
в парней молодых не могла не влюбиться.
Отец был драгуном, и кто виноват,
что мне приглянулся веселый солдат?
Мой первый любовник – задорный, румяный, —
как здорово бил он в свои барабаны!
Подтянут и строен, и молодцеват,
украл мое сердце веселый солдат.
Потом я дьячка-старичка полюбила
и кивер покинула ради кадила.
Он из-за меня мог отправиться в ад,
и мной был отвергнут веселый солдат.
Но мне опостылело пьянство святое,
и сделалась я полковою женою.
На мне и флейтист, и стрелок был женат —
любой по нутру мне веселый солдат.
Война умерла – я пошла по базарам
и вновь повстречалась с возлюбленным старым:
в армейских лохмотьях, ничуть не богат, —
но счастье принес мне веселый солдат.
А сколько мне жить, я не знаю, хоть тресни!
Но мне по душе и попойки, и песни.
Я пью, пока руки мои не дрожат,
с тобой, мой герой, мой веселый солдат!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































