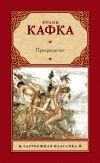Текст книги "Семейство Таннер"

Автор книги: Роберт Вальзер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава четвертая
Этим утром Каспар и Клара катались по озеру в маленькой раскрашенной лодочке. Озеро было совершенно спокойно, словно блестящее, тихое зеркало. Временами их курс пересекал небольшой пароход, оставляя за собой широкие низкие волны, которые они разрезали. Клара была в белоснежном платье, широкие рукава ниспадали по красивым плечам и рукам. Шляпу она сняла, а волосы распустила, совершенно непреднамеренно, одним красивым движением. Рот ее улыбался молодому человеку. Она не знала, что сказать, да и зачем говорить.
– Вода такая красивая, точно небо, – обронила она. Лицо ее было безмятежно, как все вокруг – озеро, берега и чистое небо. В небесной сини сквозила благоуханная, мерцающая белизна. Она чуточку затуманивала синеву, утончала ее, делала печальнее, неопределеннее, мягче. Солнце просвечивало сквозь эту вуаль, как в грезах. Во всем чувствовалась робкая медлительность, ветерок обвевал их волосы и лица, лицо Каспара было серьезно, но бестревожно. Некоторое время он энергично греб, потом сложил весла, и лодка, покачиваясь, поплыла по волнам сама собою. Он обернулся, глядя на исчезающий город, на башни и крыши, поблескивающие в туманном солнце, на людей, суетливо спешащих по мостам. Вдогонку им катили телеги и экипажи, с характерным шумом проехал мимо электрический трамвай. Звенели провода, щелкали бичи, слышались свистки и еще какие-то мощные, гулкие звуки. Внезапно грянули одиннадцатичасовые колокола – прямо в тишину и все эти далекие, трепетные шумы. Обоих захлестнула невыразимая радость дня, утра, звуков и красок. Все слилось в одно ощущение, в один звук! Для них, для влюбленных, обернулось одним-единственным звуком. На коленях у Клары лежал букет полевых цветов. Каспар снял сюртук и снова взялся за весла. Тут пробило полдень, и все эти работяги и службисты, точно муравьи, устремились в самых разных направлениях. Белый мост кишмя кишел подвижными черными точками. А как подумаешь, что у каждой из таких черных точек есть рот и сейчас она примется за обед, то поневоле рассмеешься. Сколь же удивительна подобная картина жизни, чувствовали они и смеялись. Теперь и они повернули обратно, в конце концов тоже ведь люди и тоже проголодались; и чем ближе был берег, тем крупнее становились муравьи; потом они вышли на набережную и стали такими же точками, как остальные. Только прогуливались туда-сюда, блаженствуя под нежно-зелеными деревьями. Многие любопытные оборачивались на странную пару – женщину в длинном белом платье со шлейфом и небрежного малого, у которого даже приличных брюк не нашлось и который так дерзко отличен от своей спутницы. Вот так люди обычно негодуют и ошибаются в своих ближних. Неожиданно какой-то человек стремительно шагнул навстречу Каспару. И он действительно имел причины приветствовать его таким манером, ведь был это Клаус, не видевший брата много лет. За ним следом шли сестра и еще один господин, и все поздоровались. Незнакомого господина звали Себастиан.
Симон меж тем сидел едва ли в тысяче шагов от них, в столовой, маленьком помещении, битком набитом едоками. Здесь питался разношерстный люд, которому важно было поесть быстро и дешево. Симон любил именно это место, хотя ни малейшим удобством и изыском оно похвастаться не могло. Ведь и ему приходилось считать гроши. Открыла эту столовую группа женщин, которые именовали себя Обществом умеренности и народного благополучия. И действительно, тамошний посетитель мог рассчитывать лишь на умеренное и не слишком сытное питание. Большей частью все оставались довольны, если не считать мелких, нелепых претензий. Всем, кто здесь бывал, как будто бы нравились обеды, состоявшие из тарелки супа, куска хлеба, порции мяса и овощей, а также малюсенького сладкого десерта. Обслуживание не вызывало нареканий, ну разве что могло бы быть поживее, однако ж, в сущности, шло достаточно быстро, учитывая количество голодных ртов. Каждый получал свою порцию вовремя, хотя и испытывал легкое нетерпение: дескать, хорошо бы еще побыстрее. Бесконечный круговорот: наполнение тарелок, их раздача, поглощение еды. Иной, умяв свою порцию, наверно, жалел, что уже с нею покончил, и завистливо смотрел на тех, кто еще дожидался, когда принесут то, что в общем-то вполне приятно заглотать. Почему все они ели так быстро? Нелепая привычка – есть так быстро. Обслуга состояла из вполне миловидных девушек, нанятых в окрестностях города. Очень недолго они были довольно нерасторопны, но учились не обращать внимания на иные просьбы и выигрывать время, чтобы исполнить совсем уж настоятельные, неотложные желания. Где желающих так много, желания надобно тонко различать и выбирать. Иногда приходила одна из учредительниц столовых, одна из благотворительниц, наблюдала за жующим народом. Приставив к глазам лорнет, изучала еду и тех, кто ее поглощал.
Симон питал слабость к этим дамам и всегда радовался, когда они приходили, ведь ему казалось, будто эти милые добрые женщины посещают зал, полный бедных маленьких ребятишек, чтобы увидеть, как те наслаждаются праздничной трапезой. «Разве же народ не большой, бедный, маленький ребенок, который нуждается в опеке и присмотре? – восклицал его внутренний голос. – И чем плохо, что опекают его женщины, благородные дамы с добрым сердцем, а не тираны в старинном, пусть и героическом смысле слова?» Да, кто только не питался в этой столовой, объединившись в одну мирную семью! В первую очередь ученицы. Разве у учениц есть время и деньги, чтобы обедать в отеле «Континенталь»? Затем носильщики в легких синих халатах и в сапогах, с большими щетинистыми усами и довольно угловатыми ртами. Чем они виноваты, что у них угловатые рты? Иной в отеле «Ройяль» наверняка тоже угловат ртом и носит усы. Правда, угловатость у него сглажена округлостью, но так ли уж много это значит? Были здесь и служанки без места, и бедные писари, и вообще изгои, безработные, бездомные и такие, что даже места жительства не имели. Еще здесь столовались женщины дурного поведения, бабенки со странными прическами, сизыми физиономиями, толстыми руками и наглым, но смущенным взглядом. Все эти люди, а в первую очередь, конечно, кроткие богомольцы, которых тут тоже хватало, держались, как правило, робко и обходительно. За едой все смотрели всем в лицо; никто не говорил ни слова, лишь иногда что-нибудь тихое да учтивое. Такова зримая польза народного благополучия и умеренности. Что-то чудаковатое, простодушное, подавленное и опять же освобожденное сквозило в этих жалких людях, в их манерах, пестрых, как окраска мотылька. Иной здесь вел себя куда аристократичнее, чем знатнейший аристократ ведет себя в аристократических домах. Как знать, кто он, кем был раньше, прежде чем очутился в народной столовой. Разве жизнь не перетряхивала людские судьбы, словно кости в большом игральном стакане? Симон сидел в уголке, вроде как в эркере, ел хлеб, намазанный маслом и медом, и пил кофе. «Больше мне ничего и не надобно в такой прекрасный день. Голубое небо раннего лета ласково глядит в окно на мою золотую еду. Она и вправду золотая. Только глянь на мед: нежно-желтый, сладко-золотой! Это золото так приятно растекается по белой тарелочке, а подцепляя его острым ножом, я кажусь себе золотоискателем, сыскавшим сокровище. Рядом восхитительная белизна масла, затем коричневый цвет вкусного хлеба, а краше всего темно-коричневый кофе в крошечной чистенькой чашке. Найдется ли на свете еда, что выглядит краше и аппетитнее? И она отлично утоляет голод, а мне только и нужно утолить голод и сказать: ну вот, поел. Говорят, некоторые люди превращают еду в культуру, в искусство; разве же я не могу сказать так о себе? Конечно, могу! Только мое искусство скромнее и моя культура деликатнее, ибо я наслаждаюсь малым восторженнее и щедрее, чем они многим и неиссякаемым. Вдобавок я не любитель затягивать трапезы, иначе могу легко потерять аппетит. Для меня главное – снова и снова испытывать желание поесть, вот почему ем я мало и изысканно. К тому же я имею кое-что еще: занятную беседу с все новыми людьми».
Едва лишь Симон пробормотал это или подумал, как на свободное место за столиком подсел седоволосый старик. Лицо у него было изможденное, землисто-бледное, из носа текло, вернее, на носу висела капля, большая, тяжелая, которая почему-то никак не падала. Все время казалось, вот сейчас она упадет. Ан нет, висит себе и висит. Старик заказал себе тарелку тушеной картошки, а больше ничего, и съел ее, тщательно и с удовольствием посолив с кончика ножа. Но перед этим сложил ладони, помолился Господу Богу. Симон позволил себе безобидную шуточку: тайком заказал официантке кусок жаркого, а когда заказ прибыл, от души посмеялся удивлению старика, перед которым поставили это угощение.
– Отчего вы молитесь перед едой? – напрямик спросил Симон.
– Такая у меня потребность, оттого и молюсь, – отвечал старик.
– Тогда я рад, что видел, как вы молитесь. Просто мне было любопытно, какое чувство подвигло вас к молитве.
– При этом испытываешь много чувств, сударь мой! Вы, к примеру, наверняка не молитесь. У нынешних молодых людей нет на это ни времени, ни желания. Могу понять. Когда молюсь, я всего лишь следую привычке, которую завел давным-давно, ради утешения.
– Вы всегда жили в бедности?
– Всегда.
Когда старик произнес это, в душной, хотя и опрятной, но бедной столовой появилась прелестная фигура госпожи Клары. Все руки, державшие вилку, ложку, нож или чашку, на миг замерли. Все рты открылись, все глаза воззрились на существо, которое казалось в этом помещении совершенно чуждым. Ведь Клара была настоящая дама, а в эту минуту даже больше чем дама. Симону и самому почудилось, будто из отверстых, трепещущих небес выпорхнул ангел и слетел на землю, в темный уголок, чтобы уже одним своим благодатным видом осчастливить тамошних обитателей. Именно так Симон всегда представлял себе благотворительницу, которая идет к убогим и бедным, не имеющим ничего, кроме сомнительного преимущества, что в любую минуту на них могут обрушиться бичи забот. Клара держалась в этом народном приюте совершенно естественно, будто она и впрямь прилетевшее издалека высшее существо из иных пределов, из иного пространства, иного мира. Именно дивная ее лучезарность заставила всех этих робких людей распахнуть глаза, затаить дыхание и ухватиться одной рукой за другую, чтобы от внезапного волнения не выронить нож. Нежданная красота Клары болезненно поразила этих людей, заставила задуматься. У каждого из них вдруг мелькнула мысль, сколько же всякого-разного есть на свете, помимо тяжкого труда и забот о хлебе насущном. Об этаком бодром здравии и совершенных, щедрых, улыбчивых прелестях они все почти позабыли, настолько их жизнь утонула в черной, нечистой обыденщине, истрепалась в заботах, вцепилась в низменное. Вот что они – хотя, пожалуй, и не все отчетливо – мучительно осознали; ведь поистине мучительно видеть красоту, которая уже одним своим благоуханием пьянит и может убить, коли мысленно дерзнешь улыбнуться ее улыбкой. Поэтому все они невольно гримасничали, кривили лица, глядя снизу вверх на эту женщину, что возвышалась над ними, поскольку все они сидели на низких стульях, в тесноте, а она, высокая, стояла выпрямившись во весь рост. Казалось, она кого-то искала. Симон притаился в своем углу, не переставая улыбаться навстречу ищущей. Она долго его не замечала, хотя помещение было сравнительно невелико; наверно, ей пришлось напрягать зрение, чтобы взгляд привык к пятнистой, темной, расплывчатой картине и различил фигуры, которых ее глаза обычно вовсе не замечали. Слегка раздосадованная, она уже хотела удалиться, но тут взгляд ее упал на Симона и узнал его.
– Ах, вот вы где, еще и в угол забились! – сказала она и с величайшей радостью села рядом, между своим молодым другом и стариком, на носу у которого по-прежнему висела большая блестящая капля.
Старик спал. Спать в таких заведениях не разрешалось, однако ежедневно случалось, что старики, покушав, засыпали – по причине самой обыкновенной, необоримой усталости. Этот старик, наверно, долго и бесполезно бродил пешком по городским улицам. Наверно, спрашивал насчет работы, повсюду, куда его тихонько вели размышления. Вконец усталый, он, наверно, тем не менее пытался в этот день хоть чего-то добиться и, напрягая все силы, взобрался на гору, ведь город поднимался вверх по склону, но и там, наверху, его спровадили так же быстро, как и здесь, внизу; и он снова поплелся вниз, обессилевший, до смерти затравленный, и прибрел сюда. Как он в его-то годы еще мог искать работу, как у него, старика, хватало силы воли надеяться, что он ее найдет, – при одной мысли об этом становилось горько и страшно. Однако ж такая мысль прямо-таки напрашивалась. У старика не было иного пристанища, кроме этого заведения, но и здесь он мог провести лишь считанные часы, ведь вечером столовая закрывалась. Наверно, поэтому он молился, чтобы привнести в ужасающую серьезность своего бытия тихую, утешительную мелодию. Поэтому говорил: «Мне потребна молитва». Стало быть, стремление к набожности тут ни при чем, все дело в чрезвычайно печальной потребности почувствовать ласковую руку, детскую или дочернюю, которая тихонько и утешительно погладит его бедный морщинистый лоб. Быть может, у старика есть дочери… а у него самого? Подобным размышлениям легко мог предаться сидящий рядом, глядя, как старик спит – голова странно неподвижна, руки подпирают подбородок.
– Приехал ваш брат, Симон, в офицерском мундире, – сказала Клара, – и ваша сестра, и еще один господин, по имени Себастиан.
Симон тотчас расплатился за обед, и они вместе покинули столовую. После их ухода одна из подавальщиц заметила спящего, встряхнула его несколько раз и на удивление строго сказала:
– Не спать! Я к вам обращаюсь! Вы что, не слышите? Здесь спать нельзя!
Старик пробудился.
Завершился этот день чудесным вечером. Весь город гулял по красивой озерной набережной, под пышными деревьями с большими листьями. Прохаживаясь здесь, среди такого множества веселых, тихонько беседующих людей, ты невольно чувствовал себя будто в сказке. Город пламенел в огне закатного солнца, а позднее, черный и мрачный, догорал в тускнеющем зареве уже ушедшего за горизонт светила. Летом солнцу присуще что-то чудесное, пленительное. Озеро мерцало в темноте, множество огней искрилось в глубине тихих вод. До чего же великолепно выглядели мосты; идешь по ним и видишь, как внизу стремительно проплывают маленькие темные лодки; в лодках сидели девушки в светлых платьях, нередко с какой-нибудь большой плоскодонки, медленно и величаво скользившей по волнам, долетал теплый, певучий звук арфы, настраивающий на ночной лад. Этот звук терялся в черноте и вновь возвращался, оживал, звонкий и теплый, густой, берущий за сердце. Как далеко разносились звуки простого инструмента, на котором играл какой-то лодочник! Ночь от этого казалась еще больше и глубже. Вдали на берегу светились огоньки сельских поселений, словно сверкающие красноватые камешки на тяжелых, темных царских ризах. Вся земля словно благоухала и притихла, как спящая девушка. Огромный темный купол ночного неба раскинулся над людьми, над горами и огоньками. Озеро как бы утратило свою объемность, и небо обхватило его, заключило в себе, накрыло сводом. Люди собирались кучками. Множество молодежи, и все, казалось, погружены в мечты, и на всех лавочках теснились спокойные, отдыхающие люди. Впрочем, хватало и легкомысленных, горделиво кокетливых женщин, а также и мужчин, которые не сводили глаз с этих женщин, шли за ними следом, то слегка медлительно, то устремляясь вперед, пока наконец не собирались с духом и не находили слова, чтобы завести разговор. Кой-кому в этот вечер и головомойку устроили, как говорится.
Симон шагал обок Клауса и был счастлив меткими и простыми ответами внушить брату, который засыпал его вопросами, уверенность, что он отнюдь не конченый человек. Говорил он с известной гордостью и одновременно с оттенком смирения перед более зрелым братом, хотя тот, спрашивая об иных вещах как наивный ребенок, все ж таки обнаруживал ласковую озабоченность. Разговор они вели в красивых, длинных, витиеватых фразах, так получалось само собой, и Клаус радовался, что брат во многом выказывает понимание, тогда как ему казалось, что Симон, в его обстоятельствах, станет над этим смеяться и ехидничать.
– Я полагал тебя далеко не столь серьезным, каким вижу теперь!
– Не в моих привычках, – отвечал Симон, – показывать, что я с благоговением отношусь ко многим вещам. Обычно я держу это при себе, так как думаю, что бесполезно делать серьезную мину, коли судьба назначила тебе, ну то есть, может быть, назначила играть роль шута. Судеб много, очень много, и в первую очередь перед ними я готов склонить голову. Тут уж ничего не поделаешь. А в остальном пусть-ка кто попробует сказать, будто я смущенно и уныло вешаю голову. Я уже многим говорил, как со мною обстоит в этом смысле.
Все это Симон говорил плавными фразами и с правильным ударением, притом совершенно спокойно и дружелюбно, так что Клаус воспринимал заявления младшего брата не как мировую скорбь, а как своего рода происходящие в его душе поиски, попытки прояснить свою позицию в отношении мира. Он убедился, что Симон обладает дельными качествами, но слегка опасался, что качества эти окружали его лишь поверхностно, как бы играючи плясали вокруг и увлекали, тогда как ему-то хотелось, чтобы они были в брате укоренены. Ведь в пылу речи такая душа с легкостью воспаряла в мир усердия и прекрасного трудолюбия, чтобы затем часами упиваться собственными рассуждениями, а именно при встрече после долгой разлуки. И все же Клаус нарадоваться не мог на брата и с явным удовольствием говорил ему вещи приятные и утешительные. Позади них, на некотором расстоянии, шли, тесно прижавшись друг к другу, Клара и Каспар. Красавица и музыка ночи пьянили художника. Он фантазировал о конях, что скачут по ночным садам, неся в седле прекрасных, стройных всадниц, чьи амазонки играют у земли с копытами коней. А потом дерзким, неистовым смехом смеялся над всем – над людьми, над пейзажем, просто над всем, что попадалось на глаза. Клара даже не пыталась унять его, напротив, ей нравилась неистовость артистической натуры. О, как она любила юношеское, дерзкое, даже надрывное в этой мальчишеской натуре, которая еще только развивалась в натуру мужскую. Он мог говорить какие угодно нелепости, в устах другого человека они, быть может, звучали бы смехотворно и глупо, но в его устах казались ей волшебной мелодией. Что же в этом человеке заставляло Клару считать его безоговорочно прекрасным, в любой позе, в любом жесте, в поведении, в делах и поступках, речах и молчании? Он мнился ей превыше всех других людей, превыше всех других мужчин, хотя едва-едва успел стать мужчиной. В его походке, пожалуй, сказала бы она, сквозило что-то неуклюжее и одновременно властное. Совершенно безмятежный, а вместе с тем робкий, простодушный, глубоко-ребячливый. Такой спокойный и такой порывистый! Она видела, как в темноте поблескивают его светлые волосы, юные и волнистые. Вдобавок шаг и осанка – скромная, вопрошающая, задумчиво-горделивая. Этот юноша, размышляя о ком-либо, наверняка погружается в мечты. Каспар притих. Она все время смотрела на него, все время! Здесь, этой ночью, полной гуляющих людей, было так приятно, мучительно приятно, смотреть на него. Смотреть на него, думала она, куда приятнее, чем целовать. Рот у него приоткрыт, словно от боли; конечно, он никакой боли не испытывал, нет-нет, просто губы так сложились, создавая страдальческое впечатление. Глаза Каспара холодно и спокойно глядели вдаль, будто видели там что-то более интересное. И как бы говорили: «Мы-то видим красоту; глазам других людей мучиться не стоит, все равно им никогда не увидеть то, что видим мы!» Брови его восхитительно изгибались, чуть-чуть, словно от беспокойства, словно ангелы, склонившиеся над своими детьми, над глазами, которые и выглядели, и смотрели в мир так, будто каждую минуту их можно повредить. «Конечно, глаз любого человека легко уязвим, но, когда я смотрю в его глаза, мне вдруг становится так больно, словно туда уже вонзились осколки. Глаза такие большие, такие выпуклые, кажется, ничто их не тревожит, они такие безрассудные, широко распахнутые; как же легко их повредить!» – сетовала она. Не знала даже, любит ли он ее, но какая разница, она-то, она любила его, и этого довольно, да, так и должно быть, она готова была заплакать. В эту минуту к ним вернулись Симон и Клаус. Клара постаралась кое-как овладеть собой, подхватила Симона под руку и пошла с ним вперед.
– Дай мне посмотреть в твои глаза, они у тебя такие красивые, Симон, глядишь в них и словно лежишь в мягкой постели, когда все спокойно и можно помолиться, – сказала она ему.
Клаус и Каспар шагали молча. Они не находили общего языка с тех пор, как несколько лет назад, повздорив, перестали видеться и писать друг другу. Клаус из-за этого очень огорчался, тогда как Каспар воспринимал сей факт как своего рода неизбежность. Сказал себе, что непонимание меж братьями совершенно в порядке вещей. Не хотел оглядываться назад, на давние происшествия, которые, кстати, считал не стоящими размышлений, именно потому, что они остались в прошлом. Он привык идти прямо вперед, полагая оглядку назад, на давние взаимоотношения, попросту вредной. И вот Клаус, которому стало невмоготу молчать, заговорил об искусстве, побуждая брата съездить разок в Италию, чтобы достичь там должной художественной зрелости.
Каспар воскликнул:
– Лучше уж мне сразу отправиться к черту! В Италию! Почему в Италию? Разве я болен и могу излечиться лишь в краю апельсинов и пиний? Зачем мне ехать в Италию, коли я могу быть здесь и мне здесь вполне нравится? Я что, мог бы в Италии заняться чем-то получше живописи? Да разве же здесь я не могу ею заниматься? По-твоему, в Италии все так красиво, оттого я и должен ехать туда. А разве здесь недостаточно красиво? Разве там может быть красивее, нежели здесь, где я нахожусь, пишу свои картины, вижу тысячи красот, которые будут жить и когда я давным-давно истлею? Возможно ли ехать в Италию, коли хочешь творить? Разве итальянские красоты красивее здешних? Пожалуй, они лишь более претенциозны, и как раз поэтому я предпочитаю вовсе их не видеть. Ежели я через шестьдесят лет сумею написать волну или облако, дерево или поле, тогда и посмотрим, умно ли я поступил, не поехав в Италию. Неужто я что-то потеряю, не увидев соборные колоннады, пресловутые ратуши, фонтаны и арки, пинии и лавры, национальные итальянские костюмы и роскошные постройки? Неужто надобно поедать глазами все-все? Я бы каждый раз выходил из себя, заподозри меня кто в намерении сделаться в Италии более умелым художником. Италия – это ловушка, в которую мы попадаем по собственной безмерной глупости. Разве итальянцы приезжают к нам, желая заниматься живописью или поэзией? Какой мне смысл восторгаться ушедшими культурами? Говоря по чести, разве я обогащу тем свой дух? Нет, просто испорчу его и сделаю трусливым. Сколь бы великолепна ни была ушедшая древняя культура, сколь бы ни превосходила нашу мощью и роскошью, я не стану по этой причине зарываться в нее как крот, при необходимости я просто рассматриваю ее, когда получаю от этого удовольствие, в книгах, которые в любое время находятся в моем распоряжении. Вообще, очень уж ценным утраченное и минувшее не бывает никогда; ведь вокруг меня, в нашей реальности, которую нередко поносят как некрасивую и скверную, я вижу великое множество восхитительных образов и красоты, переполняющие мой взгляд. Впору рассвирепеть и потерять терпение из-за этого попросту постыдного для нас помешательства на Италии. Возможно, я ошибаюсь, но даже два десятка щетинистых чертей, отравляющие воздух и размахивающие жуткими вилами, не заставят меня поехать в Италию.
Резкость Каспаровых суждений неприятно удивила и опечалила Клауса. Так бывало всегда, не угадаешь, как завязать с ним мало-мальски добрые отношения. Молча он протянул брату руку, ведь они как раз подошли к дому, где Клаус остановился.
Войдя в свою унылую комнату, он сказал себе: «Я второй раз потерял его, по причине совершенно невинного, доброжелательного, но, как оказалось, неосторожного высказывания. Слишком мало я его знаю, вот в чем дело, да, наверно, никогда и не узнаю. Наши жизненные пути слишком различны. Хотя, может быть, грядущее в своей неисповедимости когда-нибудь снова сведет нас вместе. Надобно терпеливо ждать, когда мало-помалу станешь более зрелым и лучшим человеком». Он казался себе таким одиноким и решил поскорее воротиться к месту своей деятельности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?