Текст книги "Мантикора"
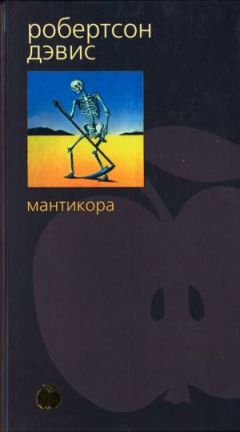
Автор книги: Робертсон Дэвис
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
– Богатство –
Штамп на золотом,
А золотой –
Мы сами! —
сказал он, и, хотя слова его были для меня непонятны, он явно намекал на дедушку Стонтона:
Вот этот шут – природный лорд,
Ему должны мы кланяться.
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется!
Но я был ребенком, и, вероятно, противным ребенком, потому что хихикал, слыша повторы «при всем при том» и южношотландское произношение, – ведь я был на стороне дедушки Стонтона. И по справедливости, вероятно, нужно сказать, что бедняга Бен переусердствовал – он в своем унижении был не менее напорист, чем Стонтоны в своей гордыне, и результат был одинаковый: никто из них не проявлял снисходительности, желания понять себя или меня. Он просто хотел быть наверху, быть лучшим, я для него был лишь призом в этой игре, а не таким же, как он, человеком, достойным уважения.
Боже мой, я видел вульгарное самоутверждение богатых в самой его отвратительной форме, но могу поклясться, что претензии достойных бедняков на исключительность ничуть не менее ужасны. Жаль, что я сегодня не могу попросить прощения у Бена и его жены. Я вел себя очень, очень плохо, и меня не оправдывает то, что я был всего лишь ребенком. В меру своего тогдашнего разумения и с тем оружием, которым располагал, я обижал их и вел себя по отношению к ним плохо. «Те, у ручья»…
(Тут я обнаружил, что рыдаю, и не смог продолжать.)
С этого момента доктор фон Галлер переместилась в новую для наших отношений область. Она довольно пространно говорила о Тени – части нашего «я», определяющей большое число истинных свойств нашего характера, которые мы нередко не хотим за собой признавать. Мое плохое поведение по отношению к Крукшанкам было, безусловно, проявлением моего истинного «я», пусть мои бабка и дед Стонтоны и поощряли меня в этом. Будь я более любящим ребенком, я бы вел себя иначе. Во мне не особо пестовали желание любить; но было ли что пестовать? По мере нашего разговора медленно возникало новое представление о Стонтоне – как о сукином сыне, – и в течение нескольких дней я пребывал в ужасе от этого типа. Но ничего не попишешь. Отвернуться не выйдет – его надо встретить лицом к лицу, причем не только в данном случае, но и в тысяче других; ведь не разобравшись в нем, я не смогу обнаружить и ни одно из положительных его свойств.
А были у него положительные свойства? Конечно. Разве он не был необычно наблюдательным для ребенка его лет, разве не подмечал социальные различия и настроения других людей? В том возрасте, когда многие дети скользят по жизни, не видя ничего, кроме собственных желаний, разве он не видел больше других, не различал, чего хотят окружающие? Это не просто детский макиавеллизм, а настоящая чувствительность.
Я никогда не считал себя чувствительным. Обидчивым – да, и злопамятным. Неужели все обиды существовали только в моем воображении? Неужели мои антенны всегда были настроены лишь на восприятие негативного? Возможно, и нет. Чувствительность функционировала и на свету, и в тени.
Я: И, полагаю, суть состоит в том, чтобы заставить чувствительность всегда работать позитивным образом?
Доктор фон Галлер: Если вам это удастся, вы станете очень редкой личностью. Наша цель не в том, чтобы избавиться от вашей Тени; мы должны понять ее, дабы теснее с ней сотрудничать. Избавление от вашей Тени, с психологической точки зрения, не принесло бы вам никакой пользы. Вы можете представить себе человека без тени? Читали историю Шамиссо[26]26
Шамиссо, Адельберт фон (Луи Шарль Аделаида, 1781—1838) – немецкий писатель, поэт и ученый-натуралист. Его перу принадлежит «Удивительная история Петера Шлемиля», в которой герой продает свою тень Дьяволу.
[Закрыть] о Петере Шлемиле? Нет? Он продал свою тень Дьяволу и после этого стал несчастен. Нет-нет, ваша Тень – это одна из тех вещей, которые позволяют вам не терять голову. Но вы должны принять ее – вашу Тень. Когда вы узнаете ее поближе, вы убедитесь, что не настолько она и ужасна. Да, она не слишком симпатична. Даже довольно уродлива. Но если вы и в самом деле хотите стать психологически цельным, вам необходимо свыкнуться с этим уродливым существом. В одной из наших прежних бесед я сказала, что мне показалось, будто вы до некоторой степени представляете себя в роли Сидни Картона[27]27
Сидни Картон – один из персонажей романа Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах».
[Закрыть] – талантливого, непонятого, пьющего адвоката. Знаете, эти литературные фигуры дают нам превосходный материал для разговора о разных сторонах нашего «я», в каждом из нас уживается по несколько литературных персонажей. Вы знаете о Сидни, а вскоре мы познакомимся с мистером Хайдом. Только он вовсе не тот гротескный монстр, второе «я» доктора Джекила, который пнул ребенка. Он всего лишь маленький высокомерный мальчик, который унижал безобидных людей, и отдавал себе в этом отчет, и упивался этим. Вы преемник того мальчика. Поговорим о нем еще?
Хорошо. Я мог бы пожалеть того мальчика, но это было бы ложью, потому что сам мальчик никогда себя не жалел. В Дептфорде я был маленьким наследником, и мне это очень нравилось. Между мною и всем остальным миром стояла Нетти. Я не играл с другими мальчиками в деревне, потому что они были нечистыми. Возможно, они редко мыли у себя под крайней плотью. Нетти же мне в этом спуску не давала. Купали меня каждый день, и я страшился натиска Нетти – кульминации купания. Я вставал, а она оттягивала мою крайнюю плоть и мыла там с мылом. Мне было щекотно и больно, и почему-то все это казалось унизительным, но она не уставала повторять: «Если у тебя там грязно, то грязно и повсюду. Если у тебя там скопится грязь, то заболеешь страшной болезнью. Я видела это тысячу раз». Грязь в этом особом месте была таким же грехом, как плевание. Мне не разрешалось плевать, что было сильным ущемлением прав в деревне, населенной мастерами плевания. Но Нетти предупреждала меня, что можно выплевать себе все мозги. Я и в самом деле помню, в деревне был один старик по имени Сес Ательстан, пользовавшийся немалой известностью. Он ступал нетвердо, высоко поднимая ноги, – явно поздняя стадия сифилиса; но Нетти уверяла меня, что он – жертва бесконтрольного плевания.
Лучшим моим моментом в качестве дептфордского молодого наследника было выступление в роли жениха на свадьбе Мальчика с пальчик.
Был конец августа, мне шел девятый год. Приближалась осенняя ярмарка. Это было время больших надежд в Дептфорде, и кроме всевозможных сельскохозяйственных экспонатов индейцы из близлежащей резервации продавали изделия местных промыслов – веера, поделки, украшенные бисером, коробочки с травой зубровкой, резные трости и все в таком роде, – а еще было несколько аттракционов, например «Попади в глаз черномазому!», там за двадцать пять центов можно было бросить три бейсбольных мяча в негра, который просовывал голову в дырку посреди парусинового занавеса и оскорбительно гримасничал. Дед купил мне три мяча. Один я не добросил, второй ушел далеко в сторону, третий перелетел за парусину – и все это под шумный смех нескольких противных мальчишек, которые наблюдали за мной и кому негр (явно подстрекательски) подмигивал, пока я выставлял себя дураком. Но я жалел их, несведущих, и презирал, потому что знал: с наступлением вечера я буду звездой ярмарки.
Свадьба Мальчика с пальчик – это шутливая брачная церемония, в которой участвуют только дети, и вся изюминка именно, так сказать, в миниатюризации. Женский общественный комитет Объединенной церкви организовал представление в павильоне, где днем кормили посетителей, и предполагалось, что эта шутливая церемония станет изящной альтернативой грубым ярмарочным развлечениям. В половине восьмого все было готово. Собралось довольно много публики, состоявшей главным образом из женщин, которые поздравляли себя с тем, что их интересы выше шпагоглотательства и заспиртованных зародышей двухголовых младенцев. В палатке было душно, а огни красных, белых и голубых ламп мигали с тошнотворной нерегулярностью. В соответствующий момент мы с моим шафером и с мальчиком, изображавшим священника, вышли вперед в ожидании невесты.
Невестой была девочка, которой поручили эту роль за успехи в воскресной школе, а не за внешние достоинства, и хотя звали ее Мертл, однокашникам она была известна как Жаба Уилсон. Мелодион заиграл свадебный хор из «Лоэнгрина», и Жаба в сопровождении шести других маленьких девочек направилась к нам самым медленным шагом, что производило впечатление не столько церемонности, сколько неохоты.
Жабу разодели в пух и прах – на ней был свадебный наряд, над которым не одну неделю потрудилась ее мать и бог знает сколько еще других дам. Фигурой она была эдакая кубышечка, но атласа и кружев на нее не пожалели, а венок и фата скрывали лицо. Центром внимания должна была стать Жаба, но моя бабушка и Нетти позаботились об этом.
Я был вершиной элегантности, потому что миссис Клеменс, местная портниха, целый месяц работала на мою бабушку. На мне были черные атласные брюки, бархатный фрак и кушак, или каммербанд, из красного шелка. Плюс атласная рубашка и большой красный ниспадающий галстук – так что выглядел я, мягко говоря, колоритно. Все сходились на том, что увенчать мой пышный наряд должна была шелковая шляпа, но такой шляпы подходящего размера не нашлось. Однако в одной из местных лавочек моя бабушка раскопала котелок того типа, какой был в моде году, наверное, в 1900-м, потому что у него были узкие плоские поля и очень высокая тулья, словно его изготовили для какого-то остроголового типа. Котелок стал мне впору, когда под внутреннюю ленту набили неимоверное количество ваты. Он был на мне до того момента, как приблизилась невеста, когда я театральным жестом снял его и прижал к сердцу. Это была моя собственная идея, и, думаю, сказалось некоторое мое лицедейское чутье, поскольку таким образом я помешал Жабе монополизировать внимание публики.
Предполагалось, что церемония должна быть смешной, а главным шутом выступал священник. У него были пространные монологи из сценария, вероятно хранившегося некоторыми дамами из комитета со времен, когда в расцвете сил был Джош Биллингс[28]28
Псевдоним Генри Уилера Шоу (1818—1885), американского юмориста.
[Закрыть], потому что и в тридцатые свадьба Мальчика с пальчик была старомодной. «Обещаешь ли ты, Мертл, рано вставать и подавать горячий завтрак каждый день недели?» – это была одна из лучших его фраз, на которую Жаба тоненьким голоском отвечала: «Обещаю». Помню, я должен был обещать, что не буду жевать табак в доме и не стану лучшими ножницами жены резать провод для чистки дымохода.
Кульминационный момент, однако, наступал, когда я целовал невесту. Эту сцену тщательно репетировали, и предполагалось, что она вызовет восторг в зале, потому что я, по сценарию, проявлял нетерпение и так часто целовал невесту, что священник, изобразив ужас, должен был развести нас в разные стороны. Беспроигрышная комедия: в ней была та пикантность допустимой похоти, которую любили дамы из женского комитета, а детская невинность придавала сценке особую остроту. Но и здесь я задумал внести усовершенствование. В детстве я не любил, когда надо мной смеялись, и полагал, что мои поцелуи – это слишком серьезно и невыразительная физиономия Жабы Уилсон недостойна их. Несколько раз до этого меня баловали – водили в кино, и я видел в деле всемирно знаменитых мастеров поцелуя. Так что на репетициях я добросовестно следовал дурацким задумкам дам из комитета, но когда настала кульминация самого представления, то я отбросил шляпу, изящно опустился на одно колено, взял недоумевающую лапку Жабы и поднес к губам. Затем поднялся, обхватил ее за бочкообразную талию и запечатал ей губы долгим жгучим поцелуем, в то же время изгибая ее назад, насколько то позволяло ее телосложение. Я полагал таким образом продемонстрировать Дептфорду, чем может стать любовь в руках мастера. Эффект превзошел все мои ожидания. Публика разразилась охами и ахами – как восторженными, так и неодобрительными. А когда мы с Жабой шли по проходу под хриплые звуки музыки Мендельсона, все взгляды были прикованы не к невесте, а ко мне. Но самое главное – я услышал, как одна из женщин прошептала, со скрытым смыслом, которого я не понял: «А этот малыш, сынок Боя Стонтона, весь в папашу». Чуть позже, когда мы ели мороженое с пирожными за счет комитета, Жаба пыталась подлизаться ко мне, но я оставался холоден. Если выжал из апельсина все соки, пора его выбрасывать – таково было тогда мое жизненное кредо.
Нетти вся изворчалась. «Ты небось очень собой доволен», – вот что она заявила, укладывая меня спать, после чего я закатил форменную истерику. Бабушка решила, что я перенервничал на публике, но главным моим ощущением было разочарование, потому что никто, казалось, не понял, насколько бесподобно я выступил.
(Ах, как нелегко было выуживать все, что удастся вспомнить из моего детства, и предъявлять постороннему человеку. Это сильно отличается от осознания – которое доступно всем – того, что в давние времена ты вел себя плохо. Именно в этот период мне приснился сон – или то было видение, полусон-полуявь, – как я снова стою на том причале и стираю грязь и мазут с лица утопленника; но очистив лицо, я увидел, что это не мой отец: передо мной лежал ребенок, и этим ребенком был я.)
2
Я стал часто видеть сны, а ведь прежде почти никогда не запоминал их. Доктор фон Галлер попросила меня воспроизвести какие-нибудь сны из моего детства, и хотя я очень сомневался, но вдруг обнаружил, что получается. Скажем, на шестом году жизни мне пригрезился Иисус в небесах: Он плыл куда-то вверх, как на картинах, изображающих Вознесение. Под Его плащом был казавшийся мне частью Его тела земной шар, который Он облекал защитой и словно демонстрировал мне, стоявшему внизу посреди дороги. Что это было – сон или видение средь бела дня? Я так и не смог прийти к однозначному выводу, но воспоминание оказалось удивительно ярким. И, конечно, был мой повторяющийся сон, который я видел так часто; они всегда были чуточку непохожи один на другой, но несли одинаковое ощущение страха и ужаса. В этом сне я находился в замке или крепости, изолированной от внешнего мира, и был хранителем сокровища (иногда, впрочем, мне казалось, что я охраняю божество или идола), природу которого я никогда не понимал, хотя и знал, что ценность его высока. Сокровищу угрожал Враг из внешнего мира; этот Враг переносился от одного окна к другому, искал путь внутрь, а я бегал из комнаты в комнату, чтобы помешать ему. Нетти объясняла этот сон тем, что я читал книгу под названием «Маленький хромой принц»[29]29
Детская книга, принадлежащая перу английской писательницы Дайны Марии Мьюлок Крейк (1826—1887), которая писала под псевдонимом Мисс Мьюлок; книга вышла в свет в 1874 г. и пользовалась большой популярностью.
[Закрыть], в которой одинокий мальчик жил в башне. Книга самым деспотичным образом была запрещена. Нетти любила запрещать книги, всегда питала к ним недоверие. Но я-то прекрасно знал, что видел этот сон задолго до того, как прочел книгу, и продолжал его видеть, когда впечатления о «Маленьком хромом принце» почти совсем стерлись из памяти. Интенсивность переживаний в этом сне и ощущение опасности были просто несопоставимы ни с чем книжным.
Мы с доктором Галлер довольно долго бились над этим сном, пытаясь обнаружить ассоциации, которые пролили бы на него свет. И хотя сейчас все совершенно очевидно, тогда мне потребовалось несколько дней, чтобы понять: башня – это моя жизнь, а сокровище – то, что делало ее ценной и достойной защиты от Врага. Но что это за Враг? Тут мы схлестнулись не на шутку, потому что я настаивал: Враг пришел извне, тогда как доктор Галлер все пыталась подвести меня к тому, чтобы я признал: Враг – это часть меня самого, некая недопустимая сущность в Дэвиде, которая ничего не принимает на веру и, увидев сокровище или идола, могла бы и не признать за ним столь высокой ценности. Когда же я наконец переварил эту мысль и неохотно согласился, что доктор, возможно, права, мне захотелось выяснить, что может представлять собой это сокровище, – а вот здесь возражать стала она. Сказала, что лучше повременить и, может быть, ответ придет сам собой.
Доктор фон Галлер: Нам же ни к чему суровые врачебные методы вашего деда, правда? Постараемся обойтись без того, чтобы насаживать вас на этот ненавистный травмирующий штырь. Не горячитесь, пусть природа сама залечит раны, и все будет хорошо.
Я: Знаете, я не боюсь. Хотелось бы не рассусоливать и поскорее покончить с этим.
Доктор фон Галлер: Вы и без того уже достаточно побыли стойким солдатиком, хватит. Поверьте мне, терпение принесет лучшие результаты, чем буря и натиск.
Я: Не хотел бы лишний раз напоминать, но я вовсе не глупый человек. Разве я не достаточно быстро принял (по крайней мере как гипотезу) ваш подход к толкованию снов?
Доктор фон Галлер: Да, верно. Но принять гипотезу отнюдь не то же самое, что усвоить психологическую истину. Мы не выстраиваем интеллектуальную систему, мы стараемся вернуть кое-что забытое и воскрешаем полустершиеся чувства, надеясь увидеть их в новом свете и более того, увидеть в новом свете настоящее. Вспомните, о чем я вам столько раз говорила: мы роемся в сундуке с древним барахлом не ради самого барахла. Нас беспокоит ваша нынешняя ситуация и ваше будущее. Все, о чем мы говорим, прошло, и изменить его невозможно; если бы оно не имело никакого значения, мы бы просто забыли о нем. Но оно имеет значение, если мы хотим привести в порядок настоящее и обеспечить фундамент для будущего.
Я: Но вы тормозите меня. Я готов подписаться под каждым вашим словом. Готов и хочу продвигаться вперед. Я быстро учусь. Я не глуп.
Доктор фон Галлер: Прошу прощения, но вы именно что глупы. Думать и учиться вы умеете – как любой современный образованный человек. Но вы не умеете чувствовать, разве что как дикарь. Случай отнюдь не уникальный, особенно в наши дни, когда умению думать и обучаться придается такое абсурдно важное значение – вот и надумали на свою голову глобальные катастрофы, одна другой краше. Нам же следует пестовать ваше умение чувствовать и убедить вас пользоваться им, как то подобает взрослому мужчине, а не увечному бестолковому ребенку. Вот почему вы не должны так жадно накидываться на психоанализ, а потом говорить: «Ага, понимаю, понимаю!» Дело же не в понимании. Все дело в чувствах. Понимание и ощущение не взаимозаменяемы. Любой теолог понимает мученичество, но ощущает огонь только мученик.
Я не был готов принять это, что повлекло длительную дискуссию; воспроизводить ее в деталях смысла нет, но крутилось все вокруг Платонова представления о том, что человек воспринимает окружающий мир четырьмя основными способами. Я полагал, что имею большую фору, так как досконально изучал «Государство»[30]30
Одно из произведений Платона, в котором он развивает свою концепцию идеального общественного устройства.
[Закрыть] в студенческие годы в Оксфорде и проникся оксфордским представлением о том, что Платон, опередив время, был настоящим оксфордцем. Да, я помнил теорию Платона о наших четырех средствах восприятия и мог их перечислить: Разум, Способность понимания, Способность суждения, Способность предположения. Но доктор фон Галлер, оксфордов не кончавшая, желала называть их Мышление, Чувствование, Ощущение и Интуиция. Казалось, она была убеждена, что рационально мыслящему человеку невозможно сделать выбор из этих четырех или расставить их в порядке приоритетности, поскольку он естественным образом склоняется к Разуму. Мы являемся на свет предрасположенными к какой-либо из этих четырех категорий и вынуждены исходить из того, что дано нам от рождения.
Она подчеркнула (и я был рад это слышать), что в моем складе личности доминирует Мышление (которое я предпочитаю называть Разумом). Также она полагала, что я ни в коей мере не обделен Ощущением, а значит, являюсь внимательным наблюдателем и довольно точен во всем, что касается физических деталей. Она допускала, что время от времени меня посещает Интуиция, но, конечно, я лучше нее знал, насколько она в этом права, поскольку при необходимости всегда умел в той или иной степени видеть сквозь кирпичную стену; и я высоко ценил Джоита[31]31
Джоит, Бенджамин (1817—1893) – английский просветитель и специалист по Древней Греции.
[Закрыть], который, перефразировав платоновский термин, назвал эту способность «восприятием теней». Но за Чувствование доктор фон Галлер поставила мне низкую отметку, потому что, оказываясь в ситуации, которая требовала тщательного взвешивания ценностей, а не точной формулировки подходящих идей, я каждый раз, по выражению Нетти, срывался с ручки.
– Ведь в конечном счете именно потому, что ваши чувства стали невыносимы, вы решили приехать в Цюрих, – сказала она.
Я: Но я же вам говорил. Это было рациональное решение. Пришел я к нему довольно причудливым образом, но тем не менее оно основывалось на беспристрастном анализе свидетельских показаний в суде Его Чести мистера Стонтона. Я сделал все от меня зависящее, чтобы исключить из этого дела Чувствование.
Доктор фон Галлер: Именно. А вы когда-нибудь слыхали, что если гнать природу в дверь, она явится через окно? То же и с Чувствованием.
Я: Но разве это решение не было правильным? Разве я не перед вами? Разве Чувствование могло добиться больше того, что было решено Разумом?
Доктор фон Галлер: Не могу сказать; мы же говорим о вас, а не о какой-то гипотетической личности. Поэтому следует исходить из того, что вы за человек и что совершили. У тех, кто опирается на Чувствование, тоже не всегда все ладно. Часто они мыслят весьма неразумно, что сопряжено со своими характерными проблемами. Но вы должны признать, мистер Стонтон: ваше решение приехать сюда было криком о помощи, как бы вы ни старались выдать его за решение, основанное на Разуме и на приговоре, который вынес вам ваш Интеллект.
Я: Значит, я должен свергнуть с трона мой Интеллект и посадить туда Эмоции? Так?
Доктор фон Галлер: Вот видите! Стоило затронуть ваше наивное Чувствование, и как вы заговорили! Интересно, чей это женский образ так у вас отзывается? Может быть, материнский? Или Нетти? Никто вас не просит отказываться от вашего Интеллекта, разберитесь только, когда он вам служит, а когда, наоборот, вас подводит. И этого беднягу Калибана[32]32
Калибан – раб-чудовище, персонаж «Бури» Шекспира.
[Закрыть], который сейчас управляет вашим Чувствованием, не мешало бы немного подкормить, привести в божеский вид.
(Конечно, на это ушло гораздо больше времени и бесед, чем вместилось в мои записки, и были моменты, когда я так злился, что был готов бросить все, выплатить доктору Галлер причитающийся ей гонорар и пуститься в загул. Я никогда не любил сдерживать себя, и один из моих профессиональных недостатков в том и заключается, что я не умею скрывать досаду и чувство унижения, когда судья выносит приговор не в мою пользу. И тем не менее моя нелюбовь терпеть поражение всегда была важна, заставляя меня выигрывать. Итак, наконец мы пошли дальше.)
Если Дептфорд был моей Аркадией, то в Торонто я не чувствовал себя так уж счастливо. Мы жили в старой престижной части города, в большом доме, где слуг было больше, чем членов семьи. Стонтонов было четверо, но большинство составляли слуга (время от времени удавалось нанять достаточно хорошего, и тогда его можно было назвать дворецким), повар, горничная, прачка, шофер и, конечно, Нетти – они и верховодили в доме. Дела обстояли таким образом не потому, что кто-то хотел этого, просто моя бедная мать органически не умела поставить прислугу на место.
Те, у кого нет слуг, наивно полагают, что хорошо всегда иметь под рукой людей, которые исполняют твои приказания. Может быть, это и так, хотя я не знал ни одного дома, для которого это было бы справедливо, а уж наш и подавно не попадал в эту категорию. Прислуга появлялась и уходила, иногда по совершенно загадочным причинам. Слуги-мужчины пили и ухлестывали за служанками; повара воровали или отличались ужасным характером; прачка портила дорогую одежду, или при глажке стрелка на отцовских брюках выходила у нее кривой; горничные не желали убирать в спальнях наверху, а внизу работы было слишком мало; шофер отсутствовал, когда был нужен, или вообще пропадал вместе с машиной – отправлялся покататься. Единственной неподвижной звездой на небосклоне нашего дома была Нетти – она добросовестно стучала на всех остальных и со временем возжелала получить абсолютную власть экономки, отчего постоянно находилась в сложных трениях с дворецким. Некоторые слуги были иностранцами и говорили между собой на родном языке, что, по мнению Нетти, свидетельствовало о скрываемых ими бесчестных намерениях. Некоторые были англичанами, и Нетти знала, что они смотрят на нее свысока. Дети всегда жили ближе к слугам, чем родители, и мы с Каролиной никогда не знали, на чьей мы стороне, а иногда обнаруживали, что стали заложниками темных подковерных интриг.
Причина, конечно, заключалась в том, что моя бедная мать, у которой до замужества никогда не было слуг (если не считать бабушки Крукшанк, которая, казалось, побаивалась дочери и во всем ее слушалась – вероятно, с самого начала), понятия не имела, как управляться с таким хозяйством. От природы она была добра и робковата, ее преследовал страх, что она не соответствует высоким стандартам, которые предполагают в ней слуги. Так что она искала их благосклонности, спрашивала их мнение по разным вопросам, и, пожалуй, следует сказать, что она была с ними куда более на короткой ноге, чем допустимо. Если горничная была ее возраста, мать спрашивала ее мнение о новом платье. Мой отец знал это и не одобрял, а иногда говорил, что моя мать одевается, как горничная в выходной. Мать ничего не понимала в блюдах, которые готовят профессиональные повара, и предоставляла нашим поварам хозяйничать на свое усмотрение, а в результате отец жаловался, что слишком часто нас пичкают одним и тем же. Мать не любила ездить с шофером, а потому у нее была собственная машина, которую она водила сама, а шофер бездельничал. Она не настаивала на том, чтобы слуги обращались ко мне и к моей сестре «мисс Каролина» и «мистер Дэвид», как этого хотел отец. В общем, наверное, где-то и были хорошие слуги – другие, кажется, находили их и как-то удерживали, – но нам так никого и не удалось найти, кроме Нетти, а Нетти была редкой занудой.
У Нетти имелось два больших недостатка. Она была влюблена в моего отца и знала мою мать еще до того, как та вышла замуж и разбогатела. Лишь после смерти матери я понял это, но Каролина быстренько раскусила Нетти, она-то и открыла мне глаза. Нетти любила отца самозабвенно и бессловесно. Вряд ли ей когда-нибудь приходило в голову, что ее любовь может быть сколь-нибудь ощутимо вознаграждена – и уж, конечно, никак не физически. Все, что ей было нужно, – это изредка доброе слово или одна из его замечательных улыбок. Что касается моей матери, думаю, если бы Нетти хоть раз упорядочила свои мысли на этот счет, то признала бы ее красивой игрушкой – и только; и уж никак не могла Нетти признать справедливость того, что моя мать заняла свое положение исключительно благодаря красоте. Она отдавала себе отчет в том, что моя мать – самая красивая девушка в Дептфорде (нет, бери выше: никого красивее моей мамы я в жизни не видел), но Нетти знала ее как дочь «тех, у ручья». А если забыть о красоте, то чем кто-либо из «тех, у ручья» был лучше Нетти?
Моя мать даже не догадывалась, что за неугомонный дух вел по жизни моего отца и порой заставлял его поступать так, что лишь немногие понимали его мотивы (а может быть, никто и не понимал, кроме меня). Люди видели только его сегодняшние успехи, они ничего не знали о его великой мечте и его неудовлетворенности положением дел. Конечно, он был богат и деньги заработал своими руками. Дедушку Стонтона вполне удовлетворяла роль местного дептфордского богача, и что касалось сахарной свеклы, тут он был на высоте. А вот отец понял, что какие-то полтора миллиона фунтов свекольного сахара, производимого ежегодно в Канаде, – пшик по сравнению с тем, что может сделать тот, кто смело, но расчетливо займется импортом и рафинированием тростникового сахара. В той или иной форме человек потребляет в год около сотни фунтов сахара. Восемьдесят пять из которых поставлял отец. И уж, конечно, именно отец понял, что большая часть того, что считалось отходами процесса рафинирования, может быть использована в качестве минеральных добавок к кормам для птицы и скота. А потому прошло не так много времени, и отец оказался по уши вовлечен во всевозможное хлебопекарное и кондитерское производство, выпуск безалкогольных напитков и высокотехнологичных кормов – и все это контролировалось одной компанией, именуемой «Альфа Корпорейшн». Но полагать, что в том и заключалось главное дело его жизни, было бы грубейшей ошибкой.
Главной его амбицией было оставить заметный след, прожить полноценную жизнь, реализовать все свои мыслимые стремления. Он презирал людей, которые идут по жизни бесцельно, вразвалочку, ничего не добиваются и так и остаются никем. Он нередко цитировал строку из стихотворения Браунинга, которое проходил в школе, о «незажженном светильнике и неопоясанных чреслах».[33]33
Cтрока из стихотворения «Статуя и бюст» английского поэта Роберта Браунинга (1812—1889). Выражение «опоясать чресла» восходит к библейскому «…опояшь чресла твои…» (4 Царств, 4:29).
[Закрыть] Его светильник всегда сиял, а чресла были опоясаны как можно туже. Думаю, что по этой вздорной фон-галлеровской классификации (которую я, несмотря на все старания моей уважаемой докторши, склонен принимать не без доли скепсиса) его следовало бы назвать человеком Ощущения – настолько сильно было развито у него ощущение реального, фактического и осязаемого. Но иногда он ошибался в людях, и я очень боюсь, что он ошибся в моей матери.
Она была необыкновенно красива, но не классической красотой. Красотой, как у нее, люди восторгались в двадцатые годы, когда считалось, что у девушки должны быть мальчишеская фигура, огромные прекрасные глаза, хорошенькие надутые губки, но, самое главное, в ней должна кипеть жизнь. Мать могла бы иметь успех в кино. А может быть, и нет, потому что, несмотря на подходящую внешность, она совсем не умела играть. Думаю, отец увидел в ней то, чего на самом деле не было. Он решил, что девушка с такой поразительной внешностью не может быть просто дептфордской девушкой. Думаю, он полагал, что с «теми, у ручья» ее связывают вовсе не дочерние отношения, а скорее сказочные – как если принцессу вверяют попечению простых людей. Что достаточно будет дать ей много модной одежды, побольше уроков тенниса и бриджа, возможность танцевать сколько душе угодно и ездить за границу, и тогда принцесса в ней сама покажет себя.
Бедная мама! Я все время чувствую свою вину перед ней, потому что мне следовало больше ее любить и служить ей опорой, но я поддался отцовским чарам; как я теперь понимаю, мне передалось его разочарование, а тот, кто разочаровал его, не мог рассчитывать на мою любовь. Все его желания и амбиции я воспринимал как свои собственные; я изо всех сил старался с достоинством переносить тот факт, который по мере моего взросления становился все более очевиден: я тоже разочаровал отца.
Уже работая с доктором фон Галлер, я крайне удивился, когда однажды ночью ко мне явился во сне Феликс. В мои четыре года тот служил большим утешением, надежной опорой, но потом я забыл о нем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































