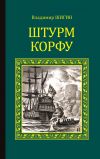Текст книги "Цивилизация. Новая история Западного мира"

Автор книги: Роджер Осборн
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Подобный новый взгляд на историю отражает изменение наших представлений о мире. Однако во всех своих вариантах он не отвечает на вопрос о смысле цивилизации. Мало того, он делает ответ еще более трудным. Новое мировосприятие принесло с собой новые неразрешимые проблемы. Например, мы постепенно пришли к убеждению, что у так называемых примитивных обществ есть полное право продолжать вести свой образ жизни, право, ограждающее их от нашего вмешательства. Чем в этом случае предстает цивилизация, которая занималась и продолжает заниматься регулярным уничтожением таких обществ, столь же рутинно изобретая этому моральные, религиозные и исторические оправдания? Если наша история есть неотъемлемая часть цивилизации и если последняя является выражением наших непреходящих ценностей, то что, в случае конфликта истории и ценностей, мы имеем в остатке?
Мы можем подступиться к ответу на этот вопрос, взглянув на то, чем сегодняшнее поколение отличается от предшественников, и попытавшись понять, почему наше и их мировоззрения столь несхожи. Я уже упоминал о том, что понимали под цивилизацией в прошлом, и привел несколько причин, по которым эти концепции оказались несостоятельными. Остается объяснить, в чем заключаются характерные признаки настоящего и как они влияют на нашу нынешнюю концепцию цивилизации.
В 1930-е и 1940-е годы у людей появилась полная ясность относительно того, чтó именно отстаивают западное общество и западная цивилизация. Были вы социалистом или консерватором, для вас цивилизация являлась тем, что пытались уничтожить Гитлер, Муссолини и японский император. Поэтому задачей стало элементарное самосохранение. Как когда-то вера в христианского Бога уступила место вере в прогресс, в свою очередь последняя на тот момент полностью сосредоточилась в желании добиться полного разгрома нацизма. Сражавшимся на «неправильной» стороне все сделалось настолько же ясно – когда закончилась война. Соответственно, первейшей целью послевоенных лет виделось не воссоздание прежнего общества, а строительство его на новых основаниях. Но тем, кто пережил войну, пришлось пожертвовать огромным количеством эмоциональной и культуросозидающей энергии, и после краткого периода заигрывания с радикализмом Запад в 1950-е годы погрузился в политический и культурный консерватизм – подчеркнуто довольствуясь тем, что имеет, охраняя свою статичность, пугаясь любых перемен.
Отчасти 1960-е годы стали реакцией на социальную атрофию, характерную для первых послевоенных десятилетий. Если военное поколение было довольно самим фактом того, что ему удалось выжить, было благодарно возможности строить жизнь в мире и процветании, то их взрослеющим детям требовалось иное. Ощущение борьбы за сохранение цивилизации трансформировалось в новое убеждение, по которому именно существующее общество с его жесткой иерархической структурой, преклонением перед вышестоящими, психологической установкой, выражаемой формулой «доктору лучше знать», – именно оно несло ответственность за сползание Европы в войну. Недаром на Нюрнбергском процессе, в ответ на недоумевающий вопрос всего мира: «Как могли жители цивилизованной Германии оказаться способными на такие кошмарные злодеяния?» постоянным рефреном звучала фраза: «Я только исполнял приказы». Эти ужасные слова стали обратным паролем нового поколения – отныне никто не мог отдавать приказы и никто не должен был их исполнять. Европа избавлялась от милитаризма, который преследовал ее на протяжении полутора веков.
Сегодня трудно представить себе, с каким безусловным доверием в первые послевоенные годы относились большинство людей к существующим социальным институтам, какой силы шок они испытывали сообща и по отдельности, наблюдая, как один за другим «столпы общества» обнажали свое лицемерие, корыстолюбие и продажность. Суэцкий кризис, скандалы с Профьюмо, Поулсоном и талидомидом, требования гражданских прав для католического населения Ольстера, ряд несправедливых судебных решений – в Британии все эти события покончили с нашими иллюзиями и нанесли смертельный удар по прекраснодушным представлениям о существующем порядке.
В Америке крушение иллюзий было еще масштабнее и, как оказалось, имело более серьезные последствия. Благодаря Вьетнамской войне бессмысленную жестокость правительства ощутила на себе каждая американская семья. Если движение за гражданские права раскрыло миру грязные секреты американской политики – узаконенную сегрегацию чернокожего населения, фактическое отрицание человеческого достоинства, – то резня в Ми Лай, убийство Мартина Лютера Кинга, стрельба по мирной демонстрации в Кентском университете, фотографии белых полицейских, избивающих черных манифестантов в Алабаме, – эти и аналогичные события служили постоянным отталкивающим примером для взрослеющего поколения американцев. Схожие настроения рождались у молодежи во Франции, Германии и Италии, а после подавления Пражской весны 1968 года улетучились и последние остатки преклонения перед советской альтернативой западному общественному строю.
Пока послевоенная молодежь с отвращением наблюдала, как старый порядок пытается навязать себя новому миру, предшествующему поколению определенно внушали не меньшее смятение выходки детей – их неуважение к тому, что пришлось пережить отцам, уверенность в своем праве на материальные блага, беззаботное попрание святынь прошлого. В 1969 году полные залы в Лондоне собирала пьеса Джо Ортона «Что видел дворецкий», в которой одной из центральных деталей реквизита была банка с заспиртованным пенисом Уинстона Черчилля. Подобное святотатство простиралось на все, что связывалось с прошлым и являлось предметом почитания, – на искусство, архитектуру, политику, армию, образование, культуру. Казалось, грехи прошлого настолько велики, что для очищения от них требуется не меньше, чем тотальная дезинфекция общества. Все должно быть выброшено на свалку истории, чтобы все можно было построить заново.
Эта социальная трансформация происходила одновременно с неожиданным ростом благосостояния, особенно в Западной Европе (Соединенные Штаты почувствовали его еще в 1950-е годы). Пренебрежение авторитетами и стремление к немедленному удовлетворению желаний лишь подстегивалось изобилием новых и дешевых товаров: виниловых пластинок, автомобилей, одежды, транзисторных приемников, фотоаппаратов, телефонов, цветных журналов, таблоидов и, что важнее всего, телевизоров.
В 1960-е годы технические новшества не только предлагали человеку более увлекательную и разнообразную гамму впечатлений, но и способ ухода из-под действия норм социального общежития. Семьям больше не требовалось вечерами у каминов развлекать себя домашней самодеятельностью в виде, например, нескладного исполнения младшей дочкой популярных мелодий на пианино. Благодаря центральному отоплению и портативным проигрывателям и радиоприемникам из каждой комнаты в доме теперь можно было сделать личный развлекательный центр. Спальня подростка, когда-то холодное помещение, где он обитал только в ночные часы, превратилась в уютное гнездышко с плакатами и фотографиями на стенах, с мерцающими приборами, транслирующими музыку и информацию со всего света. Общность семейной жизни отходила на второй план, уступая место личному удовольствию и новому опыту «удаленной общности» – общности потребителей одного и того же продукта индустрии развлечений. Развитие техники влекло за собой рост производства и покупательной способности, который в свою очередь делал появляющиеся на рынке новшества еще дешевле и еще недолговечнее.
К середине 1960-х годов радостный энтузиазм, связанный с возможностью больше зарабатывать и больше тратить, начал приедаться, прежде всего самой молодежи, детям новой социальной либерализации. Контркультура, сформировавшаяся как оппозиция Вьетнамской войне, начала отворачиваться от потребительского индивидуализма в поисках новой духовности и нового чувства общности. Хотя это движение часто считают воплощением шестидесятничества, в действительности оно являлось попыткой вернуться к эпохе, могильщиком которой как раз и стал материализм 1960-х годов. Как оказалось, у контркультуры было слишком мало шансов выстоять перед натиском батальонов мира коммерции, а также перед непосредственными радостями приобретения и обладания. Призыв движения хиппи к новой духовности в условиях массового торжества консюмеризма остался без ответа. Мы выбрали супермаркет – раз и навсегда. Если подходить к этому с точки зрения сказанного ранее, такой выбор был не отказом от изменений, произошедших в 1960-е годы, а прямым их результатом.
Сочетание консюмеризма, материального процветания и неверия в существующий социальный порядок сильно осложнило наши отношения с прошлым. Нам будто дали ключи от дома с сокровищами и одновременно рассказали, как и где эти сокровища были награблены. Не желая отказываться от благосостояния, мы одновременно хотим знать, как наш мир стал таким, каков он есть, – и нам не по себе от многого, что мы уже выяснили. Истории о кровавой эксплуатации остального человечества, разрушении других культур, истреблении народов, населявших привлекавшие нас земли, – все это с готовностью впитывалось поколением, чье недоверие к существующему порядку заставляло ожидать только худшего. Процесс вскрытия язв продолжается по сей день: геноцид индейского населения Квебека, финансирование британской промышленной революции за счет доходов от работорговли, пытки, которым французская армия подвергала алжирских пленников, издевательства над иракцами в тюрьме «Абу-Грейб» – кажется, не проходило недели, чтобы мы не узнавали о новых злодеяниях, добавляющихся к уже известным и подтверждающих наши самые худшие подозрения. Иногда складывается впечатление, что самобичевание превратилось в навязчивое состояние, что теперь мы приветствуем плохие новости заведомым согласием, видя в них подтверждение беспросветной картины зла, которое принесла в мир западная цивилизация. Да, отдельные рассказы о добрых делах и спасении людей по-прежнему остаются вплетенными в нашу историю, но они только подчеркивают общее гнетущее ощущение. Более того, всякий героический поступок рождает подозрение в наличии тайных мотивов у его автора – подозрение, которое вскоре подтверждается благодаря рьяным усилиям исследователей. Кеннеди волочился за женщинами, Черчилль был несносным и бесцеремонным, Ньютон – нестерпимым эгоистом, Джефферсон изменял жене, Харди был мошенником, Ларкин – извращенцем, и так далее, и так далее, и так далее. Даже про беспорочного Альберта Швейцера вспоминают, что он выступал против современных лекарств, и даже мать Терезу обвиняют в том, что для нищих и больных в Калькутте она сделала больше вреда, чем добра.
Наверное, самую важную роль в изменении наших взглядов на цивилизацию играет растущее разочарование в наиболее могущественном западном символе веры – идее прогресса. Последние 60 лет страны Запада жили друг с другом в мире, их граждане пожинали плоды непрерывного роста благосостояния, развитие науки и техники усовершенствовало средства коммуникации, подарило множество бытовых удобств, увеличило продолжительность жизни, научило лечить многие заболевания, а прогрессивное законодательство закрепило и еще больше расширило сферу терпимости в отношении людей иной расы, пола и образа жизни. И тем не менее, несмотря на технический комфорт существования, мы кое в чем начинаем понимать иллюзорную природу своих достижений. Загрязнение окружающей среды, разрушение семейных и общественных связей, появление таких болезней, как СПИД, прогрессирующее распространение ожирения и психических расстройств среди подростков, почти неостановимый рост употребления «тяжелых» наркотиков, увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми (как на Западе, так и между Западом и остальным миром), новые проблемы глобализирующейся экономики – все это суровые напоминания о том, что слова о прогрессе должны восприниматься с серьезными оговорками. К тому же у самого экономического процветания есть негативная изнанка, которая влияет на наш повседневный быт. Последние несколько десятилетий управленческие методы бизнеса и, шире, экономики нашли приложение во всех сферах человеческой жизни. И дело не только в том, что в государственном администрировании, школах, университетах, муниципальной жилищной политике, здравоохранении в той или иной мере воцарилась идеология менеджеров-технократов (вместе с их бессодержательным жаргоном). Дело в том, что нас постоянно настраивают на восприятие жизни как долгосрочного финансового вложения. Мы должны вкладываться – деньгами и усилиями – в образование, чтобы больше зарабатывать впоследствии (а также приносить больше пользы экономике страны), а поступив на работу, мы должны постоянно думать о том, чтобы отложить больше средств на старость. Нам потребовалось несколько десятилетий экономического процветания, чтобы почувствовать на себе издержки заботы о непрерывном росте эффективности. Мы видим, что наших детей ждут годы упорной работы, которые не будут компенсироваться традиционными благами общежития и возможностью ощутить единство с природой – тем, что нам самим еще довелось испытать.
Теракты 11 сентября 2001 года и их последствия вновь посеяли сомнение в идее, которой тешили себя многие жители западного мира, – идее о том, что им суждено жить все лучше и лучше и ничто не в силах этому помешать. Угроза новых терактов, немедленные ограничения гражданских свобод, доводы в защиту применения пыток, огромное военное превосходство одной страны над всеми остальными, предположения о возможности использования тактического ядерного оружия и раскол внутри и между западных наций по таким вопросам, как право на «упреждающую войну», заставили задуматься о том, насколько надежны общественные институты, которые гипотетически должны служить опорой ценностей западного мира. Те, кто знаком с историей, помнят, с какой легкостью в 1920-е и 1930-е годы демократические ценности были отвергнуты во множестве демократических стран. Мы начинаем спрашивать: были ли эти шестьдесят лет мира и процветания результатом последовательной реализации либеральных ценностей или, наоборот, последние суть привилегия, которая даруется только непрерывным экономическим благоденствием? Не затуханию ли памяти о Второй мировой мы обязаны тем, что война вновь начинает восприниматься как инструмент государственной политики?
И какое место в этом меняющемся мировосприятии достанется искусству – бриллианту в короне нашей цивилизации? Если мы больше не верим Кеннету Кларку и его заверениям, что «великое» искусство есть предельное выражение цивилизации, каково наше собственное мнение? Не сделалось ли благодаря тотальному господству популярных форм – поп-музыки, кино и телевидения – так называемое «высокое искусство» ненужным, лишенным общезначимости довеском? И если живопись, скульптура и литература столь часто кажутся сосредоточенными единственно на критике, высмеивании или прямом отказе от господствующих ценностей, то в каком смысле искусство является – если вообще когда-либо являлось – высшим выражением цивилизации?
Итак, мы не сумеем понять, чем в действительности является для нас цивилизация, пока не ответим на несколько трудных вопросов. Несоответствие между ценностями и историческими фактами; отсутствие согласия между приверженностью немеркнущему идеалу прогресса и реальностью таких катастрофических явлений, как технологизированная война и разрушение окружающей среды; конфликт растущего в нас недоверия к принятым авторитетам с верой в славные традиции; неуютное соседство уважения к другим культурам и желания привить остальному миру западные либеральные ценности; наконец, расхождение между нашим пониманием искусства как жизненно важной критики общества и, исторически, как наивысшего выражения цивилизации – все эти противоречия делают любую апелляцию к цивилизации, будь то к слову или к понятию, слишком рискованной и односторонней. И тем не менее, как я сказал в начале, цивилизация остается символом того, что мы больше всего ценим в нашем обществе. Мы не можем просто отмахнуться от нее на том основании, что все вмещаемые этим понятием противоречия лишают его смысла, – мы должны постараться его понять. А этого, считаю я, можно достичь только посредством рассмотрения всей западной истории с точки зрения современности: замечая взаимосвязи между ценностями и событиями, открывая контексты, в которых возникали идеи, сегодня принимаемые нами за данность, сводя воедино культурную, философскую, социальную и политическую эволюцию, оценивая расхожую мудрость и почитаемые авторитеты со здоровой долей скепсиса. Но прежде чем приняться за такую историю, нужно сказать несколько слов о том, как мы вообще умеем смотреть на прошлое.
История как опирающееся на материальные источники исследование и истолкование прошлого – еще одно из понятий, родившихся в лоне западной культуры (изобретение истории будет вообще одним из первых сюжетов, которые нам предстоит изучить). Я уже говорил о том, что история рождается на перекрестье взглядов историка и его читателей и что у обеих сторон есть интересы, которые диктуют направление – исследования или восприятия. Теперь я добавлю, что, даже несмотря на недавнее расширение сферы интересов и методов, история по-прежнему пишется победителями. Любой человек, у которого хватает образования, денег или общественного положения, чтобы опубликовать книгу или статью или стать автором телепрограммы, добился успеха в западном обществе, и его точка зрения неизбежно отражает тот факт, что он воспользовался его благами. История Запада, написанная сбитым с толку калифорнийским наркоманом, которому грозит 40 лет тюрьмы за третий рецидив – кражу шоколадок в местном магазине, или сельским поденщиком, который всю жизнь безвыездно провел в родной галисийской деревне, выглядела бы совсем непохожей на то, что нам доводилось читать. Подобный документ никогда не появится на свет, и мы не способны породить его усилием мысли, однако нам следует помнить о его отсутствии.
То же самое касается исторической периодизации. Вордсворт как-то заметил, что поэзия «происходит из эмоции, вспомненной в состоянии спокойствия». История тоже пишется отнюдь не в пылу сражения. Действительно, у нас нет повествования о западной цивилизации, написанного в Орадур-сюр-Глане или Аушвице в 1944 году, или в трудовом лагере на Колыме. Как бы выглядела история, если точка отсчета – настоящее – была бы настоящим адом? Мы никогда этого не узнаем, потому что, несмотря на последующие рассказы переживших этот ад, история не может создаваться в такие моменты и в таких местах.
Кроме того, история, как и политика по выражению Гарольда Уилсона, есть «искусство возможного». Все, что говорят и пишут историки, опирается на материальные свидетельства, причем преимущественно – в письменной форме. Общества и культуры, не имевшие письменности, практически недосягаемы для нас; великие эпохи западной цивилизации и многие ее аспекты остаются белым местом на исторической карте – либо потому что свидетельства о них не дошли до наших дней, либо потому что о многих своих занятиях нашим предкам не приходило в голову оставлять свидетельства. (Великой задачей европейской исторической науки последнего времени – я уже указывал на это – является реконструкция подобных темных эпох на основе археологических и других неписьменных источников.) И наоборот, приближаясь к настоящему, мы находим такое количество письменного материала, что историк рискует оказаться сбитым с толку.
Согласно кем-то высказанному предположению, популярность наблюдения за поведением и повадками птиц среди европейцев объясняется тем, что число видов пернатых здесь достаточно мало, чтобы поддерживать интерес у «умеренных» натуралистов, и достаточно велико, чтобы обеспечить пожизненное занятие для орнитологов-фанатиков. Чем-то это напоминает ситуацию с выбором исторических сюжетов. Нас бесконечно влечет период с XVI по XVIII век – период, непосредственно следующий за распространением в Европе и остальном мире наборного книгопечатания. Эти столетия хранят массу неисследованного: официальные документы, личные письма, муниципальные учетные книги, а также безвестные политические памфлеты и периодические листки. Многое уже прошло сквозь руки историков, однако всегда остается шанс, что в недрах давно лежащего под спудом толстого регистра или чьей-то переписки попадется нечто по-настоящему важное. К XIX веку романтика поиска подобных сокровищ начинает сходить на нет – возникновение промышленных методов изготовления печатной продукции попросту обрекает историка на роль не столько открывателя, сколько сортировщика огромной массы документов. В XV веке и дальше в глубь истории документы, наоборот, слишком редки и в основном ограничиваются делами официальными; содержание жизни масс приходится вычислять с помощью искусной интерполяции скудного материала, и здесь шанс набрести на нечто новое близок к нулю.
История избирательна – на нее влияет точка зрения историка, его культурный и социальный багаж, время создания, доступность документов, связь с великими темами прошлого, наконец, то, каким она обладает потенциалом для новых открытий. И если нам не дано серьезно изменить маршрут нашего путешествия в прошлое, мы по крайней мере должны отдавать себе отчет о невидимых силах, нас направляющих.