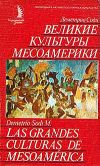Текст книги "Цивилизация. Новая история Западного мира"

Автор книги: Роджер Осборн
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Археология и антропология (изучение человека как вида) обрели статус серьезных дисциплин в конце XIX века, в то самое время, когда среди европейцев была наиболее сильна вера в прогресс человечества и в то, что европейское общество шествует во главе этого прогресса. История человечества диктовалась мировоззрением, для которого географическое расстояние от Западной Европы должно было соответствовать исторической дистанции и которое видело в народах Тасмании, Южной Африки, Аляски или Патагонии представителей зари человечества, таких же как самые первые европейцы. В тот момент прогресс можно было отложить равно и на временной шкале, и на карте. В начале XX века научные иллюстраторы изобрели визуальный образ пещерного человека, с его классическими деревянной дубиной и набедренной повязкой из шкур животных (ни то, ни другое археологам обнаружить так и не удалось). Археологическая периодизация изначально базировалась на находках орудий, поэтому технологические усовершенствования стали приниматься за очевидный индикатор поступательного развития древних европейцев, т. е. их прогресса. Потребовались усилия тысяч археологов и антропологов, чтобы отказаться от этого примитивного вымысла и представить более сложную, неоднозначную и, следует добавить, более интересную картину нашей древней истории.
Разнообразие европейской среды обитания позволяло охотникам-собирателям адаптироваться к природным переменам. Сегодня ясно, что система поселений ранних гоминидов, неандертальцев и людей палеолита была бесконечно сложнее, чем представлялось еще 50 лет назад. Разброс климатических сред, в которых жили древние европейцы, радикально изменил главенствующую идею технологического прогресса. Вместо нее, считают археологи, мы должны взять на вооружение идею дивергенции людских групп, вынужденных приспосабливаться к меняющимся естественным и общественным условиям. В сохранившихся материалах они ищут доказательства, свидетельствующие о тех или иных стратегиях выживания. Одна группа адаптировалась к ситуации совсем иначе, чем другая, не потому, что кто-то из них был отсталым, а кто-то – нет, а потому, что ситуация предъявляла им уникальные требования. Ясное понимание этого приходит с изучением одних и тех же групп, действующих в разных условиях: мобильные группы, кочующие между разными климатическими регионами, использовали разные наборы «инструментов» для решения разных задач в разных местах. Сейчас существует понимание, что нельзя датировать артефакт просто на основании его внешнего вида или определить «развитость» группы на основании орудий, которые она использовала, и в свете этого понимания идея всеобщих законов технологического прогресса представляется все более и более сомнительной.
Трансформация социального устройства и смена типов артефактов материальной культуры также традиционно рассматривались как индикатор прогресса. Но и здесь имеющиеся в наших руках свидетельства указывают на сложность исторического ряда вариаций, больше на непреднамеренное, нежели поступательное развитие усовершенствований. Когда-то древнеевропейские охотники осознали, что им будет легче устраивать стоянки вблизи маршрутов миграции добываемых животных. Однако последующая зависимость от одного вида и от постоянства этих самых маршрутов оказывалась чревата катастрофой, если единственный источник пропитания иссякал – особенно, когда требовалось прокормить крупное поселение. Для малых групп охотников-собирателей такой опасности не существовало. Большие, оседлые поселения также принесли с собой больший риск заболеваний – непредвиденная компенсация за смену физически трудной, но здоровой жизни в постоянном движении, на менее активную, но более рискованную с точки зрения внезапного недостатка продовольствия или заболеваний. Понятие о территории, которую нужно защищать или, наоборот, завоевывать, у сообществ, выбравших оседлость, также укоренилось гораздо сильнее по сравнению с сообществами мигрантов.
Искусство ранних европейцев столь же не укладывается в нашу схему поступательного развития. Изощреннее ли, совершеннее ли реалистическое искусство верхнего палеолита по сравнению с символическим искусством позднего мезолита? Потребовало ли изображение драматизма и движения принести в жертву реализм, и если да, то что оно собою представляет – шаг вперед или шаг назад? Как явствует из этих вопросов, нам еще предстоит научиться гораздо более плодотворному взаимоотношению с прошлым (включая прошлое искусства) – если только мы готовы отказаться от впитанной на уроках истории идеи поступательного развития.
Эта глава в своем стремительном движении сумела объять и охотников-собирателей, и мегалитических строителей, и земледельцев Запада, и народы, жившее до, во время и после римского завоевания. Объединяет этих людей одно – отсутствие письменного языка, а также представляющееся все более и более вероятным наличие общей для них непрерывной истории. Разглядеть такую непрерывность мешает тот факт, что за все это время доисторические жители Запада сумели впитать, приспособить под себя и в ходе собственной эволюции породить неисчерпаемое разнообразие культурных трансформаций. Их разброс с таким трудом укладывается в наше понимание, что мы долго не видели иных причин этих трансформаций, кроме как миграции, завоевания или давления со стороны более развитых чужеземных групп. Тем не менее последние интерпретации истории больше подчеркивают наличие в ней непрерывности и изменчивости, нежели резких изломов и неуклонного прогресса. Западная культура с ее разнообразием и постоянной текучестью существовала уже в доисторический период – и таковой же перешла в исторический.
Когда мы замечаем, что этой культуре «не хватало» письменного языка, мы выносим одно из самых серьезных и одновременно неосознанных ценностных суждений об истории. Да, появление алфавитного письма оказало огромное воздействие на жизнь Запада во всех ее аспектах, и рассмотрению этого феномена я собираюсь посвятить следующую главу. Однако здесь мне кажется важным увидеть обратную сторону исчезновения устной культуры. Собственно искусство устного повествования – только малая часть такой культуры. С ее утратой общинное, локальное, межличностное, инстинктивное, импровизированное, непосредственное измерения человеческой жизни приходят в упадок, за счет чего возвышаются индивидуализированное, отстраненное, просчитанное и упорядоченное. Законы обычного права вытесняются писаными правилами, опыт уступает место абстракции. Противоречие между этими двумя образами жизни, как мы увидим, станет центральным аспектом всего западного существования.
Попытка рассказать о людях, населявших Западную Европу в дописьменную эпоху и не имевших шанса попасть в анналы, позволяет нам подметить кое-что интересное в самой практике написания истории. Ведь наша склонность втискивать прошлое в удобный формат предисловия к настоящему становится как нельзя более наглядной в случаях, когда о прошлом известно совсем немного. Воодушевленные первыми успехами археологии и опирающиеся на некоторое количество хроник и историй сомнительной ценности, прежние исследователи сумели скомпоновать вполне правдоподобный сюжет. К несчастью тех, кто мыслит современными категориями, народы Запада и Севера не оставили ни письменных документов, ни памятников культуры, удобных для размещения в музеях. Поэтому сперва наши предшественники вообще не отводили им места в серьезной истории, а затем сотворили из них некую романтизированную альтернативу общепринятому представлению о том, что такое Европа. Образы первобытного пещерного человека каменного века, мудрого друида, прогрессивного земледельца, освоившего производящую экономику, язычника, погрязшего во тьме невежества, и вдобавок многочисленные реконструкции завоеваний и переселений (так легко обозначаемые на карте – простой линией карандаша) – все это помогало нужным образом свести концы с концами, соблюсти стройность той или иной концепции. Но история не просто испытывает влияние определенной политической идеологии времени ее написания, она вообще всегда является радикальным упрощением прошлого – и 30 тысяч лет доисторического существования Европы особенно уязвимы перед нашей потребностью категоризировать, упорядочивать, осмысливать и объяснять. За отсутствием какого-либо конкретного человеческого голоса, имени, лица мы начинаем смотреть на наших предков как на анонимных членов некоего проточеловечества, исполняющих свое эволюционное предназначение и ведомых безличными силами истории. Тем не менее сам факт адаптации первоевропейцев к разительно меняющимся природным и социальным условиям должен продемонстрировать, что мы имеем дело не просто с еще одним привычно описываемым биологическим процессом; наоборот, множество развилок на путях такой адаптации являются ситуациями выбора – сложного, противоречивого, неосознанного и имеющего самые непредсказуемые последствия.
Когда мы анализируем прошлое, мы так или иначе нивелируем его сложность. Так, периодизация доисторического времени дает нам определенную систему координат, однако грозит обернуться еще одним объяснением взамен требуемого понимания. Технологическое развитие от каменного века к бронзовому и далее к железному само собой выстраивается в картину неумолимого прогресса; смена индивидуальных захоронений коллективными и вновь индивидуальными представляется индикатором смены отношений, связанных с землей и собственностью; рассеяние одинаковых артефактов по всему континенту указывает на общность культуры, возможно, ставшую результатом миграции людских групп; древний документ, пусть и написанный столетия спустя, служит удобным свидетельством того, что происходило на самом деле, – археологи и историки уже научились осмотрительно пользоваться такими построениями, подчеркивая сложность и случайность реальности. Однако нам следует отдавать себе отчет, что новые методы и новые доказательства способны – и никогда не перестанут – быть такой же жертвой нашей склонности категоризировать, какой оказался изобретенный в XIX веке пещерный человек. При всей технической изощренности мы никогда не будем в состоянии объяснить создание столь грандиозных монументов, как Маэс-Хоу, Нью-Грейндж, Калланиш, Стоунхендж или Силбери-Хилл, а любое понимание, к которому мы сможем прийти, будет всегда опираться на наше сегодняшнее мировоззрение. Но тогда что нам «делать» с этими обломками прошлого, какая от них польза, какое влияние он могут оказать на нашу жизнь? Наверное, чтобы взять максимум из того, что могут нам дать эти рукотворные исполины, нужно забыть о присвоенном им концептуальном предназначении и просто взглянуть на них с трепетом и смирением.
Прошлое – страна открытий, но оно же служит фоном, на котором разворачиваются истории, рассказываемые нами другим и самим себе. Потребность в фабуле, в развитии и кульминации заставляет нас смотреть на прошлое, как на нечто, пусть сложное и противоречивое, но имеющее смысл, который в конечном счете должен быть расшифрован. По мере того как благодаря новым методам и открытиям доисторическое прошлое становится частью нашей истории, оно также становится частью нашей цивилизации – выявляющей через географию, культуру, связь с природой свою общность с настоящим. Однако в этом процессе проступает всегдашний парадокс истории. Не наделяем ли мы порядком прошлое, которое в реальности никакого порядка не имело? Не смотрим ли мы в прошлое в поисках обретения уверенности в настоящем? Не является ли вера в то, что мир развернется перед нами во всей своей благоустроенности, утешительной иллюзией, ограждающей от реальности, в которой мы вынуждены жить лицом к лицу с непредсказуемым будущим?
Глава 2. Лавина слов. Обновление и обычай в классической Греции
Если в предыдущей главе излагалась европейская история, не оставившая о себе письменных свидетельств, то теперь мы вступаем в период, который просто изобилует писаниями и писателями. Почти волшебное количество древнегреческих документов (а также зданий, скульптур, других артефактов), дошедших до нас, меняет сам принцип наших исследований. Ведь чтобы понять надежды, желания и мотивы европейцев прошлого, нам больше не нужно полагаться на догадки; их мифы, религиозные верования, законы, политические системы, открытия и разногласия теперь доступны посредством элементарного акта чтения.
Алфавитное письмо не просто сохранило историю древней Греции для будущих поколений – оно стало катализатором ошеломляющих перемен в искусстве, архитектуре, политике, а также в восприятии человеком себя самого, своей истории и окружающего мира. Историки и философы уже который век бьются над объяснением этого внезапно возникшего в одном месте многообразия культурных новаций. Было ли у греков больше ума, восприимчивости, таланта, чем у всех их предшественников и последователей, или, может быть, они обладали редкой склонностью к красоте, созерцанию и рациональному мышлению? От подобных вопросов (несмотря на всю нелепость, их продолжали всерьез задавать еще несколько десятилетий назад) сегодня мы перешли к анализу конкретных исторических, социальных и географических факторов, и одной из тем, пользующихся возрастающим интересом исследователей, является роль алфавитного письма. Собственно, феномен древней Греции, исторический сюжет, кульминацией которого стали Афины V – начала IV веков до н. э., в основных своих чертах может быть описан как последовательность попыток сельскохозяйственного общества адаптировать древние обычаи, лежащие в его основе, к новому уровню экономического благосостояния, к складывающемуся городскому образу жизни и к возникающей культуре письменного слова.
Нас учили видеть в культуре классической Греции гигантский скачок вперед – из тьмы первобытной жизни на свет рационального мышления, демократии и высокой эстетики. Однако, если вспомнить уроки предыдущей главы, у нас сегодняшних больше нет оснований рассматривать пресловутый родоплеменной строй как длящееся и бессобытийное состояние коллективного невежества: уклад и устройство «варварского» доисторического общества позволяли ему весьма эффективно распределять властные полномочия, держать в жестких рамках преступное поведение и ход военных действий, успешно приспосабливаться к меняющейся среде обитания, а также создавать произведения искусства, которые остаются непостижимо прекрасными и поныне. Если мы хотим понять прошлое, нам стоит приучить себя к менее предвзятому и более конструктивному взгляду на соотношение различных ипостасей европейской культуры.
В 1899–1907 годы, работая на острове Крит, британский археолог Артур Эванс сделал ряд поразительных открытий, указывавших на существовавшую здесь в древности неизвестную цивилизацию. На протяжении более чем тысячелетия – приблизительно с 2500 по 1400 год до н. э. – критский город Кносс являлся центром государства, граждане которого имели достаточно развитую письменность, использовали передовые методы обработки бронзы и меди и строили огромные дворцы для своих царей. Минойская цивилизация (названная так в честь царя Миноса) погибла где-то в середине II тысячелетия до н. э. – по всей вероятности, пострадав от разрушительного вулканического извержения, через короткое время она была добита отрядами завоевателей. Около 1200 года до н. э. произошло падение Микен, материкового города-наследника минойской культуры, и Хеттского царства – государства, доминировавшего до тех пор на территории Анатолии и Ближнего Востока. Мы мало знаем о причинах и последствиях этого падения, однако предположительно в результате из Анатолии на запад хлынули потоки переселенцев, которые заставили племена, жившие в районе устья Дуная, мигрировать на юг и восток и в конечном счете осесть на Балканском полуострове и островах Эгейского моря. Хотя 500 лет, последовавшие за падением Микен, оставили очень мало археологических и других свидетельств (за что получили название греческих «темных веков»), по-видимому, именно в это время долины и узкие прибрежные равнины вокруг Эгейского моря были заселены народом, известным нам под именем греческого, или эллинского. Сами греки верили, что являются потомками двух переселенческих племен, ионян и дорян, которые пришли в Грецию извне, и многие их легенды очевидно хранят следы бурных событий XIII–XII веков (падение Трои традиционно датируется 1184 годом до н. э.).

Греция и Персидская империя
В 500 году до н. э. Греция представляла собой западную окраину огромной Персидской империи
Главенствующими в культурном, экономическом, политическом и военном отношении державами этого региона на протяжении тысячелетий были государства, лежащие к востоку от Средиземноморья – в Месопотамии и Анатолии. Ассирийская империя, которая пришла на смену хеттам, простиралась от Персидского залива до Средиземного моря, а на короткий период и до дельты Нила. Но в VII веке до н. э. Ассирия подверглась нападению: в 625 году до н. э. Вавилон, а в 612 году до н. э. Ниневия, ассирийская столица, были захвачены племенем мидян. В то время как мидяне воцарились в северных областях бывшей Ассирийской империи, на юге персы, народ, сложившийся на Иранском плоскогорье, постепенно захватили бассейн Тигра и Евфрата. В 550 году до н. э. Кир, великий царь персов, разгромил мидян и положил начало империи, которая протянулась от берегов Инда до восточного побережья Средиземного моря.
Сменявшие друг друга восточные империи своей мощью были обязаны земледельческой продукции так называемого Плодородного полумесяца. Надо заметить, что переход от ранних земледельческих поселений на нагорьях к хозяйствованию на обширных низинных равнинах Месопотамии влек за собой определенный риск. Эксплуатация плодородной почвы требовала применения сложных методов ирригации и культивации; отсутствие сырья для производства создавало необходимость в протяженных, а потому ненадежных, сетях обмена и торговли; открытый ландшафт вынуждал строить города с крепкими защитными стенами. В отличие от практически всей территории Европы, где ответом на топографическое разнообразие явилось преобладание небольших поселений, складывание городских обществ в Месопотамии стало естественным итогом адаптации к открытому ландшафту со всеми его опасностями.
Для эллинского населения, рассеянного по крохотным участкам суши в районе Эгейского моря, такое развитие событий имело два важных следствия. Во-первых, имперские державы на востоке были огромным плавильным тиглем для широчайшего исторического и географического спектра культур и традиций. Вавилонская, Хеттская, Ассирийская, Персидская империи абсорбировали культурные влияния самых отдаленных регионов: Индии и Китая, Киргизской степи и Центральной Азии, Гиндукуша и Иранского плоскогорья, Кавказа и южной Месопотамии, Палестины и Сирии, Лидии и Египта – и ко всему этому греки имели непосредственный доступ. Во-вторых, район Эгейского моря лежал в стороне от борьбы за власть над Плодородным полумесяцем, а потому был предоставлен сам себе – греки могли заниматься своими делами, не боясь вмешательства со стороны.
Дела греков включали в себя рыболовство, сельское хозяйство, ремесла и торговлю – и здесь география и история были на их стороне. Товары прибывали в Средиземноморье из восточных империй и перевозились купцами дальше на запад. Если поначалу в этом промысле заправляли жители Леванта, то есть сирийцы и финикийцы – их регион лежал непосредственно на пути торговых маршрутов, – то по мере захвата империями анатолийских территорий район Эгейского моря начинал играть все большее значение. В эллинском мире, центром которого было море – Сократ метко назвал греков «лягушками, рассевшимися вокруг пруда», – селения располагались в крутых речных долинах, разрезавших горный ландшафт островов и полуостровов. Горы служили труднопреодолимым барьером, однако от одного селения к другому было легко добраться морем. Результатом такой географии стали многочисленные мелкие сообщества, имевшие общие язык и культуру, но благодаря физической разделенности сохранявшие автономию.
К западу от Греции лежало Ионическое море, за ним – южная Италия, Сицилия и выход в западное Средиземноморье. С VIII века до н. э. греки начинают основывать на берегах Средиземного моря колонии-сателлиты, постепенно распространяя свое присутствие до территории современных Италии, Сицилии, Франции и Испании. В южной Италии было рассеяно такое количество греческих поселений, что позже эта область получила у римлян название Magna Graecia, Великая Греция. Одни и те же мифы, божества, ритуалы и поэмы были известны в таких удаленных друг от друга городах, как малоазиатский Милет и южноиспанский Сагунт. Идеи и мнения по любым вопросам находились в эллинском мире в постоянном свободном обращении, лишенные надзора со стороны какой-либо центральной власти. Несмотря на это, история отношений между независимыми греческими городами представляет собой длинный список войн, в которых предательство, жестокость и порабощение были вполне заурядным явлением.
Из всех эллинских городов больше всего мы знаем об Афинах – по той простой причине, что сочинения афинян, как непосредственных свидетелей событий, так и позднейших историков, были сохранены потомками (само по себе знак того, каким почитанием они пользовались). В VII веке до н. э. на территории Аттики, между ее многочисленными рыболовецкими и сельскохозяйственными поселениями, главным из которых были Афины, начался процесс постепенного политического объединения. Историки предполагают, что до VII века конкуренция за политическую власть на этой территории была незначительной, поскольку общество представляло собой вольную ассоциацию деревень и родов, время от времени собиравшихся вместе для отстаивания и удовлетворения общих интересов и на этом основании преданных друг другу.
Более интенсивная торговля с Востоком, а также открытие месторождения серебра на горе Лаврион, в VII–VIII веках до н. э. привели к росту экономического благосостояния эллинского мира вообще и Афин в частности. Население деревень увеличивалось, в обществах стало выделяться ядро из зажиточных семей, возвышавшееся над большинством обычных земледельцев, рыболовов и ремесленников. Благосостояние сделало необходимой и более формальную социальную организацию, позволяющую распределять ресурсы, защищать накопления, улаживать споры. По мере освоения обычаев урбанизированной жизни восточных империй поселения греческих долин постепенно превращались в города-государства.
В некоторых областях и городах эллинского мира отдельные семьи и люди сумели собрать достаточную поддержку, чтобы взять политическую власть в свои руки, – так устанавливались режимы единоличного правления, или тирании; в других власть разделялась между группами семей – это называлось олигархией. Согласно свидетельству Геродота, в 632 году до н. э. свои претензии на власть в Афинах заявил некто Килон: «Он до того возгордился, что стал добиваться тирании. С кучкой своих сверстников он пытался захватить акрополь»[3]3
История, книга пятая. Перевод Г. Г. Стратановского. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Несмотря на провал попытки Килона, само свидетельство показывает, что к тому времени Афины уже представляли собой единое политическое образование, в котором захват центральной власти был возможен хотя бы теоретически. На практике же, будучи слишком крупным государством, чтобы стать жертвой манипуляций одного выскочки-властолюбца, Афины сложились как олигархия, управляемая советом богатых семей, который назывался ареопагом.
Согласно Аристотелю (писавшему 250 спустя), в 650-600 годах до н. э. в Афинах и других греческих городах-государствах стали возникать серьезные социальные трения. Конкретным поводом для недовольства афиняне считали так называемое долговое рабство, однако реальной причиной было растущее общественное разделение по признаку богатства и власти. Обеспечение всякого долга ложилось на плечи самого должника, иногда в качестве погашения ссуды у него забирали даже детей, и это, по словам Аристотеля, приводило к тому, что «большинство находилось в рабстве у меньшинства». Институт долгового рабства мог эффективно работать в условиях сельскохозяйственной общины с ее тесными сетями родства и обычным правом; в Афинах VII века до н. э. он уже имел катастрофические последствия. Бесконтрольный рост задолженности происходил в результате того, что состоятельные семьи постепенно прибирали к рукам общинную землю и затем либо брали с земледельцев ренту за пользование ею, либо вообще оставляли их без надела. Земледельцы залезали в долги и через какое-то время переходили в рабство к заимодавцу. Если же они обращались с жалобой в ареопаг, другие состоятельные семьи неизменно отказывали им в удовлетворении.
К 600 году до н. э. Афинам серьезно угрожала опасность гражданской войны. Напряжение между «народом и правителями государства» (которыми являлись представители богатейших семей) достигло критической точки. Многие граждане буквально становились рабами в собственной стране, другие были вынуждены отправляться в изгнание. Однако наибольшую угрозу для правящей группы представляла ситуация, в которой оказывались земледельцы. Неспособные сопротивляться гнету властителей поодиночке, афинские земледельцы не были вовсе лишены рычагов давления. Дело в том, что деревни поставляли солдат в афинскую армию и флот, и хотя у каждой богатой семьи по отдельности могла иметься собственная вооруженная охрана, потенциально сельская масса была сильнее.
Чтобы избежать кровопролитного конфликта, обе стороны договорились передать ответственность за решение проблем города-государства – полиса – в руки одного человека, Солона, который не был ни членом знати, ни деревенским земледельцем – по свидетельству Аристотеля, «по происхождению и по известности Солон принадлежал к первым людям в государстве, по состоянию же и по складу своей жизни – к средним». Почему афиняне пошли на это? По всей видимости, Афины очутились в тупиковой ситуации – правители грабили собственный народ, но от захвата абсолютной власти их удерживали фракционные противоречия, в то же время простые граждане, особенно земледельцы из деревень, требовали изменить сложившуюся систему отношений, чего не мог обеспечить ни один из членов правящей элиты. Афины превращались в городское общество, где особенно велик риск установления авторитарной власти, однако земледельцы все еще обладали достаточным политическим весом, чтобы настаивать на сохранении обычая общинного самоуправления.
Солон стремился к тому, что греки называли «эвномией», или «благозаконием», – понятие, центральное не только для управления государством, но и для организации жизни вообще, для повседневного поведения человека и для деятельности окружающего мира. В правлении, как и во многих других делах, существовал единственный верный путь. Задачей, стоявшей перед Солоном, было не сконструировать модель идеального общества и не привести две стороны к взаимоприемлемому разрешению конфликта, а найти, как дела должны обстоять сами по себе. Такое открытие просто обязано вызвать одобрение всякого, кому оно станет известно. Солону не нужно было навязывать эвномию своим согражданам – правильный общественный порядок был благом сам по себе и не требовал насильственных мер для приведения в исполнение.
Реформы Солона явились не только эпизодом политической истории, они стали началом философской эволюции. Ведь земледельцы не добивались некоего сказочного благоденствия, они лишь хотели вернуть себе землю и отменить долги. Чтобы дать им то, чего они просили, Солон не мог повернуть время вспять, однако он мог издать законы, которые воссоздавали гармонию, по его убеждению, существовавшую прежде. При этом «благозаконие», несмотря на все свои практические последствия, оставалось абстрактным понятием, обнаруживаемым не опытным, а созерцательным путем – тогда как его эффект ощущался в реальном мире, само оно существовало только в качестве бестелесной идеи, или идеала. Изобретение таких идеалов стало отличительной чертой классических Афин, и есть все основания увязать это обстоятельство с употреблением письменности, которую греческий мир перенял у финикийцев в промежутке между 800 и 750 годом до н. э.
Изначально надписи появились на памятных каменных плитах и на глиняных черепках и восковых табличках. Среди ранних артефактов письменности – кубок Нестора из южной Италии и вазы из Дипилонского некрополя Афин, датируемые примерно 740–730 годами до н. э. Люди писали послания богам на кусочках обожженной глины и оставляли их в святилищах – отсюда видно, что кроме прозаической ценности, письмо имело символическую и магическую силу. Для греков, как и для нас, разные формы письма передавали различные нюансы значения.
Особенно интересной исторической деталью стало фиксирование на письме законов – законы Солона (ок. 600 года до н. э.) были, вероятно, изначально вырезаны на деревянных табличках. По одной точке зрения, вырезание законов делало их вечными и неизменными, не допускало последующего искажения, однако сегодня нам уже ясно, что письменная фиксация законов явилась лишь незначительным нововведением в эллинское судопроизводство, к тому же довольно неоднозначным. Как и в других устных обществах, поведение греков по-прежнему регламентировалось нефиксированным обычным правом. Новые законы, возможно, записывались как раз потому, что не являлись законами обычая и, следовательно, не имели всеобщего признания. Важнее другое: из межличностного дела, решаемого в живом общении и взаимодействии, они превратили отправление правосудия в интерпретацию неодушевленного свода правил. Это стало важнейшей стадией в развитии надличностного института государства и абстрактного мышления.
В большинстве афинских проблем Солон винил олигархов. Богатым он говорил: «Знайте же меру надменному духу: не то перестанем мы покоряться, и вам то будет не по сердцу». Он прекратил долговое рабство, отменил все прошлые долги такого рода и призвал обратно всех, кто бежал из Афин, чтобы не стать рабом у заимодавца. Земля, конфискованная за неуплату, была возвращена земледельцам. Однако, ликвидируя наиболее острую причину конфликта, Солон понимал, что для установления «благозакония» требуется кое-что еще. Он разработал для полиса новую конституцию, которая разделила население на четыре имущественных класса. Каждому классу отходила определенная доля государственных должностей – архонты и хранители казны избирались из самого высшего класса; младшие чиновники, начальники тюрем, судебные приставы – из первых трех. Низший класс граждан получал право заседать в народном собрании и избираться в суд присяжных.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?