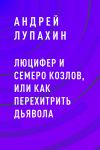Текст книги "Пожиратели звезд"

Автор книги: Ромен Гари
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава IX
Полковник, командовавший авиацией, звонил каждые полчаса, чтобы доложить о положении дел и заверить Альмайо в своей безграничной преданности, сообщая при этом, что он держит отдельный самолет специально для лидера максимо, если тот решит покинуть – на время, конечно, – страну. Альмайо отдал ему приказ бомбить мятежников – Генеральный штаб армии, танки, радиостанцию, весь этот сброд на улицах, – потом перезвонил и велел нанести удар еще по национальной библиотеке, новому университету и филармоническому центру. Полковник рискнул задать вопрос: так ли уж важны эти три последних объекта? Ему кажется, что их разрушение не будет иметь особого практического значения…
– Там засели студенты, – сказал Альмайо и повесил трубку.
Это было не так, но у него были свои соображения.
Стрельба, казалось, понемногу стихала, а телефон, находившийся под правительственным контролем, работал бесперебойно. Центральную телефонную станцию трижды пытались захватить, но силы безопасности держались как надо. Альмайо отправил в город полковника Моралеса с приказом доложить о ходе уличных боев, после чего взял с письменного стола бутылку и удалился в свои апартаменты. Он нашел юную индианочку в той самой позе, в какой ее оставил: она сидела на корточках на матрасе совершенно голая и расчесывала волосы. В резиденции у него всегда было две-три таких девицы, но эта оказалась способнее других; она притворялась, что ей интересно, остальные же, как коровы, тупо позволяли ему делать с собой все, что угодно. Он велел ей одеться; не любил он наготу, она всегда его шокировала. Нагота напоминала ему о нищем, убогом детстве, о подыхающих с голоду беспорточных кухонах, увязших по уши в своем тысячелетнем дерьме.
Затем он лег на спину и полежал так в ожидании, когда к нему вернутся силы. Он думал о кубинском феномене, которого выписал сюда из Акапулько, где тот произвел настоящий фурор, и о необыкновенных способностях которого услышал от своего посла в Мехико. О мятеже он больше не думал. Он знал, что подавит его: распрекрасные воззвания его вожаков, многие из которых принадлежали к интеллигенции и руководствовались самыми лучшими побуждениями, говорили о том, что их авторы искренни и бескорыстны, а значит, у них нет ни малейшего шанса на успех. Никогда им не заручиться необходимым покровительством, об этом и речи быть не может. Он думал о своем кабаре, единственном его настоящем увлечении, где проходили лучшие минуты его жизни. Уже больше десяти лет он был владельцем этого заведения; теперь, ввиду своего положения, он завел себе человечка – подставное лицо, но все равно сам следил за всем. Он выписывал к себе мировых знаменитостей с лучшими номерами и часто сам присутствовал в зале или приглашал их к себе во дворец. «Пристрастие лидера максимо к разного рода акробатам и шарлатанам – они имеются даже в его ближайшем окружении – вызывает улыбки в посольствах иностранных государств». Он читал это в одном американском глянцевом журнале.
В тяжелые минуты, когда в сердце ему закрадывалось сомнение или когда он терял веру, он всегда думал о ком-нибудь из них.
Был среди них один голландец, который втыкал шпагу себе в живот так, что острие выходило наружу из спины; после чего он выдергивал из себя клинок, кланялся и с улыбкой уходил за кулисы, чтобы на следующий день повторить все снова. Вот это был номер! От ужаса у зрителей, среди которых было немало врачей, волосы вставали дыбом. Голландец потом умер в Гамбурге: что-то в его трюке не сработало, может быть, он допустил какое-то неловкое движение и, промахнувшись на несколько миллиметров, не попал в ту единственную точку, куда мог вонзить шпагу без вреда для себя. Так считали специалисты из мюзик-холла, но у Хосе было на этот счет свое мнение. Голландца попросту оставила удача, он лишился покровительства, которым до сих пор пользовался.
Еще был некто Крюгер, тот мог загипнотизировать одновременно несколько сотен человек, которые в этом состоянии наблюдали исторические события многовековой давности, а потом подробно описывали увиденное. Это было потрясающе, но кто-то объяснил Альмайо, что гипноз – научный феномен, который применяют в больницах. Хосе стало настолько противно, что он прервал выступления немца и вышвырнул его прочь из страны, не заплатив ни гроша. Чего бы он только не дал, лишь бы увидеть такое, чего человеческий глаз еще никогда не видел. В «Эль Сеньоре» он присутствовал при выступлениях самых выдающихся танцоров, жонглеров, фокусников, акробатов и иллюзионистов. Совсем недавно ему довелось пережить минуты, вселившие в него надежду: это было, когда он слушал барабанщика с Гаити, негра по имени Маленький Луи, который своим искусством ввергал зрителей в настоящий транс, создавая поистине потрясающий «саспенс». Чуствовалось, что еще немного – и наконец произойдет что-то этакое. Альмайо слушал его ночами напролет, накачиваясь алкоголем и ожидая этого «чего-то» – он и сам не знал, чего именно. Ожидание это действовало на него тем более завораживающе, что негр обставлял свое выступление с особой тонкостью и коварством, прекрасно зная, как использовать чувство неотвратимости, которое создавал и безжалостно продлевал, действуя с чутьем вудуистского шамана, умеющего сыграть на самых сокровенных чаяниях рабов и обездоленных.
Гаитянин был неутомим, в нем чувствовалось такое вдохновение, такая сила, что казалось, будто он владеет секретом вечного движения. Скорчившись на черных мраморных плитах пола перед своим барабаном, обливаясь потом, по пояс голый, он не отрываясь смотрел на Альмайо с неподвижной улыбкой, белой, кривой расщелиной прорезавшей ему лицо. Альмайо чувствовал, как между ними возникает некая близость, одновременно братская и преступная, ему казалось, что негру действительно известно нечто этакое, что он пришел оттуда. Он молотил по барабану с такой скоростью, что его руки становились невидимыми; ритмы никогда не повторялись; ночь проходила, а его поразительным вариациям, казалось, не будет конца. Альмайо сидел в пустом кабаре, зажав в зубах потухшую сигару и ждал, внимая обещаниям шамана, глядя в самые глаза этому грязному негру, так хорошо знавшему, о чем мечтают те, у кого за плечами века рабства и унижения.
Наряду с барабаном все еще жил и здравствовал идол из разноцветных перьев с жутким лицом получеловека, полуптицы, – и это несмотря на то, что Смитсоновский фонд построил в столице прекрасный Музей человека, а в университете имелась кафедра антропологии и социологии.
Но ничего никогда не происходило. Не было никаких знаков, никто не отвечал на призывы – одно сплошное надувательство. Гаитянин был просто лучшим в мире барабанщиком, вот и все. Возможно, поэтому Трухильо и выгнал его из Сан-Доминго незадолго до того, как его убили. Наверно, и он тоже почувствовал себя обманутым и покинутым.
Хосе стал понемногу избавляться от иллюзий относительно искусства и тех, кто им занимается. Все эти артисты – фигляры. Никто за ними не стоит: они могут полагаться только на себя самих, на свое мастерство, свои мелкие хитрости. В это самое время он и начал кампанию против колдунов, что снова повысило его рейтинг в среде прогрессивных элит. Немало тогда было уничтожено их в глубинке. В деревнях сжигали идолов, маски, всех, кто практиковал культ вуду и был застигнут за этим занятием, бросали в тюрьму. Этот его приступ беспощадного модернизма вылился в сотни смертей. В сущности, он просто свел личные счеты со всеми, кто всю жизнь его обманывал – с самого детства. Он запретил религиозное образование в школах и приказал изгнать из страны всех иностранных священников. Все они – обманщики и шарлатаны, только прикидываются, что им что-то известно, ссылаясь на какую-то силу, которую якобы представляют здесь на земле. Настоящая-то власть вовсе не здесь, а там, куда им нет ходу. У них нет того, что нужно, они боятся платить, считая цену непомерно высокой. А вот Батиста[19]19
Батиста-и-Сальдивар, Рубен Фульхенсио (1901–1973) – кубинский правитель: фактический военный лидер в 1933–1940 годах, президент в 1940–1944 и 1954–1959 годах, временный президент в 1952–1954 годах. Организатор государственных переворотов 1933 и 1952 годов. Был свергнут в ходе Кубинской революции 1959 года.
[Закрыть] заплатил, и Трухильо тоже, и многие другие: Хименес[20]20
Хименес, Маркос Эванхелиста Перес (1914–2001) – государственный и военный деятель Венесуэлы. Временный президент в 1952–1953 годах, президент в 1953–1958 годах.
[Закрыть] в Венесуэле, Дювалье[21]21
Дювалье, Франсуа (1907–1971) – государственный деятель, диктатор, бессменный президент Гаити с 1957 года до своей смерти.
[Закрыть] на Гаити. И пока они платили не скупясь, им оказывалось покровительство, благодаря которому они побеждали всех врагов. Но всегда наступал такой момент, когда они пугались: власть выскальзывала у них из рук, потому что они сдавали, пытались искупить вину, начинали делать «добро». И тогда их немедленно изгоняли, они теряли не только власть, но и жизнь. Невозможно сохранить власть и ничего не заплатить за это, и Альмайо платил и платил. Он стал образцовым негодяем; в восемнадцатилетнем возрасте он уже славился особой жестокостью и полным отсутствием совести; через несколько лет его таланты в этой области получили признание, а сам он – серьезную политическую поддержку. Очень скоро его известность вышла за пределы страны; рассказы о его «зверствах», массовых казнях, пытках, в частности, о том, как сбрасывались с Сандоринского шоссе в пропасть семьи членов оппозиции, ежедневно публиковались возмущенной до предела прессой «прогрессивной» Америки, и Альмайо – в ту пору всего лишь шеф политической полиции – с удовольствием читал их, забывая стряхивать пепел с сигары: его действия пользовались широкой известностью, а значит, не могли ускользнуть от внимания истинного искателя серьезных, исключительных талантов, желающих распространить свою власть на мир, которым он правил. Вера Альмайо была глубокой, нерушимой, пламенной и не подвластной какому бы то ни было скептицизму. С того самого дня, когда юный индеец впервые покинул свою деревню и внимательно пригляделся к родной стране, где, по сведениям ЮНЕСКО и Комиссиии по здравоохранению Организации Объединенных Наций, детская смертность от недоедания и отсутствия гигиены достигала семидесяти пяти процентов, где сифилисом болели сорок пять процентов населения, а детская проституция фигурировала в данных всех социологических исследований, он знал, кто правит этим миром. Уже в двенадцать лет он понял, что надо смотреть правде в глаза и делать соответствующие выводы, и научился этому. Он видел безнадежную, физиологическую нищету, видел отупение крестьян-индейцев, беспрестанно жующих свои «звезды» – масталу, теонанакатль[22]22
Теонанакатль (букв. «плоть бога») – ацтекское название гриба Псилоцибе мексиканская, который считался священным и использовался во время празднеств, религиозных церемоний и в ритуалах целительства.
[Закрыть], пейотль[23]23
Пейотль – ацтекское название кактуса Лофофора Уильямса и приготовляемого из него напитка. Известен прежде всего благодаря веществу мескалин, содержащемуся в мякоти стеблей дикорастущих лофофор. Индейцы Мексики и юга США почитали пейотль как божество и употребляли его при различных обрядах.
[Закрыть], ололиуки[24]24
Ололиуки – ацтекское название семян растения Turbina corymbosa, которые издревле используются шаманами коренных народов Америки в ритуальных практиках.
[Закрыть], – чтобы забыть о своей печальной участи, о притеснениях, о несправедливости, о продажной власти, которую прочно удерживают в своих руках элиты испанского происхождения, об армии и о полиции, и он знал, что мир – это поганое место и нетрудно догадаться, кто в нем хозяин. Он всегда делал все для того, чтобы быть достойным его, раз уж Бог есть только там, на небесах. И однако после нескольких лет успеха и спокойной жизни на вершине власти, врученной ему теми, кто признал его таланты, что-то пошло не так, и сколько он ни старался, сколько ни лез из кожи вон, никакие доказательства верности, которые он продолжал представлять, никакие непрекращающиеся усилия с его стороны словно не замечались. А может, он все еще недостаточно плох, недостаточно жесток? Он начинал падать духом, злился. Если, приказав расстрелять собственную мать, вы все еще не можете рассчитывать на поддержку, необходимую для сохранения власти, то что же еще надо сделать, как еще доказать свою верность? Веры он не утратил, но стал все же задумываться, а что, если священники, воспитавшие и утвердившие его в вере, его обманывали, а тот, кто правил этим миром, попросту бросил его? В свое время он был потрясен убийством Трухильо, чей пример вдохновлял его в борьбе за власть. Но старый диктатор к концу жизни стал проявлять признаки слабости, и особенно пагубным для него оказалось американское влияние. Помощь американцев, вне всякого сомнения, приносила несчастье, и все же обойтись без нее было трудно.
Он встал и снова подошел к окну, высматривая в небе самолеты. Они мешкали, и бомбежка, приказ о которой он отдал, еще не начиналась. Он мрачно разглядывал новые высотные здания в центре столицы, вздымающуюся над ними стеклянную громаду университетского небоскреба. Вот сучка американская, подумал он. Это всё ее работа. А ему надо было раньше думать. Она разрушила все, чего он добился, свела на нет все доказательства доброй воли, которые он в свое время представил. Не придал он тогда этому значения, позволил ей понастроить всех этих культурных центров, новый университет… Отсюда и пошли все его несчастья. Она всегда хотела сделать что-то хорошее для страны, и вот пожалуйста, сделала. Она действительно сделала много добра, только отдуваться за это приходится ему. Да, раньше надо было думать. Она была напичкана добрыми намерениями, доброй волей; как он сразу не почувствовал, что все это не к добру?
Он сел на кровати и, докуривая сигару, задумался: а может, эти нахлынувшие вдруг воспоминания тоже дурной знак? Может, такое глубокое погружение в прошлое в то самое время, когда все его внимание должно быть приковано к настоящему, означает, что он устал, что энергия его ослабла? Или это – какое-то предзнаменование, а он не желает его замечать? Перед ним чередой проходили все этапы его восхождения. Это же сколько стараний надо было приложить молодому кухону, чтобы заслужить внимание князя тьмы, чьи посланники, если верить священнику из его деревни и монахам из монастыря Сан-Мигель, беспрестанно колесят по свету в поисках новых талантов, пылких душ, готовых на все.
Он снова видел лицо того толстяка, ясно слышал его голос: «В следующий раз тебе повезет больше, мой мальчик».
Он все еще ощущал на щеке прикосновение его мерзкой руки. Рука была мягкая, но тяжелая, она бегала по его телу, как толстая, мерзкая игуана, Хосе хорошо знал ее и ненавидел, испытывая отвращение и стыд, за которые обещал себе когда-нибудь безжалостно отомстить.
Он тогда еще носил костюм тореадора, за который заплатил тот толстяк, как платил за многое другое: за весь его гардероб, квартиру, за его сигариллос и двенадцать пар обуви. Но Хосе не верил больше толстяку, не доверял ему. Конечно, тот был гнусным мерзавцем, а его бледное лицо, его глаза были отмечены проклятием и страхом, но Хосе теперь знал, что таких, как он, – тысячи и тысячи, только все это была мелочь, не было у них ни должного влияния, ни власти, ни, конечно же, нужных связей.
Чего он только не обещал ему горячим шепотом между уговорами, в темных закоулках, но ничего не вышло. Это был еще один обманщик, врун, и никого за ним не стояло. Каждый раз Хосе уходил с арены под смех, оскорбления и шутки толпы, которые еще несколько дней, а то и недель, звучали у него в ушах. Ночью, когда он лежал без сна в постели толстяка, вставая время от времени, чтобы умоляюще взглянуть на небо, всякий раз, когда он поднимал глаза, он видел не звезды, а только глумливые физиономии зрителей, хохотавших над неловким и абсолютно бездарным новильеро[25]25
Исп. novillero – тореро, участвующий в корриде молодых быков.
[Закрыть]. Толстяк солгал ему. Мало продать тело и душу, надо, чтобы тебе за них еще заплатили, а этого труднее всего добиться.
Он в последний раз взглянул на него. Выглядел-то он многообещающе: тяжелые взгляд желтоватых глаз, темные круги под ними, порочный рот, изнеженный и в то же время жестокий, пухлые ручки, похожие на лапы ящеров, все в рубинах и бриллиантах. Про таких вот в точности людей отец Хризостом, там, в деревне, говорил, что они – выходцы из «мрачной огненной бездны, где корчатся среди змей и пламени тела грешников, расплачивающихся за свою распутную жизнь, полную утех и наслаждений…». Хосе подумалось, что не так уж дорого они и платят. Вот индейцы, те веками еще на земле платят ничуть не меньше и тоже расплачиваются страданиями, но не получают взамен ни утех, ни наслаждений, ни даже хлеба.
В общем, он ему поверил. Но толстяк оказался совсем не тем, за кого он его принял. Тот разве что помог четырнадцатилетнему мальчишке сделать шаг в правильном направлении, и это всё. Хосе ни о чем не жалел, но теперь, если он хотел чего-то добиться, ему надо было идти дальше, гораздо дальше. Это было нелегко: с самого начала, когда он только стал шляться по улицам столицы среди других таких же индейских мальчишек в поисках поддержки, он узнал, что такое конкуренция.
– Мы больше не увидимся, – сказал он ему.
Толстяк вынул сигару, висевшую у него в уголке рта. Заплывший жиром подбородок задрожал. Он прижал руку к сердцу, и вдруг в глазах у него сверкнули слезы. Странно, подумал мальчик, где они у него там помещались?
– Я помогу тебе, я все для тебя сделаю, – сказал тот, – все. Я найму лучших тренеров. Я уже переговорил с Педро Рамиресом, он обещал давать тебе уроки. Я подарю тебе лучших быков. Мы сейчас же отправимся ко мне на ранчо, и к новому сезону у тебя будет все, что надо. А еще я куплю тебе новую машину – «Мерседес».
– Мы больше не увидимся, – повторил Хосе. – Ты – мелкий жулик, дрянь, крохобор, ничего-то ты не можешь. Силенки не те. Наобещаешь черт знает чего, а дела не делаешь. Уровень не тот.
Толстяк плакал.
– Мы поедем в Мексику, – сказал он, – я знаком с Арросо и Панчо Гонсалесом; они дадут тебе работу. Ты станешь знаменитым матадором, величайшим. Талант просто так не приходит, его делают, а на это нужно время. Скажи, ты ведь меня не бросишь? Я без тебя не могу.
– Я вечером возвращаюсь к себе в деревню, – сказал Хосе.
– Что ты будешь там делать? – спросил толстяк. – Ты такой красавчик, ну зачем тебе попусту тратить время с этими деревенщинами?
– Мне там надо кое-кому сказать пару слов, – ответил Хосе.
Он начал раздеваться, а толстяк пытался помогать ему дрожащими руками. Когда Хосе разделся донага, толстяк, взглянув на его ноги и бедра, снова расплакался.
– Может быть, я уеду только завтра утром, – насмешливо сказал Хосе, – но ты подаришь мне за это твои кольца – оба, и с бриллиантом, и с рубином.
Толстяк принялся снимать перстни.
– Бери все, что захочешь, только не покидай меня.
– Покину… завтра утром. Я теперь тебя знаю. Ты не дотягиваешь. Эти дураки насмехаются надо мной, я так и слышу, как они гогочут… И рога, бычьи рога, я все еще чувствую их… вот тут, и тут. Видишь, у меня до сих пор кровь сочится. Нет, нету у тебя никакой власти.
Толстяк достал из кармана платок и вытер глаза. Затем покачал головой:
– Я не понимаю тебя, мальчик мой, – сказал он, – не знаю, что с тобой такое. Я покупал тебе самую красивую одежду, и, когда тебе хотелось позабавляться с девицами, я слова не говорил против. Я дам тебе все, что захочешь. Завтра куплю тебе «Мерседес». Только не бросай меня.
– Ты мне не нужен, – сказал Хосе, – я знаю, что надо делать. Знаю, каким путем идти.
Утром он уехал из города на автобусе и через три дня был на родине, в деревне. Долины уже погрузились во тьму, когда он вышел из набитого крестьянами маленького обшарпанного автобуса, с курицами и козами на крыше. Знакомые с детства кипарисы исчезали, растворяясь в сокрушительной тьме, в последний раз указывая черной вершиной на небо. Он остался один в пыли удалявшегося автобуса и пошел по пустынным тропинкам. Не так мечтал он воротиться в родные места – потихоньку, ни с чем: ни восторженных возгласов, ни шумных приветствий в адрес прославленного тореро; только собачий лай где-то там, вдали.
Ему было семнадцать, прошло три года с тех пор, как он уехал из деревни. Он был голоден, но возвращаться домой к матери ему было стыдно. Внутри у него все клокотало от злости, ему не терпелось приступить к решительным действиям, обратившись к силе, что одарила такой энергией людей, о славе которых он мечтал уже тогда, – людей вроде Трухильо и Батисты.
Он направился к озеру и через заросли тростника зашагал к деревне, глядя на последние отблески солнца на воде, между закутанных в сети лодчонок, и на огромную гранитную статую Освободителя на острове, появившуюся там задолго до его рождения. Дальше были горы и низвергнутые испанцами статуи древних богов с глазами, прикрытыми лепестками цветов, которые каждое утро благоговейно приносили крестьяне; он и сам часто помогал отцу собирать цветы и прикрывать богам глаза, чтобы они не видели этого мира, ставшего столь суровым к индейцам с тех пор, как он был отнят у его истинных хозяев, низвергнутых белыми людьми с крестами.
Сразу за озером он повернул налево и пошел прямо к дому. Он заметно постарел, и тростники вокруг него выросли выше крыши. Глинобитные стены потрескались и пахли гнилью. Дверь, как всегда, была открыта. Внутри горел мягкий свет керосиновой лампы. Он вошел, спрашивая себя, жив ли еще священник и не занял ли кто-то другой его место, но едва шагнув за порог, он увидел его: очень прямой, безмолвный, он сидел за тем же столом, что и прежде, блуждая в собственных мыслях. Стол был усыпан цветами и травами, Хосе хорошо знал, какой смысл они несут. Зеленые – для плодородия, красные – для здоровья, белые – против дурного глаза и демонов. Завтра утром, как и каждый день, крестьяне положат их в церкви к ногам местного святого. А затем пойдут к статуям богов, возвращения которых все еще ждут, и возложат другие цветы на их незакрывающиеся глаза.
Отец Хризостом поднял голову, казалось, он смотрит на него, но все пространство вокруг маленькой керосиновой лампы было погружено во мрак, и он не узнал его. Хосе шагнул вперед, чтобы свет упал ему на лицо, старик же надел очки и присмотрелся.
– Вот ты и вернулся, – сказал он. – Значит, город не сожрал тебя. Или ты скрываешься от полиции? Когда молодежь возвращается в деревню, это чаще всего потому, что их разыскивают. В наше время это так.
– Я вернулся, – сказал Хосе. – Я хотел повидать тебя еще раз до твоей смерти, старик. Теперь уже скоро. Я хотел еще раз с тобой поговорить.
– До моей смерти остается еще семь месяцев, – с удовольствием сказал монах.
– Откуда ты знаешь?
– Новый священник, которого они послали сюда, раньше не доберется.
Хосе сел и посмотрел на старика. Лицо его, изрытое глубокими морщинами, выглядело поистине древним, и если оно было так же смугло, как лица индейцев, то седые волосы и борода выглядели по-испански. Интересно, волосы кухонов никогда не седеют, подумал Хосе. Бывает, что встречается и кухон с седыми волосами, но это значит, что мать его была когда-то столичной шлюхой и что ее дети вернулись на родину, чтобы занять места в администрации или в полиции, или чтобы их избрали мэрами, потому что в их жилах течет испанская кровь.
– Ну, как жизнь в большом городе?
– Мне не повезло.
– А может быть, ты не заслужил везения.
Хосе смотрел на лежащие на столе красные и белые цветы и травы.
– Скажи, какой самый большой грех?
– Они все большие, – сказал старик. – Тут нечего выбирать. Все они плохие и все ведут в ад.
– Но должен же быть самый страшный из всех?
– Не знаю, – устало сказал старик. – Об этом можно поспорить. Тут трудно выбрать что-то одно. Убить свою мать – это, по-моему, хуже всего. Содомия – тоже очень плохо. Тут не угадаешь – в этом мире. Плохое место.
– А от какого греха у тебя мороз по коже, старик?
– Я стар для мороза по коже. Слишком толстая у меня стала кожа.
– Ну, а убийство пойдет?
– Да, убийство это один из самых серьезных грехов. Еще инцест – тоже очень плохо.
– Я не знаю этого слова. Как ты сказал?
– Инцест.
– Что это?
– Это когда брат с сестрой занимаются развратом или отец с дочерью. Это смертный грех. Я часто говорил им это, но они все равно это делают. Я знаю, делают.
– Это очень плохо? Хуже не бывает?
– За это попадают прямиком в ад, – сказал старик. – Без разговоров, и дьявол потирает руки от радости. Но зачем тебе это?
– Если бы кто-нибудь пришел и спросил вас, что доставит дьяволу больше всего удовольствия, что бы вы ему ответили?
Старик священник задумался. Потом покачал головой.
– Не знаю, – сказал он. – Ему всё нравится. Всё, что мы делаем. Да, всё, что мы делаем, ему нравится. Нравится нищета, болезни, люди, которые нами управляют. Их он очень любит. Он-то их и поставил, потому что они делали всё, что нужно, чтобы ему понравиться. Здесь господствует дьявол, а потому надежды нет. Он сидит и смотрит, как мы барахтаемся во грехе, смотрит и смеется. Я часто слышу его смех.
– Но должны же быть вещи, которые нравятся ему больше других?
– Я уже говорил тебе, инцест – это зло, – сказал старик. – За это попадают в ад. Инцест – это как клеймо, по которому узнают дьяволовых любимцев. Ну, еще жечь храмы и убивать священников, как это было в Мексике в дни моей молодости. Это тоже зло. Но почему ты спрашиваешь меня об этом, мальчик мой? Неужели ты проделал такой путь только ради того, чтобы задать мне этот вопрос?
Несколько мгновений юноша молчал, стиснув сложенные вместе руки.
– Можно было и не ехать так далеко. Любой сказал бы тебе то же самое.
– Вы – единственный, кому я верю, – сказал молодой человек, – единственный. Вы – святой.
Старик строго посмотрел на него.
– Не кощунствуй. Я бедный деревенский священник, и больше ничего. Я делал, что мог, но этого так мало. Меня надо простить. И молиться за меня, когда я умру.
Над оранжевым огоньком лампы вился язычок черного дыма, в котором потрескивали комары и мошки. Юноша смотрел на прямой, неподвижный силуэт, на длинные руки, лежащие на худых коленях.
– Вы помните, что говорили мне?
– Нет, я теперь мало что помню. На прошлой неделе умер мой старый пес, так я даже не помню, как его звали. Когда ты вошел, я как раз пытался вспомнить его имя.
– Педро, – сказал юноша.
– Да, точно, – сказал старик, и лицо его просветлело. – Я рад, что ты помнишь. Педро, именно так.
– Вы всегда говорили: добрые унаследуют небеса, а злые – землю.
– Да, теперь вспоминаю, – сказал старик, – и это чистая правда. Земля – дурное место, и становится все хуже и хуже. Не забывай этого, если хочешь заслужить небеса. Ты славный мальчик. Я хорошо тебя помню, только вот имя забыл. Как тебя зовут?
– Хосе. Хосе Альмайо. Во мне тоже течет испанская кровь, как и в вас.
– Правильно, Хосе. Ты уехал в город.
– Я вернулся.
– Видишь, я тебя помню, хотя они говорят, что я забываю молитвы и не в состоянии прочитать проповедь. Даже нового священника вызвали на мое место. А я помню. Маленьким ты хотел стать тореро.
– Да. Я попробовал, но я был плохим тореро. У меня нет таланта.
– Ты, возможно, мог бы стать хорошим рыбаком, как твой отец. Он часто приносил мне рыбу.
Юноша встал.
– Что это там было за слово?
– Какое слово? Не говорил я никакого слова. Не знаю я его. Не будь суеверным, как эти селяне, которые делают подношения древним идолам. Они думают, что я не знаю. Слово есть только одно – Бог.
– Нет, я о другом. Которое означает самый страшный грех. Тот, которому так радуется дьявол.
– Тебе не следует столько думать о дьяволе. Оставь дьявола тем, кто нами правит. Думай о Боге.
– До свидания, старик. Умри с миром.
– До свидания, Педро. Я рад, что ты пришел. Может, я все же сделал что-то хорошее. Невольно.
Хосе достал из кармана пистолет. В лампе почти не осталось керосина, а старик священник был почти слеп, и Хосе знал, что он ничего не заметит. Так-то оно и лучше.
А, может, в том и была ошибка, думал он теперь, спустя столько лет, и, снова взглянув в окно, поискал в небе самолеты. Может, потому сейчас все и висит на волоске, – из-за той минутной слабости, из-за жалости, из-за того, что он не захотел, чтобы старик узнал, что он его сейчас убьет.
Несколько секунд он постоял с пистолетом в руке, потом тщательно прицелился и нажал курок. Старик так и остался сидеть, прямой и неподвижный как раньше, обе ладони лежали у него на коленях, как будто ничего не произошло, а может, и правда, ничего не произошло, да ничего и не происходило никогда, ничего не имело значения, и не было никого, а преступление, грех, как добро и зло, ничего не значат, да и не существуют вовсе.
Он почувствовал на висках капли холодного пота, ибо, если и существовало нечто, что всегда приводило в ужас того, кого вся страна считала неподвластным слабости и страху, так это мысль о том, что земля принадлежит людям, что они – единственные ее хозяева, что никакой помощи извне нет и быть не может, что нет никакого тайного источника силы и таланта, а только площадные фигляры, фокусники и обманщики вроде тех, что на сцене «Эль Сеньора» доставляли ему несколько мгновений иллюзий.
Альмайо вспоминал, как он стоял и смотрел на старика, сидящего так спокойно, с пулей внутри. Тот не упал; возможно, там уже особенно нечему было и падать, такой он был невесомый. Только голова его немного склонилась набок, и все.
Юноша долго стоял, прислушиваясь, во мраке, но ничего не услышал, кроме ночных птиц, потрескивания насекомых в пламени лампы и звона лодочных колокольчиков на озере при порывах ветра. Сейчас ему обязательно будет подан какой-то знак, знак благорасположения и покровительства. Он чувствовал, что лучшего, чем он сделал, и быть не может. Он убил божьего человека, того, кого всегда любил и почитал, кого слушал, кому верил, и если то, что тот ему говорил, правда, если добрые наследуют небеса, а злые – землю, он обязательно станет избранником судьбы.
Он огляделся вокруг и увидел в углу, где что-то шевельнулось, два неподвижных фосфоресцирующих огонька. Он заулыбался, но кошка с громким мяуканьем бросилась к двери и исчезла, а Хосе остался наедине с трупом в мире, который словно внезапно лишился всякого смысла и в котором не было ни таланта, ни магии, ни тайной власти.
Опять закричала ночная птица, звенели колокольчики, скрипела на петлях дверь, ветер гулял в тростниках – знакомые, мирные звуки, никакого знака не было. Никто, казалось, его не заметил, ничей благосклонный голос не сказал ему: «Хорошо, мой мальчик. Ты и правда сделал самое ужасное, что только можно было сделать. У тебя хорошие задатки. Мне нужны такие, как ты. Я покупаю то, что ты можешь предложить, а взамен ты получишь талант, у тебя будут власть и слава, ты станешь великим человеком, все будут тебя бояться и уважать. У тебя будет все самое лучшее, что только есть на земле. Ты умница, ты понял, что земля принадлежит мне, как небо принадлежит Богу. В этом мире одариваю я».
На какой-то миг ему показалось, что он слышит звук шагов, и он быстро повернулся к двери, хотя знал, что дьяволу, чтобы войти, дверь не нужна. Он еще сохранил в неприкосновенности свою веру и чаяния. Невозможно, и об этом ему беспрестанно твердили учителя из монастыря Сан-Мигель, невозможно, чтобы люди были одни, чтобы они были свободны, чтобы над ними не было господ. Только коммунисты могут распространять такие идеи.
Может быть, именно из-за этой минутной слабости, этой деликатности, когда он не посмел сказать старику, что сейчас убьет его, у него ничего и не получилось. Может, эта его совестливость была истолкована как знак того, что в нем еще есть какая-то доброта, что он еще не достаточно плох, а значит, недостоин почетного места. Но он ведь еще так молод, ему всего семнадцать лет. У него еще есть время, он будет твердым, как камень, и однажды станет гордостью своей деревни, своей страны. Повсюду будут висеть его портреты. Ему только надо немного помочь.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?