Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
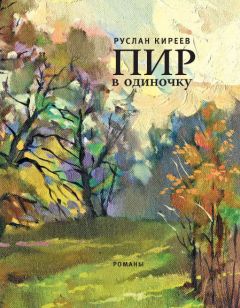
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Варковская отвечала ему полным равнодушием. И ему, и многим другим, объединившимся, как у Гомера в «Одиссее», в этакий синклит женихов. На Ви-Вата пал ее выбор, и К-ов в глубине души считал это справедливым. Если бы случилось чудо и она предпочла Ви-Вату его, К-ова, то в глазах К-ова это бы уронило ее.
И в се-таки однажды она заметила его. По имени назвала – не по фамилии! – улыбнулась и, подвинувшись, как бы пригласила сесть рядом.
Кто-то из поклонников, из гомеровских женихов, притащил в школу ежа и тайком сунул на перемене в новенький портфель Тани Варковской. Та, ни о чем не подозревая, открывает портфель, неторопливая, спокойная, никогда не повышающая голоса – царица! Снежная королева! – и вдруг, зажмурив глаза, визжит как резаная.
На ее беду, как раз в этот момент в дверях появился завуч Борис Андрианович. Проницательный взгляд его обежал класс, но остановился не на задних партах, а на передней.
На той, где сидела (сейчас, впрочем, не сидела, а стояла, вскочив) примерная ученица Таня Варковская. «Завтра, – молвил в тишине завуч, – придете с матерью».
Примерная ученица стояла, вся красная, потом тихо села и за весь урок (К-ов наблюдал) хоть бы шевельнулась! К-ов наблюдал, а в голове тем временем зрел план спасения. Нет, сначала не план, не было сначала никакого плана – была лишь решимость выручить из беды. Он не знал, как сделает это, но знал, что сделает, и, едва закончился урок, прямиком направился в кабинет завуча.
Варковская, объявил, не виновата. Это он напугал ее и, если уж вызывать родителей, то не ее, а его. (Под словом «родители» подразумевалась бабушка.) Он готов… Не говоря ни слова, Борис Андрианович взял листок и написал быстрым бисерным почерком: «Уважаемая товарищ Варковская! Ваш приход в школу необязателен».
Мыслимо ли было доверить карману сей бесценный документ? Так и шел, сжимая его в руке (не очень сильно), шел деловито и смело по ее улице, хотя вовсе не вечер был (обычно он проникал сюда вечером) и его могли увидеть.
На двери висел почтовый ящик, такой же аккуратный, как тетради ее и учебники, и такой же, как учебники, синенький. (Она оборачивала их в синюю бумагу.) Он постучал. Не открывали долго (или ему казалось, что долго), но – странное дело! – он не волновался. Кровь не приливала к мужественному лицу, и ладони не потели. Тверд и спокоен был он. Ясен духом… Сейчас он не мальчик К-ов, не однокашник провинившейся девочки, чью мать вызывают в школу; сейчас он – официальное лицо, курьер, посланник, которого уполномочили вручить документ.
Позже так было всегда. Всегда он чувствовал себя куда уверенней, ежели выступал не от своего имени, а от имени других людей. Кого – неважно; важно, что других…
Наконец дверь открылась. Бесшумно, будто сама по себе, и не мать увидел он, как ожидал, а дочь. Отнюдь не заплаканную… Не убитую горем… В халатике… В розовом халатике, который как бы уменьшал ее, однако выглядела она почему-то старше.
К-ов не струсил. Записка была уже наготове, он протянул ее и сказал голосом, которого Таня, наверное, не узнала: «Отдашь матери!» И, повернувшись, зашагал прочь. Минул окна – те самые, заветные, к которым столько раз липнул по вечерам, а сейчас даже взглядом не удостоил. К остановке, трезвоня и раскачиваясь, подкатил трамвай, но К-ов, все еще выполняющий миссию, не вскочил, по своему обыкновению, на подножку, а пошел пешком.
У ворот навстречу ему попался Лушин. Авоську с баклажанами нес, очень крупными, и баклажан опять-таки напоминала голова его; не тогда ли и явилось сочинителю это овощное сравнение? «Привет!» – бросил он.
Он сказал это весело и чуть-чуть снисходительно, с высоты своего нового положения, и чуткий Лушин, уловив эту необычную интонацию, глянул на него несколько удивленно. (Что само по себе говорило о многом: Володя Лушин удивлялся редко.)
Легкой походкой вошел К-ов во двор. Светило солнце, малышня верещала, бухал топор (соседи запасались к зиме дровами), громко играл выставленный на подоконник проигрыватель, один из первых во дворе. У голубятни Дмитрия Филипповича расхаживали по утрамбованному пятачку сытые голуби. И вдруг сорвались разом, захлопали крыльями, взлетели – кто на будку, кто на дерево. Спаситель Тани Варковской прибавил шагу. Что испугало птиц? Он огляделся, уже догадываясь – что, вернее – кто, и оказался прав: от пятачка в сторону подвала быстро и бесшумно скользила кошка – рыжая, длинная и вместе с тем, показалось ему, какая-то небольшая. Зато голубь, которого несла она, выглядел огромным. По земле волочилось распущенное сизобелое крыло. Это было не первое убийство рыжей бандюги, уже двух или трех сцапала (одного, правда, успели отнять, буквально из пасти вырвали, но он, покалеченный, не летал больше), хозяйка же, горластая Банницева по прозвищу Варфоломеевская Ночь, уперев руки в бока, отвечала взлохмаченному, взъерошенному, похожему на своих питомцев Дмитрию Филипповичу: «А я здесь при чем? Ваши голуби, вы и следите!»
С криком бросился К-ов за преступницей, подобрал камень на ходу, запустил, а она тем временем, даже не убыстрив мягкого, плавного своего скольжения, исчезла в подвале. Вслед ей полетел еще камень, отбил от стены кусок штукатурки.
К-ов остановился, долго глядел на шевелящиеся под солнцем мертвые перышки… В тот же день поймал рыжую убийцу (она дремала, сыто развалясь), сунул в брезентовую крепкую сумку, с которой вернулся когда-то Стасик, сел на трамвай и доехал до конечной, а там еще два или три квартала прошел пешком.
Возле строительных лесов стояла помятая железная бочка, ржавая, со следами известки. В нее-то малолетний поборник справедливости и вытряхнул содержимое сумки (кошка даже не мяукнула), после чего, довольный собою – еще бы, два таких подвига сразу! – возвратился домой.
Награда не заставила себя ждать. Уже на следующий день Таня Варковская улыбнулась ему – был урок физкультуры, – по имени назвала и даже подвинулась, как бы приглашая сесть рядом.
Он сел. Напряженно опустился на низкую крашеную скамью, еще хранящую тепло ее сильного тела. Мягкий локоток ее нечаянно коснулся руки К-ова. Она-то скорей всего не обратила внимания, а вот его (писал беллетрист в набросках к лушинскому роману) – его, то есть Лушина, до сих пор существовавшего как некая суверенная система, словно бы подключили на миг в электрическую цепь.
Образ, конечно, получился вычурным, но ощущения героя передавал точно: подключили… «Спортзал» – так обозначалась в конспекте романа эта сцена, однако подразумевался не школьный спортзал, а уже техникумовский, ибо то, что у нетерпеливого К-ова произошло в школе, с целомудренным Лушиным приключилось несколькими годами позже.
Физкультура была последним уроком в тот день. Проворно одевшись и выскочив во двор, триумфатор не ушел домой, а с деловым видом копался в портфеле, как бы проверяя, не забыл ли чего. Раз десять, наверное, перебрал тетради и учебники, прежде чем на высоком школьном крыльце появилась та, кого он с замиранием сердца ждал. Но она появилась не одна: рядом Ви-Ват был. Он увлеченно говорил что-то, она смеялась (синие ленточки прыгали) и поглядывала на своего остроумного спутника, и щурилась от солнца. Мимо К-ова прошли, совсем рядом, не заметив его, а он, согнувшись в три погибели, долго еще возился с портфелем.
Опущенная в бочку на окраине города четвероногая воспитанница Варфоломеевской Ночи, такая же, как хозяйка ее, рыжая и хитрая, вернулась во двор уже на второй день, а на третий вновь учинила разбой: Белую, с хохолком, голубку сцапала – несчастный Дмитрий Филиппович едва не плакал. А что тайный поборник справедливости, защитник обиженных? Тайный поборник справедливости предпринял еще одну попытку положить конец террору.
На сей раз ему помогла в этом мать. То был период, когда она у них не гостила, как обычно (несколько дней, до очередного скандала), а жила. Жила… Наведывался к ней некто Авдеев, на «Москвиче» прикатывал, на собственном «Москвиче», что было по тем временам редкость большая. К-ов, во всяком случае, испытывал чувство гордости, когда во двор въезжала бежевая машина и сидящий за рулем человек дружески вскидывал, приветствуя его, руку.
К-ов тоже вскидывал, тоже приветствовал, точно это его кореш был, которому он, хабалкин сын, как бы даже и покровительствовал. В эти минуты, впрочем, мать не была для него хабалкой, он уважал ее, он ее ценил. Лишь задним числом, уже взрослый, уже в Москве, поймет он всю подноготную своего отношения к Авдееву. Поймет, за что ценил тогда мать. Не осуждал, хотя бы в душе, не стыдился, как стыдилась своей племянницы целомудренная Валентина Потаповна («О господи! Срамище-то какой!»), а гордился, что к ним – к ним! – ездит легковая машина.
Москва вообще на многое открыла ему глаза. Дневники тех лет – студенческие его дневники – вместили столько презрения к себе, столько ужаса перед собой, столько отчаяния, что беллетрист, перечитывая их в связи с лушинским романом, удивлялся, как не укокошил свою милость. Ибо он, конечно же, находился в состоянии войны с самим собой и воевал исступленно, не давая противнику и мига передышки.
Упоминалась в этих московских дневниках и питомица Варфоломеевской Ночи. Вне всякой видимой связи с предыдущей и последующей записями, без комментариев. Одно-единственное слово – КОШКА ! ! ! – выведенное крупно, с тремя восклицательными знаками. Как завершающий, убойной силы удар. (Война есть война…)
Свое второе путешествие рыжая тварь совершила в той же, что и первый раз, брезентовой сумке, но не на трамвае, а в авдеевском «Москвиче»… Мать даже не осведомилась, хочет ли он с ними, просто сообщила, что в воскресенье они едут в лес за орехами, так что пусть заранее сделает уроки. Знала, выходит, своего сыночка! Знала, что не только не откажется, но и раздумывать не станет…
Она впереди сидела, рядом с Авдеевым, сын – сзади, но не один, как полагали они, а с молчащей до поры до времени пожирательницей голубей.
Голос подала, когда лишь свернули с шоссе на лесную ухабистую дорогу. То ли почуяла, что ее собираются оставить здесь, то ли машину подбросило, но она вдруг мяукнула. «Гав-гав!» – тотчас весело отозвалась мать. Решила: балуется сынок… Не угнетен, не агрессивен (сочинитель книг хорошо представлял себе, как держался бы на его месте другой мальчик), а настроен весьма игриво. И хотя никакой игривости не было, хотя и не помышлял мяукать, краска стыда заливала лицо взрослого К-ова, когда вспоминал эту минуту. Словно и впрямь так уж резвился тогда! Словно и впрямь мяукнул… Мать, во всяком случае, была уверена, в этом (чего он, взрослый, не простит ей), был уверен Авдеев, и что с того, что через несколько минут из сумки лениво выпрыгнула на жухлую траву настоящая кошка! Что с того? Все равно остался навсегда – и в их глазах, и в своих собственных – этаким бесхребетным оболтусом, который, ради того, чтобы покрасоваться в машине, радостно потакает матери в ее распутстве.
Кошка потянулась, сделала, разминаясь, несколько осторожных шажков и, хищница, плотоядно повела взглядом. В тот же миг (услышал К-ов) дружно и громко, точно звук включили, защебетали вокруг птицы. «Вот и охоться здесь! – сказал он строго. – А то повадилась…»
Мать не спускала с кошки недоуменных глаз. «Что – повадилась?» – спросила она. «Голубей жрать – что! Я уж относил ее – вернулась. Ничего, отсюда не вернется!» И тоже потянулся, и тоже сделал, разминаясь два или три шага. Все, дескать, разговор окончен.
Но разговор не был окончен. Он чувствовал: мать напряженно следит за ним. «Ты собираешься оставить ее здесь?» «Конечно!» – ответил он бодро.
Авдеев открыл багажник и тихо возился там, показывая, что его дело сторона. Под лапами, на которых было столько крови (невинной!), хрустнул лист. «А вдруг котята у нее?» – произнесла мать.
К-ов захохотал. «Откуда?» Он и впрямь был уверен, что котят нет, не может быть – у такой-то стервы! – а если даже и есть… «Еще неизвестно, кошка ли это».
Ни слова не говоря, мать медленно, чтобы не вспугнуть, подошла к изгнаннице, медленно нагнулась, взяла обеими руками, перевернула (рыжий хвост задвигался, как змея) и, всмотревшись, поставила обратно на лапы. «Кошка. Но котят нет». «Я же говорил!» – воскликнул К-ов.
Его не удивило, что мать разбирается в таких вещах. А ведь понятия не имел, что она любит кошек. Лишь впоследствии узнал, много позже, когда, приезжая к бабушке в ее курортный городишко, навещал и ее тоже, обретшую к тому времени и постоянный дом свой – убогонький, зато в двух кварталах от моря, – и постоянного спутника жизни.
Звали его женским именем Ляля. Это был толстенький человечек, враль и выпивоха, которого она, впрочем, держала в руках. И пенсию отбирала, и зарплату (пенсия была приличной, до майора дослужился), но он еще и помимо имел в своем ателье проката, где выдавал раскладушки, холодильники, гитары и прочую дребедень. Немного, но имел – на винишко, во всяком случае, хватало.
Несмотря на все свои недостатки, Ляля нравился К-ову. И час, и два мог просидеть в «Прокате» у него, попивая дешевый портвейн и слушая невероятные рассказы. Если верить им (а К-ов, разумеется, не верил), Ляля исколесил весь белый свет. Вернее, не исколесил – избороздил, поскольку служил на флоте.
Это – что на флоте – было правдой. По праздникам он облачался в морскую форму и, весь сверкающий, с кокардой на фуражке, в надраенных башмаках, торжественно вышагивал по улице – немногословный, важный и трезвый. (До поры до времени.) «Капитан Ляль!» – говорила, подмигивая, мать.
Служить-то служил, но вот ступал ли хоть раз на палубу корабля, К-ов сомневался. Разве что в юности… Все остальные годы протирал брюки в штабах, писал что-то, все время писал, писал, благо почерк у него был великолепный, буковка к буковке – как в строю. Выдавая гражданам раскладушки да термосы, записывал их в амбарную книгу с таким тщанием, словно это был судовой журнал какого-нибудь океанского лайнера.
Как всякий истинный моряк, капитан Ляль был до болезненности чистоплотен. Драил полы дома (не мыл – именно драил), все свое стирал сам, а потом гладил, и не легким электрическим утюгом, а старинным, тяжелым, с дырочками и паром. Случалось, К-ов ночевал у них и тогда утром находил свои брюки отутюженными, причем отутюженными так мастерски, что стрелочки держались и месяц, и два… Ах, какой бы это был дом – не дом, а картинка! – кабы не мать, которая разбрасывала все, и в особенности не ее кошки. Их капитан Ляль ненавидел люто. Из-за грязи, которую натаскивали… Из-за шерсти… Из-за вечно опрокидываемого блюдечка с молоком… Из-за рыбьих костей, которые он, страдая, где только не находил! «Или я, или кошки твои!» – выкрикивал весь пунцовый – от вина ли, выпитого тайком, от гнева ли, и мать, толстая, рыхлая, все еще, однако, молодящаяся, хладнокровно отвечала: «Конечно, кошки».
Раза два или три вспоминала к слову о когда-то оставленной в лесу рыжей хищнице. Нет, и в мыслях не было упрекать сына (она никогда ни в чем не упрекала его), просто жаль было кошечку. «Она так смотрела, когда уезжали!»
К-ов молчал. Язык не поворачивался сказать, что уже через неделю воспитанница Варфоломеевской Ночи была дома. Истощенная, ободранная… Сожрала, одного за одним, двух голубей и была собственноручно казнена будущим художником слова.
Это случилось в тот самый день, когда мать вновь надолго исчезла. Утром еще дома была, а вернувшись из школы, он увидел распахнутый шкаф, бумажки на полу и заплаканную бабушку. На столе лежала записка: «Сынок, дорогой мой, я тебе напишу», – и пятьдесят тогдашних рублей, огромная сумма, на которую можно было купить пятьдесят порций мороженого.
Он ни одного не купил. Все на столе оставил – и записку, и деньги, вышел во двор и первое, что увидел, был бьющийся в агонии голубь.
На сей раз хабалкин сын не стал преследовать убийцу. Дождался, когда выйдет, облизываясь, из подвала, затащил в сарай, сотворил дрожащими руками петлю и, не колеблясь ни секунды, накинул на увертывающуюся голову. Кошка цеплялась за веревку, подтягивалась, кричала, извивалась вся, и тогда владелец пятидесятирублевой ассигнации, схватив какое-то тряпье, поймал нижние лапы. Поймал, и с силой оттянул их, и слегка раскорячил – на случай, если тело метнет напоследок какую-нибудь гадость.
Лапы дернулись и затихли. Он еще подержал их (сердце колотилось – на весь сарай, на весь двор, на весь город), потом подставил ведро из-под угля, обрезал веревку – и мягкая, золотистая, сильно удлинившаяся тушка бесшумно скользнула вниз.
Справедливость восторжествовала. Нет, вовсе не жертвой ее считал себя отвергнутый поклонник Тани Варковской, а слугой и солдатом – да, солдатом и слугой! – но не прошло и суток после суда, учиненного им в темном сарае, как солдатик против госпожи своей взбунтовался…
С Валентиной Потаповной шли они, вдвоем, и честная, прямая Валентина Потаповна с болью выкладывала внучатому племяннику все, что думает о его матери: «Даже сучка последняя не бросает щенков своих. Сунься-ка кобель какой, если…»
Что «если» – К-ов так и не услышал. Стиснув зубы, повернулся и зашагал прочь. «Ты что?» – догнал его растерянный голос, но он, не оборачиваясь, удалялся от старой женщины, которая так любила его и так за него болела. Да-да, и любила и болела – юный адепт справедливости прекрасно сознавал это, но что-то, чего он не умел объяснить, гнало его все дальше и дальше. Ах, как ненавидел он в эту минуту и свою мать-хабалку, и добрую Валентину Потаповну, и самою справедливость, которую Валентина Потаповна воплощала!
Во дворе разгуливали по утрамбованному пятачку голуби Дмитрия Филипповича. Разгуливали спокойно и чинно, словно знали, что рыжего душегуба не существует больше.
К-ов, не останавливаясь, поднял камень. Поблизости наверняка были люди, но он, даже не глянув по сторонам, запустил что есть мочи в самодовольных птиц. Две или три шумно захлопали крыльями, но взлететь не взлетели, а лишь подпрыгнули невысоко и грузно опустились на прежнее место.
Когда люди настолько опротивели всевышнему своей алчностью, и глупостью, и жестокостью своей, и надменностью, что терпение его лопнуло и он решил наказать их, то не нашел ничего лучшего, как поселить среди них ясноглазую богиню с мощным, как пожар, факелом. По всему свету разгуливала она, то там появляясь, то здесь… Вдруг всполохи разрывали тесный мрак – сперва редко и далеко, потом все чаще, все ближе, и наконец все вокруг заливал холодный свет. К ногам испуганного человека, который за минуту до этого мнил себя великаном, ложилась, уличая его в ничтожности, съежившаяся, до смешного маленькая тень. Медленно втянув голову в плечи, человек оборачивался. Гигантская босоногая фигура возвышалась над ним, простерев руку с огнем вверх, к небу…
Звали богиню Истиной. К-ов вычитал о ней в книге одного мрачного итальянца, писавшего гениальные стихи и сочинившего в припадке жестокой ипохондрии собственную версию истории рода человеческого.
Людей, согласно этой версии, погубила жажда бесконечности. Она, жажда эта, лежит в самой природе их. В той же, например, тяге к удовольствию… Но удовольствие конечно, оно – и это в лучшем случае! – обрывается вместе с жизнью. Вот и канючили, чтобы вседержитель ниспослал им Истину, дабы авторитетно подтвердила их бессмертие. Но они просчитались. Когда раздосадованный хозяин спихнул им в конце концов всевластную богиню, и не на краткий миг, как требовали они, а на вечные времена, она не только не подтвердила, а, напротив, опровергла смешные притязания праха на бесконечность. Свет факела ярко озарил край бездны, минуть которую не дано никому.
О чем беседовали столь возбужденно Ви-Ват и Таня Варковская, внезапно появившись парочкой на высоком, белом от солнца школьном крыльце? Чему улыбались?
К-ов догадывался – чему. Ниже склонился над своим портфелем (что он искал в нем? Неизвестно…), потом закрыл его и, посвистывая, вышел на улицу. Прямиком в горсад двинул, к тому времени, впрочем, торжественно переименованный в парк культуры и отдыха. Вниз спустился – к воде, к лягушечьему гвалту, не умолкаемому ни днем, ни ночью, к запаху сырости и гнили. Жалкая речушка эта, позже неоднократно описанная им, выглядела в его повестях и рассказах куда презентабельней, нежели была на самом деле. Ловкие парни умудрялись перемахивать через нее, не замочив ног.
Сам К-ов даже попыток таких не делал, но сейчас, не колеблясь, ступил на осклизлый камень. Спокойно на другой перескочил, на третий и через минуту прыгнул, балансируя одной рукой (в другой портфель был, который мог в любой момент расстегнуться), на низкий, упругий от густой и сочной травы берег. Под ногой чавкнуло, но он уже оторвал ногу и по заросшим осокой кочкам, пружинящим, как диванные подушки, добрался до безопасного места. Здесь он аккуратно поставил свой обшарпанный портфель, повернулся, окинул взглядом преодоленный рубеж и вдруг понял (словно яркий свет озарил все вокруг – тот самый, от факела), что Таня Варковская никогда не будет с ним. Как на сцене, увидел потрясенный К-ов и убогую речушку, и зеленые булыжники, по которым скакал только что, и полуобломанный куст на том берегу, и свою тощую фигурку – на этом… Никогда в жизни не будет с ним Таня Варковская, пусть хоть лоб расшибет, но Таня была сейчас не просто Таней, не просто девочкой из их класса, она была воплощением всех будущих женщин, которые, прекрасные и загадочные, равнодушно пройдут мимо него в сопровождении Ви-Ватов. И мимо него, и мимо Лушина. Вот только Лушин догадался об этом раньше него. Или нет, позже… Конечно, позже, когда в его аскетическую жизнь вошла некто Людочка Попова. Весь техникум следил за ними, затаив дыхание…
В романе, вернее, в подготовительных записях к роману, глава эта называлась «Лушин влюбился», что свидетельствовало о некотором ироническом отношении автора к своему герою. К его, во всяком случае, сердечным делам. А косвенно – и к своим тоже…
Давно началось у него это, с тех еще пор, когда он, сиганув через речку, лицом к горсаду стоял – с его качелями-лодочками, с танцплощадкой (той самой!), со сколоченным из фанеры зеленым тиром – стоял и усмешливо напоминал неведомо кому, что теперь это, господа, не горсад, теперь это парк культуры и отдыха.
Господа… Как обезболивающий укол было это юродивое словцо, и К-ов, обращаясь к высыпавшим на бережок любознательным лягушкам, повторил, теперь уже вслух: «А ну, господа!» – и, подняв комок ссохшейся грязи, ловко запустил в них.
Лягушки одна за одной попрыгали в воду. Отвергнутый юнец смотрел на их мелькающие в воздухе растопыренные лапки и саркастически улыбался. Таня Варковская? А что, собственно, Таня Варковская? Он улыбался, будущий автор иронических текстов, и искал глазами, нет ли еще лягушек, чтобы турнуть их: больно уж уморительно прыгали они.
Удивительно, но об иронии желчный итальянский поэт не обмолвился ни словом, что, по мнению К-ова, было серьезным пробелом его «Истории»… Романист захватил ее с собой, улетая поздней осенью в приморский пансионат, что с наступлением мертвого сезона погружался в спячку. Пока жива была бабушка, он не нуждался в подобном пристанище, у нее останавливался, теперь же с радостью воспользовался предложением земляка-журналиста.
Две дороги вели от аэропорта: одна – налево, в степь, другая – направо, к горной, вытянутой вдоль побережья гряде, за которой притаилась узкая субтропическая полоска. Прежде, прилетая, К-ов сразу отправлялся к бабушке, теперь же его автобус повернул направо… Прикрыв глаза, медленно провел по лицу ладонью. Там, в степном курортном городке, оставались и мать, и тетка (благополучная дочь), но без бабушки древний городок этот, к которому он так привык за последние двадцать лет, выглядел чужим и даже враждебным. Лучше уж пансионат…
Сейчас это было запущенное двухэтажное строение с шелушащимися колоннами, с лоджиями, где громоздились списанные шкафы, с поржавевшими водосточными трубами, – но то сейчас, а когда-то дом процветал. Об этом говорили многочисленные балюстрады, мостики и фонтаны. Последние бездействовали, но когда, уже поздно вечером, вновь прибывший пансионер, отложив томик поэта с язвительнейшей «Историей рода человеческого», вышел на воздух, до слуха его явственно донеслось негромкое журчание.
К-ов остановился. Днем он уже заглядывал сюда и хорошо помнил, что как раз на этом месте был фонтан в виде лягушки. Как и другие фонтаны, он не подавал признаков жизни. Озадаченный беллетрист, не столько различая дорогу, сколько угадывая, подобрался ближе и долго, напряженно всматривался в неясные очертания. Лягушка ли? Не ошибся ли он? Не ошибся. Из каменного рта била, слабо серебрясь в падающем из окон жидком свете, тонкая упругая струйка.
Пожав плечами, медленно побрел он прочь. Под ногами шуршали листья. Стоял ноябрь, в средней полосе опавшая листва давно уже гнила, неоднократно смоченная и дождем, и снегом, и снова дождем, а здесь деревья только-только сбрасывали одежку. К-ов вернулся в свою комнату, разделся и лег в холодную постель. Свет погасил. За дверью истошно заорал кот и орал долго, а напоследок негромко выругался по-человечьи. Потом что-то забилось вверху, зашуршало, зажужжало. Торопливо зажег он настольную лампу. На потрескавшемся потолке чернело неведомое существо – то ли жук, то ли ночная южная бабочка. Но какие жуки на пороге зимы? Какие бабочки? Да и как попал в комнату этот мрачный гость, если хозяин еще с вечера закрыл форточку?
К-ов выключил лампу, повернулся на бок и, как в детстве, натянул на голову одеяло, стараясь уснуть. Бесполезно… Стучали огромные, с облупившейся краской батареи водяного отопления, будучи при этом совершенно холодными – он специально потрогал, перед тем как лечь. Гремели трубы, а разбитая, с ржавыми потеками раковина начинала вдруг жутко вибрировать. Вскрикивали половицы – то ли сами по себе, то ли под чьими-то крадущимися шагами. Казалось, дом охал и стонал по-стариковски, и некрепкие кости его трещали от запущенного ревматизма.
Из головы не выходил странный фонтан. Какой весельчак пустил его на ночь глядя? Кто вообще обитает здесь? Днем он видел нескольких древних старух, они жужжали, как то фантастическое насекомое на потолке, они ахали, округляли глаза и заливались вдруг тоненьким смехом.
С двумя из них, сестрами Пантелеевными, Елизаветой и Марьей, К-ов познакомился вскоре довольно близко: за одним столом сидели. Буквально на второй день, за завтраком, набросились с расспросами – он едва отвечать успевал, а вот есть уже не успевал, не до еды было. Зато они, перекидывая его, как мячик, из рук в руки, уминали все подряд: аппетит у этих тучных семидесятилетних дам был тот еще.
На завтрак в качестве дополнительного блюда варили кашу, то манную, то рисовую, но большинство отдыхающих от каши отказывались, сотрапезницы же К-ова всякий раз колебались, брать ли, не брать, дотошно выясняли, какая именно каша, и, получив ответ, на непродолжительное время задумывались. Взгляд их туманился. Это они прикидывали, влезет ли в них еще что-либо. Официантка терпеливо ждала. «Ну что, сестренка? – спрашивала одна у другой. – Кутнем?» И сестренка, с трудом переведя дух, отчаянно махала рукой: «А! Была не была…» Потом сидели, отяжелев, таращили друг на друга глаза и любопытствовали: «Цела, божий одуванчик? Не лопнула?»
За семьдесят было им, но словно некая высшая сила лишила их, неугомонных насмешниц, не только семьи, не только детей и внуков, но и отдохновения старости. Ее благообразия. Тихих радостей ее… Был момент, когда беллетриста так и подмывало сесть и написать о сестрах, но не затем приехал он сюда. Он приехал, чтобы вплотную заняться наконец лушинским романом.
«Зануда» условно назывался он. Лушин действительно схлопотал такую кличку, но не в школе, правда, и даже не в техникуме, а после техникума, когда, работая в тресте, прославился въедливостью своей и педантизмом.
В техникум обоих – и будущего автора, и будущего героя – загнала нужда. Какая-никакая, а была тут все же стипендия, да и к восемнадцати уже годам гарантировалась специальность.
К-ов, с детства равнодушный к технике, откровенно филонил, а вот Лушин мог проторчать у наглядного пособия всю перемену. Нет, он не имитировал любви к шестеренкам и коленчатым валам, не изображал интереса к тайнам механики, но он знал, что это ему необходимо, и дисциплинированно приучал себя к царству машин, станков, смотровых ям и двигателей. Последние давно отслужили свой срок и, выкрашенные в серебристый цвет, стояли на металлических опорах. Часть двигателя была иссечена, чтобы учащиеся могли увидеть внутренности.
Был, впрочем, в этом мертвом царстве один живой, один светлый и радостный уголок: клуб. Небольшое приземистое строение, в котором занималась техникумовская самодеятельность. Руководил ею Сергей Сергеевич Пиджаченко, преподаватель литературы.
На уроках он не столько рассказывал о произведениях, которые проходили, сколько играл их. То были минуты подлинного вдохновения. Лысина багровела, тяжелое веко на больном глазу опускалось, и он машинально прикрывал его ладошкой. Другая рука по-мальчишески сидела в кармане брюк. Так и расхаживал между рядов – нервный, быстрый, со склоненной набок головой.
Впервые Сергей Сергеевич (или Пиджачок, как любовно звали его) предстал перед будущими воспитанниками на вступительных экзаменах. Шагая, медленно произносил на память какой-то текст. На память! Потрясенные столь необычной манерой диктовки, устрашенные глазом, который нет-нет да жутко выглядывал из-под приспущенного века, абитуриенты думали: все, каюк, не видать им техникума, как своих ушей. И вдруг: «Вы что смотрите на меня?»
Все мигом подняли головы. Недалеко от К-ова сидела девочка с перекинутой на грудь толстой, не до конца заплетенной косой и спокойно, ласково улыбалась. «Я не расслышала», – призналась она.
Циклоп остановился, как бы пораженный чем, голова его приняла вертикальное положение, а рука выползла из кармана. Поскрипывая туфлями, стал приближаться. «Я тоже не расслышал», – известил он. «Вы?» – удивилась она. «Я. Скажите-ка еще что-нибудь. Или нет, спойте лучше. Вы ведь поете?»
Спиной к К-ову стоял он, так что будущий сочинитель не мог видеть его лица, тем не менее отчетливо представлял, как при словах «вы же поете» поднялось больное веко и из-под него холодно глянул мутный глаз.
Вот тут уж она затрепетала. «Откуда, – выдохнула, – вы знаете?» И уже не сидела, уже стояла… «Пой!» – приказал он.
Вся в оборочках была она, голубых и белых, и оборочки эти нежно дрожали; дрожали распущенные тонкие волосы, дрожали блики августовского солнца на полных, в ямочках и складках, руках. Когда же, минуту спустя, она запела, то и голос ее слегка дрожал. Это не портило его. Чист и тонок был он, как у ангела, и про ангелов, чудилось К-ову, она пела.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































