Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
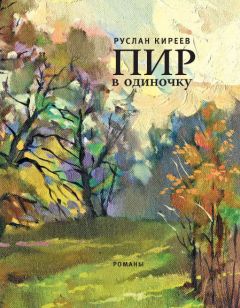
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Я домой тебе звонила.
Оправдывается, что на службу явилась? Успокаивая, хлопотун касается легонько сухонькой ладошки, которая напоминает что-то знакомое. Лапку иностранной бабуси?
– Инна сказала, ты на даче.
Мой джентльмен прижимает к груди руку. Теперь уже он оправдывается – за то, что не дома сидел в ожидании звонка, а прятался в пещерах; вот и пришлось в Колыбели отлавливать. Отлавливать да еще ждать – и это там, где все напоминает о покойном муже!
Посланник заговорщицки наклоняется к крашеным волосам, которые, наверное, если тронуть их, сухо шуршат – подобно стрекозьим крылышкам. (Посланник не трогает.)
– Пропонада, – шепчет, – в профессора производили.
Напудренное личико каменеет. Пропонада? Успокаивая, прикрывает глаза. Производили, да, но это не значит, что произвели.
– В четыре, – сообщает по секрету, – Ученый совет.
Трепещущими ноздрями втягивает аромат французских духов. О Париж! О Стрекозка! Руку от груди, однако, не отрывает, из чего следует: повинен не только в том, что мотался по дачам вместо дежурства у телефона, но и кое в чем еще.
Стрекозка, успокоившись (не произведут в профессора!), догадывается, в чем. Время идет (не философское – обычное время, что отмеривает Совершенномудрый вкупе с Евнухом, Филином и Кукушками), а рукопись лежит. Замечательная рукопись про античного скептика. Автор не дал ей названия, не успел, но остался, слава Богу, приятель, у которого прямо-таки талант пришлепывать ко всему на свете этикетки и бирочки… «Шестой целитель». Чем не название?
– После лекции, – подымает палец, – еду в Симбиоз. – Еще одна этикетка. – С яблочками! Яблочки везу… Со своего сада.
– Я не из-за этого к тебе.
То есть не из-за «Шестого целителя»? Ее правильно понимают?
«Правильно», – отвечает Стрекозка взглядом. И прибавляет вслух:
– Сегодня пятьдесят лет Толе.
Посланник хмурится, тяжелеет, рука – та самая, что прижималась к груди, – бессильно падает.
– Неужто пятьдесят?
Скорбно устремленные снизу вверх зеленые глазки под нарисованными бровями не прячутся и не мутнеют. Ясно и открыто глядят, честно, с уважением к круглой дате и некоторым даже сочувствием. Будто покойному мужу, бедняге, – пятьдесят, а ей, ровеснице его (у дипломата прекрасная память на числа), – тридцать четыре.
Тут еще одна появляется стрекозка (лето! сущее лето на дворе), уважительно шуршит на расстоянии бумажками.
– Что-нибудь срочное? – Хотя не хуже меня знает, что на свете ничего срочного нет.
– Почасовики. Надо подписать, а то бухгалтерия не успеет.
Зарплата, святое дело… Достает ручку (не коллекционную – обычную), щелкает, а взгляд тем временем пробегает документик. Не машинально: у Посланника прекрасная память не только на числа, особенно круглые, – на фамилии тоже. А вот что сегодня день рождения Три-а – из головы вон, хотя отмечали же, хотя праздновали, раз даже вдвоем и при этом – свидетельствую! – не скучали. Даром, что ни вина не было, ни музыки, ни даже света. При свече сидели, а за хлипкими стенами шумел негромко редкий дождь. Три-a печку растопил, и сразу теплом повеяло, уютом, домом. «Как в бабушкином сундучке», – обронил насмешливый гость, хозяин же помалкивал, лишь на худом глазастом лице плясал рвущийся из печурки свет. Казалось, он улыбается… Казалось? О нет, пришелец заблуждался: то была не игра света, то действительно улыбка проступила, как проступает в рентгеновских лучах внутренний абрис человека.
– Помнишь Сундучок? – отпустив на волю бухгалтерские бумаги, произносит – элегически! – доктор диалектики.
Стрекозка прикрывает глаза. Как не помнить! На иссиня-голубых веках топорщатся тяжелые от краски ресницы. Как не помнить – Сундучок-то! Милый, славный Сундучок, над рубероидной крышей которого возносилась жестяная труба, хорошо видимая из электрички. Даже летом (веки подымаются), даже в жару Толя протапливал печь, чтобы я, подъезжая, видела дымок. А заодно ужин готовил… Ты ведь знаешь, какая из меня хозяйка! Знаю, улыбается Посланник, знаю, но только Сундучка нет давно, и Толи нет, и вечера сегодняшнего, увы, тоже нет – обещан, запродан Дизайнеру, с которым ты, пардон, очень даже знакома… А ведь ты здесь, чтобы пригласить на печальное торжество, не правда ли?
Правда…
– В половине седьмого собираемся. Приходи, если можешь.
Посланник стонет. Тихо совсем, почти про себя, но его слышат.
– Не получается?
Слышат и сочувствуют. И ни в коем случае не осуждают. Понимают – он ни при чем здесь, это она виновата: не предупредила заранее.
– Я звонила, но Инна сказала, ты на даче.
Вот так же студенты на экзаменах, не зная билета, повторяют как заведенные одно и то же.
– Я постараюсь, – обещает профессор. – А сейчас – извини: лекция. – Глядит проникновенно (почти как на гаишника), виновато моргает и даже заикается слегка. – П-правда, постараюсь!
Строго говоря, не профессору, а мне, его пленнику и секретарю, принадлежит образ рентгеновской улыбочки, что проступала в красных отблесках камина. Не печурки, жестяная труба которой торчала над рубероидной крышей, а именно камина. Пусть небольшого, пусть не ахти как сложенного, но все-таки камина – с трубой из кирпича и над крышей, разумеется, черепичной.
Я хочу сказать, что Три-a бывал в Грушевом Цвету. Посланник привозил – раза два или три, не больше, да и то раскаивался после. Как, конспиратор, ни прятал меня, как ни заговаривал приятелю зубы и ни уводил аккуратненько в сторону, гость не только учуял присутствие другого существа, но даже украдкой пообщался с узником. «Пасечник», – обронил на кладбище в дальнем лесу – одно-единственное слово! – и я, поглядев на вросшую в землю серо-зеленую плиту с полустершимися буквами (лишь Сотов, выбитое поглубже и покрупнее, еще кое-как можно было разобрать), тотчас признал в щербинках на могильном камне медоносных насекомых. Пасечник! Ну конечно, пасечник, из деревни Вениково… Это уже я сказал, тоже одно-единственное слово – Вениково, – и он тоже понял. Не надо было растолковывать, что вовсе, может быть, не Вениково звался данный населенный пункт, наверняка даже не Вениково, потому что никому в округе, кроме меня, неведомо сие название. Ну и что? – у каждого своя география. Своя – никакими не зафиксированная картами, никакими не уловленная глобусами. Москва согласно ей может переместиться куда-нибудь в Африку, а деревня Вениково – под Москву, в дальний лес, вместе со старыми, из прошлого века, домишками, вместе с дырявым навесом, из-под которого высунулся ржавый прицеп, тоже дырявый, клочки сена торчат, а на борту нарисована мелом то ли коза, то ли собака; вместе с колокольней, что косо несется навстречу облакам, белая, в окружении черных птиц, бесшумно пронзающих ее; вместе с колодезным срубом, над которым воспарил однажды малыш, а мама внизу осталась – осталась навсегда! – такая вдруг далекая, с огромными глазами и черным, как те птицы, безмолвным – безмолвным навсегда! – ртом. О, уходящая из-под ног – вместе с материнской немотой – земля! Из-под шасси она иначе уходит, грузно и нехотя, словно отталкиваемая надрывным, натужным ревом. Как лапки, поджимаются проворно шасси. Мой Экзюпери обожал этот момент, и после, летая уже в качестве пассажира, всегда с предвкушением подстерегал его.
Еще только подымаются – вразнобой, гремя стульями, – а он уже, быстро поздоровавшись, делает жест рукой: садитесь! Быстр и стремителен – как всегда, но видит – о, мой уполномоченный все видит! – если кто не встал под шумок и не то что делает зарубку в памяти (зачем? С большой ведь неохотой ставит «неуды»), но мысленно отмечает.
Сегодня отмечать некого. То ли потому, что задержался, чего с ним давненько не случалось, то ли из-за солнышка, которое взбодрило и разбудило юную поросль (спят ведь! форменным образом спят; наставник поражался апатии нынешней молодежи), но поднялись, приветствуя профессора, все.
– Прошу прощения!
С его стороны это не только вежливость, а еще и воспитательный акт. Косвенное замечание тем, кто взял за моду опаздывать на лекции. На крайний во втором ряду стол бросает взгляд – пусто! Русалочки нет, а ей-то в первую очередь и предназначен урок.
– Примите, – резвится доктор диалектики, – мои соболезнования. В такую погоду и – корпеть над Кантом!
Кант, конечно, здесь ни при чем, о другом немце заведет волынку, да кто из них, кроме Русалочки, заглядывает в тексты! Учебниками довольствуются… Суррогатом… Но это уже не Посланник, это уже я ворчу, брюзга и зануда. Воля ваша, но характер портится в заточении.
Будто из зрительного зала гляжу в бинокль на ярко освещенную сцену (не юпитерами освещенную – солнцем), по которой ходит, улыбаясь и жестикулируя, лицедей в полосатом костюмчике. Вот руку выбросил – в сторону остряка, который предлагает отменить по метеоусловиям Канта, вот палец подымает: внимание! – а вот, обернувшись к двери, делает приглашающий жест: милости просим!
Это она, длинноволосая Русалочка, близорукая и бровастая, в плетеных шлепанцах на босу ногу.
– Прямо из воды? – шутит профессор, косясь выразительно на пляжную обувь.
Аудитория смеется, но смеется хорошо, без злорадства; и эрудицию прощают ей, и языки, на которых читает в подлиннике мудрые книги. Аудитория смеется, но на бледном русалочьем лице нет и тени улыбки. К своему месту идет, садится напряженно, открывает сумочку. Школьную тетрадку достает и – опять-таки по-школьному – устраивает на краешке стола локотки. Есть что-то общее между нею и Три-a, хотя тот улыбался постоянно, а эта всегда сосредоточена. Слушает, потупив взор, тетрадка разложена, как силок, но время идет, профессор вдохновенно говорит, но хоть бы словечко затрепыхалось в силке! (Три-a тоже не конспектировал лекций.) Откровения ждет? Истины с большой буквы? Но ведь ее нет, большой, маленькие все (моего педагога хлебом не корми, дай только отступить от темы), много маленьких, пренебрегать которыми – назидательно подымает палец – грех… Вот, к примеру, окно с грязными стеклами (когда пасмурно, они кажутся чище) – это ли не истина? Вот – видите? – воробей уселся на металлический, в пятнышках помета карниз и чирикает – тоже истина, разве нет? Вот украдкой от преподавателя пустили по столам записочку, в которой, надо полагать, речь вовсе не о философских материях (аудитория смеется – кроме Русалочки), – опять-таки истина, которую высветило наше сознание, но высветило отдельно от немытого стекла или воробышка на карнизе. Есть ли связь между ними? Бергсон полагает – есть, все вписано, утверждает фантазер Бергсон, в некий космический сценарий – от чириканья птахи до разлетающихся галактик (не совсем так, но доктор диалектики не грешит академическим педантизмом), однако было бы насилием втискивать сии маленькие и неопровержимые – в силу наглядности своей – истины в умозрительный каркас Истины единой и всеобъемлющей.
Русалочка взяла ручку. Два или три слова записала, не больше, но для Посланника и это хлеб. Как маленькая истина – все-таки истина, так маленькая победа – тоже победа, не говоря уже о маленьких радостях. Банька с веником… Дружеский интимный ужин, так некстати совпавший с юбилеем Три-a. (Не позвонить ли все же Дизайнеру?) Быстрая езда на бесшумном автомобиле… И даже – девочка для контраста, без которой оцени-ка попробуй собственную скорость! (Мне, ведущему малоподвижный образ жизни, подобные вехи не нужны.)
Положив ручку, Русалочка произносит что-то – как всегда монотонно и тихо, под нос себе. Но профессор начеку.
– Не согласны с чем-то?
– Не я…
– Не вы? – удивляется преподаватель. – Кто же в таком случае? Аудитория затихает.
Аудитории по душе их препирательства.
– Единая идея – это сама жизнь.
– Истина и идея, – отечески уточняет доктор диалектики, – вещи разные. Это во-первых. А во-вторых, не единая, а абсолютная. У Гегеля это называется абсолютной идеей. Вы ведь Гегеля имеете в виду?
– Не Гегеля…
– Не Гегеля? Кого же тогда, интересно знать?
– Абсолютной идеи не существует.
– Браво! – хлопает в ладоши профессор. – Браво вашему мужеству. Нынче ведь не модно признаваться в материалистических воззрениях.
– Я ни в чем не признаюсь.
– Но если не материализм, то идеализм. Если не Демокрит, то Платон. Третьего, как известно, не дано.
Вообще-то он у меня небольшой любитель научных диспутов – уж я-то знаю! – но кажется, знает и она. Догадывается… Вот даже спорит не с ним как бы, а с кем-то другим, незримым.
– Третье – это жизнь. И чистая материя, и чистое мышление без нее мертвы.
Профессор поглаживает усы. Ему спокойней, когда этой близорукой феи нет в аудитории (уж не боится ли, что в один прекрасный день наденет очки?), но когда появляется – непременно с запозданием! – что-то заставляет его, к собственному неудовольствию, постоянно пикироваться с нею.
А тем временем в сумерках цокольного этажа, прохладных и вечных, как космос Бергсона, копошатся при электрическом свете подвальные люди. Когда-то там ютилась столовая и некто с салфеткой на груди обстукивал яйцо. С тех пор Посланник во чрево Колыбели не спускался ни разу… Вот и выходит, что и тип тот еще сидит, обвязанный салфеточкой, и яичко не остыло, и Посланник не профессор вовсе, а студент – обыкновенный студент, которому не досталось места в общежитии. Хоть на вокзале ночуй! И ночевал бы, если б не чудаковатый сверстник, вдруг поведавший с улыбочкой, что снимает под Москвой небольшой домишко. Совсем небольшой, хибару, можно сказать, но сунуть раскладушку есть куда. «Поедем, если хочешь…» И улыбочка, вдруг проступившая, как проступает изображение на рентгеновском снимке, тоже не исчезла – живет. И женщина со змейкой – не доцент еще, а юная аспирантка, портрет которой набрасывает карандашом вдохновенный соученик. «Надеюсь, – слышит, – мне подарят его?» «Зачем? Муж и так видит тебя». «Не видит… Теперь уже не видит». Рисовальщик обескуражен – обескуражен и даже испуган слегка – не ожидал такого поворота. «Но сына-то, надеюсь, навещает?..» Он жив, этот карандашный набросок, заперт вместе со мной на два замка, забыт, беспомощный и бесполезный, как беспомощны и бесполезны все на свете портреты и фотографии с их комичной претензией удержать то, что и не собирается исчезать. Да и куда? Некуда… Я хорошо ощущаю это, вслушиваясь по ночам в бой Совершенномудрого, каждый удар которого бесконечно мал по сравнению с вечностью и, следовательно, равен ей. Бесконечность-то едина – будь то бесконечность малого или бесконечность большого. Три-a не умер – люди вообще не умирают, о чем, в общем-то, догадываются, только не в силах осознать и оттого награждают собственным бессмертием выдуманных богов.
А коли смерти нет, то нет, получается, и рождения?..
Ах, Стрекозка! Как, интересно, развяжет юбилейный узелок мой кудесник?
Едва на кафедру войдя, набирает номер Дизайнера. Долгие гудки, которые, конечно же, не прервутся: когда в этот час мастер бывает дома!
«Поедем, если хочешь». И все, и ни слова больше. «Прямо сейчас?» – «Прямо сейчас». О том же, какой у него нынче день – ни звука, и лишь когда добрались, когда загудела печурка, когда вырубили свет и гость произнес, вслушиваясь в шорох дождя: «Как в бабушкином сундучке», – признался: «А у меня сегодня день рождения».
Снова номер Дизайнера набрал – не домашний на сей раз, служебный. Так называемый служебный: лишь за жалованьем хаживает сюда.
– Константин Евгеньевич, – прожурчало в трубке, – в «Кашалоте».
– Где-где?
– В «Кашалоте». Фирменный рыбный магазин.
– Спасибо, лапочка. Это, наверное, у черта на куличках?
– Новогиреево.
– Я так и думал. И телефона, конечно, нет.
– Пока нет. Объект не сдан еще.
– Вы – прелесть. Я целую вам ручку.
Не судьба, стало быть. Но ничего, он не в претензии. Он вообще не сутяга по натуре (чего обо мне, увы, не скажешь) и, если уж с Пропонадом находит общий язык, то с небом и подавно не желает заводить тяжбы.
– Буду, – предупреждает лаборантку, – к Ученому совету! – И, захватив «дипломат», идет, быстрый и легкий, в легких туфельках по опустевшему коридору. В глаза солнце бьет, но уроженец юга не отворачивается. Загородившись ладошкой, всматривается в фигурку на подоконнике. Неужто Русалочка? Сей укромный пятачок отведен Пропонадом специально для курения, но, во-первых, перемена закончилась, а во-вторых… «Ты куришь?» – осведомился раз папаша-демократ у своей музыкальной дочери, хотя твердо знал: нет, не курит. Однако не удивился, услыхав: «Курю, папуля. Курю…»
Да, она на подоконнике, сторонница третьего пути.
– Теперь понятно, – уличает профессор, – почему вы опаздываете на лекции.
Нашарив босой ногой соскочившую плетенку, Русалочка медленно подымается.
– Извините…
– За что? – изумляется демократ. – И сидите, ради бога, сидите! То есть можете идти, конечно, потому что лекция началась, но можете и сидеть.
Мысленно же прибавляет, шалун: я ведь не проректор по надзору.
– Спасибо.
– Спасибо вам! За вашу активность… Мы, правда, так и не доспорили…
– Я не спорила…
– Но в принципе, – подымает миролюбивый атташе палец, – я с вами согласен. Серединный путь всегда лучше крайних.
– Соловьев не о середине говорит.
Профессор откидывает чубчик. Ох, уж этот Соловьев! Он нынче что Алла Пугачева, а вот, к примеру…
– Секст Эмпирик – слыхали о таком? – Солнце, как мощный юпитер, освещает моего артиста. – У нас этот античный философ, к сожалению, почти не известен. Но есть замечательная книга о нем – пока, увы, не изданная. «Шестой целитель» называется, Секст – шестой, Эмпирик – целитель. Хотя, – спохватывается, – что я! Вы ведь у нас полиглот.
На пальчиках, что торчат из плетенок, розовеют ноготки. Педикюр? А на вид – скромница, школьница. (И глазки потуплены.) Но школьница – упрямая, Школьница, которая все-то знает про своих учителей.
– Эмпирика не читала.
– Прочтете! И его, и о нем. Надеюсь, книжица появится. – Посланник сделал паузу. – Ее автору, – понизил он голос, – исполнилось бы сегодня пятьдесят.
Глаза подымаются – небольшие, с воспаленными веками глаза, в которых нет ничего русалочьего. Просто больна… Не сейчас – вообще больна. (Хотя, наверное, и сейчас тоже.) Полсеместра не ходила в прошлом году – спокойное было времечко.
И зачем только завел этот никчемный, этот опасный разговор! (Чем? Чем опасный, хозяин?) Прошел бы себе мимо…
Опустила наконец очи. И сразу легче задышалось, веселей, а в распахнутую форточку влетела с тяжелым жужжаньем праправнучка тех, кого пестовал некогда вениковский умелец.
– Наш выпускник, между прочим.
Пчелы сегодня преследуют его с самого утра – к чему бы это? (Запамятовали-с, хозяин! Если вы о существе, что стукнулось утром о стекло лимузина, то там не пчела была – шмель.)
Вновь подняла близорукие свои глаза и, чуть сощурившись, посмотрела… Не на него – если б на него! – сквозь. Почти как внук утром.
Бинокль, любимая услада стареющего узника, выпал из рук, он вздрогнул и отшатнулся. Поздно: взгляды наши встретились. Тюремщик, перетрухнув, что-то о вреде табака понес, о дочери, которая тоже курит, мерзавка…
– Ладно, барышня. Не буду мешать вам. Но на лекции, – погрозил игриво, – лучше не опаздывать.
И – прочь поскорей, прочь, к лимузину, который помчит сквозь солнце и пчелиные траектории туда, где решается судьба «Шестого целителя».
Лица нет, что-то темное вместо лица – испуганный малыш прижимается к матери (значит, мать жива еще), и никто почему-то не объяснит ему, что это всего-навсего пасечник. (Три-a объяснил… Но когда?!)
А может, не пасечник? Почему ульев не помнит? Почему не помнит пчел? Вот черных птиц – тех помнит: и в небе, на фоне белой колокольни, и внизу, на белом снегу, хотя, если разобраться, вовсе не птицы это, а обыкновенные семечки. Высвободив руку из теплой ладони, малыш опускается на корточки, близко, внимательно рассматривает. Мать вверху тихонько смеется. Наверное, сморозил что-то, но что – затерялось во времени. И слова затерялись, и голос, а смех все кружит да кружит вокруг поселка Грушевый Цвет.
Посланник – тот не слышит смеха. Это ведь аномалия – слышать канувшее в небытие, а он как истый спартанец терпеть не может аномалий, будь то обыкновенный насморк, бессонница (я бессонницу переношу спокойно), веки Русалочки – воспаленно-красные, с редкими ресничками, или пергаментная прохладная кожа Кафедры Иностранных Языков. Ох, старики! Всегда ненавидел запах тления, а от них исходит именно этот запах… Философствовать – значит учиться умирать? Чепуха! Философствовать – значит учиться жить, вот девиз доктора диалектики. «Так говорил Заратустра?» – обронил Три-a с рентгеновской улыбочкой. «Ничего п-подобного, – заморгал глазками доктор диалектики. – Ницше агрессивен, а я, ты знаешь, не люблю агрессивности».
То был камушек в мой огород, но – мимо, мимо… Ибо хоть и сварлив я по натуре, и угрюм, и ехиден – не отпираюсь! – но агрессивности нет во мне. Просто не бросаюсь в объятия первого встречного, что, впрочем, не такая уж добродетель для запертого на два замка.
Я не обижаюсь – хоть на три! Пусть объединяются, пусть сливаются, пусть прорастают друг в друга, что, полагает Дизайнер, есть залог обновления, ибо, взятый в отдельности, человек неизменен – новы лишь комбинации («Особенно с женщинами», – подпустил ироничный атташе), – пусть, мне и одному неплохо. Пусть диффузируют, как выразился однажды мой интеллектуал. (По поводу заведения, к которому летел сейчас сквозь солнце и пчелиные траектории.)
Выйдя из машины (ровно в два: «Маяк» играл позывные), нырнул с пакетом яблок в подъезд. Пахло известью, опилками (люблю запах разделываемого дерева), бумагой и апельсинами. Во всяком случае, чем-то тропическим, как и должно быть в учреждении, которое, с одной стороны, выпускает книги, а с другой – что-то там координирует в районе экватора. (Кажется, бурильные работы. Мне в Грушевом Цвету помогал со скважиной глухонемой сосед.) Раньше издательские и тропические ведомства жили хоть и под одной крышей; но в разных комнатах; ремонт перемешал всех – тут-то, по выражению любителя бирочек, и восторжествовал подлинный симбиоз: за одним столом прояснялись темные места из аристотелевского толкования души как энтелехии тела, за другим, рядом, вырабатывалась тактика защиты провизии от обезьян…
Лавируя между шкафов, столов и опрокинутых стульев, Посланник жизнерадостно здоровался как с книгоиздателями, так и с тропическими бурильщиками.
– Из собственного сада? – спрашивали его, показывая глазами на яблоки, и он с гордостью подтверждал:
– Из собственного!
Угоститься предлагал, но настаивать не настаивал. Лишь раз, преградив дорогу загоревшей толстушке, извлек краснобокий плод.
– Прошу!
На смуглом лице сверкнули зубы.
– Большое спасибо!
Склонив набок голову, любовался дамой. Потом заговорщицки поманил пальцем. Шоколадное ушко приблизилось.
– Вас они переманили? – прошептал мой любезник.
– Они? Кто они?
– Мастера тропического бурения. А где еще, скажите на милость, можно загореть так?
И все, и мадам счастлива, и плод, дело рук моих, забыт, а ведь вырастить его – не комплимент сказать, труда здесь требуется поболе. (Мне, впрочем, угрюмому молчуну, легче вырастить.)
– Вы насчет своей рукописи?
– Ну что вы! – засмеялся такой наивности и такому незнанию его доктор диалектики. – О своих делах я предпочитаю помалкивать.
Обсуждая переменчивый, как погода на экваторе, курс тамошней валюты, мимо протиснулись бочком две тропические бурильщицы. Мой спортсмен, и без того поджарый, сделался на миг совсем плоским. Смиренно ждал, пока меркантильные голоса стихнут.
– Сегодня, – произнес, – пятьдесят лет Астахову. Боюсь, вам это имя ни о чем не говорит.
– К своему стыду…
– Не к вашему! В том-то и дело, что не к вашему… К моему!
И тон (сдержанный), и выражение лица (скорбное), и спавший на лоб чубчик (с сединой), который он не откидывает как обычно, дают понять, что разговор сей – не из приятных.
Посланник не притворяется. Ему действительно неприятно, а все, что неприятно его светлости, спихивается на меня – его, если угодно, темность. Я, правда, не разглагольствую о Три-а – мне в моем замке разглагольствовать не с кем, – но я о нем думаю и думаю часто. И «Шестого целителя» не перелистал за дегустацией орехового варенья, что презентовали супруге кавказские театралы, а аскетически проштудировал страницу за страницей.
Яблоко, опущенное было в знак уважения к неведомому Астахову, вновь взлетает и пружинисто покачивается на ладошке. Достаточно ли, прикидывает, весома эта нечаянная дань или можно разжиться еще чем-либо?
Можно…
– Не посоветуете, где достать билеты на «Тристана»? Говорят, замечательный спектакль. – Яблочко же вниз потихоньку, вниз, дабы не напоминало, что уже облагодетельствована нынче.
– Я поговорю с женой.
И завязывает мысленный узелок, уже второй на сегодня. (Первый: угостить яблоками Кафедру Иностранных Языков.)
Русалочкин философ утверждает, что если у нас тут, внизу, среди человеческой круговерти, среди смеха, плача, автомобильных гудков, среди запаха опилок и чернозема, который я таскаю ведрами из ближнего леса, – если внизу все раздельно и подлинного единства нет, есть лишь понятие о нем, идея, то наверху царит именно единство. (Всеединство – уточняет русалочкин философ.) Отражаясь в небесах – или, напротив, увиденное с небес, – одним целым становятся издатели и тропические бурильщицы, гаишники и шоферы, студенты и профессора. Но это там, наверху, здесь же если и соединяются, то лишь в симбиозе, всеобщую теорию которого еще предстоит создать. Пока у моего диалектика не доходят руки, но материал собирает. Вернее, собираю я, его секретарь. Вот Три-a и вот Стрекозка (симбиоз еще более удивительный, нежели издательско-тропическое ведомство), вот Посланник и вот Затворник (а что? ладим…), вот пасечник Сотов, при виде которого малыш со страхом прижимался к матери… Или не пасечник? (Почему ульев не помнит? Почему не помнит пчел?) Не только пасечник, а и некто еще, являвшийся, когда матери уже не было рядом, а было твердое и длинное, как доска, слово «покойница». В городе жил малыш, у тетушек с китайскими именами – как нервничали они, приметив за окном темную, без лица, фигуру!
– Обедали? А то милости просим!
– С удовольствием. С п-превеликим, – позаикался слегка, – удовольствием. На это, признаюсь, и рассчитывал.
Правду говорил. (Посланник всегда говорит правду.) Быть в Симбиозе и не пообедать! Скромно поставив на подоконник пакет с яблоками – десертик! – в столовую отправился с щебечущей стайкой – уже не гость, уже кавалер. Вот вилочки, вот ножи, а подносики, извольте, заберу… Сел, наконец, дамский угодник, оглядел стол, пальчиком усы пригладил.
– Ну-с! С чего начнем?
И начал, шалун, с ананасового компота, признавшись чистосердечно, что с утра гурманничает: уплетал с внуком сливки.
– У вас внук? – удивляется одна из дам, маленькая и светленькая, усатенькая, похожая на мышку.
– А вы думали! Я уже старый человек.
Мышка усмехается. (И зубки мышиные, мелкие.) Усмехается, но возражать не возражает, принимается грызть – по-мышиному – желтый, просвечивающий на солнце сыр. Посланник, слегка задетый за живое – не опровергли, что стар! – тоже за закуску берется, а деликатес из экваториальных широт отставляет. Ах, тропики! И еда – тропическая, и деревце в кадке (лимонное; на листиках солнце играет), и девочки за соседним столом – цветные все, яркие, с голыми руками. Похрустывая огурчиком (огурчики отечественные), гурман любуется исподтишка голой шейкой. Мой бинокль тоже скользит по ней, но лишь скользит, не задерживается. Вот Дизайнер – тот оценил бы по достоинству, но Дизайнер далеко, «Кашалот» расписывает, предвкушая, как славно посидят вчетвером.
А если б, пугается Посланник, прыткая Стрекозка разыскала бы его накануне! А если б чудом дозвонился Дизайнеру!
– Сегодня, – сообщает, придержав вилку, – пятьдесят лет Астахову.
Редакторша – его редакторша, женщина добрая и хозяйственная (отличные носки вяжет), перестает жевать.
– Пятьдесят? Я думала, он старше.
– Увы! Боги своих любимцев забирают молодыми.
Мышиные глазки – зырк в его сторону, зырк.
– Это тот, что о Секст Эмпирике написал?
– Он самый.
– Господи! Да кому нужен сейчас Секст Эмпирик!
– Никому! – соглашается профессор. – Никому… Но книжка-то знаете как называется? Не «Секст Эмпирик», нет. «Шестой целитель» называется книжечка. А это уже – вы ведь люди опытные, вы знаете! – это уже не просто книга, это уже товар…
– Товар, на который не будет спроса.
– Не скажите! – взмахивает вилкой доктор диалектики. Вообще-то манеры у него хорошие – в отличие от меня, – но больно уж увлекающаяся натура. За что и любят его. (Меня не любят.) – Не скажите! Книга, согласен, малоактуальна – в конъюнктурном смысле слова, – но это ее главное достоинство. Согласны? – мазнув взглядом по смуглой шейке, апеллирует к редакторше.
Редакторша молчит и молчит грустно. (Зато тропические девочки веселятся вовсю.)
– Может, у него есть что-нибудь другое?
– Ничего! – отрезает Посланник. – Если б у него было что-нибудь другое, то это был бы уже не Толя Астахов, а… Вот у меня, – кается, – есть.
– С вашей рукописью, – констатирует хозяйственная женщина, – все в порядке.
– Потому что я не Астахов. Я – Посланник.
– Кто-кто? – вскидывается мышка.
– Посланник! – объявляет мой атташе. – Посланник… Так звал меня Астахов, когда утешить хотел. Я нагрешу, бывало – я ведь грешен – о-о, грешен! – а он: не падай духом, старче! Да как же, говорю, не падать, если я, сукин сын такой… Ты не сукин сын, отвечает. Ты – Посланник.
– Божий, что ли? – тянет носик вверх неугомонная мышка. – В евангельском смысле?
– Божий! Разве я похож на Божьего? Отпетый материалист, который тем и зарабатывает себе на хлеб насущный. А иногда, если пофартит, и на ананасовый компотик. Вот и редактор мой говорит, – снова вовлекает в беседу хозяйственную женщину, – что у меня все в порядке. У Астахова – не в порядке, на Астахова, видите ли, бумаги не хватает – на него всегда чего-то не хватало, – а для моего сочинения, слава тебе господи, бумага есть.
– А вы бы уступили свою позицию, – раздается мышиный, с дребезжаньицем, писк. Это она смеется так, ехидная грызуниха, и все тоже смеются, совсем как тропические девочки. (Посланник бросает взгляд на шейку.)
– А что? – Он серьезен. – Коли это возможно…
– Почему же нет! – изгаляется грызуниха. – Если официально попросите…
– Прошу! Официально! – И обводит глазами стол, но уже не как любитель ананасов, а как лицо юридическое. – Надеюсь, наше собрание достаточно представительно.
– Еще бы! – ликует хвостатая.
– В таком случае ответственно заявляю: прошу перенести мою рукопись на следующий год. Живые подождут! А освободившуюся позицию отдать Анатолию Александровичу Астахову. Достаточно? – И смотрит сверху на загнанную в угол мышь – большой, сильный, холеный кот, у которого топорщатся усы и трепещут от возбуждения ноздри.









































