Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
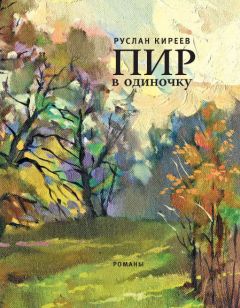
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Старик замирает, озадаченный. Немая сцена! Устраиваясь поудобней, навожу биноклик, лицедей же мой ощупывает мысленный узелок: не забыть билеты на «Тристана»! Но он сейчас – не главное действующее лицо. Главное действующее лицо – Борода, вдруг звонко хлопающий себя по лбу.
– Ну конечно! Конечно же… Ах, старая калоша! Прошу прощения у почтенной публики: Астахов действительно не учился в аспирантуре. Не поступил… Но почему, хочу я знать. Почему не поступил самый талантливый? Почему, задаю я вопрос, не поступил самый перспективный? Документики ведь, насколько мне известно, подавал. Или опять путаю что-то?
– Не путаете, – успокаивает соискатель. – Подавал.
– Но?!
Плывущий в распахнутые окна теплый воздух шевелит ветхозаветную бороду, подымает волосики на голове – будто туман клубится на берегу грушецветного пруда, в котором ставший аспирантом рыбачил когда-то со своим научным руководителем. Удачно рыбачил – в преддверии грозы, нависшей над ближним и дальним лесом, как сейчас нависло над примолкшим залом коварное «Но?!»
И вдруг:
– Разрешите мне!
Посланник… К удивлению зала и моему, признаться, тоже. Только что сидел, ласкал усики, с Кафедрой Иностранных Языков шептался, на женщину со змейкой посматривал и вот уже стоит. Нет, идет, неторопливо поворачивается лицом к притихшей публике. Кто-то спешно прикрывает окно. Стекло вспыхивает, солнечный блик скользит по рядам, отражаясь в глазах – точно десятки маленьких линз сверкнули одновременно.
Я защищен от подобной бесцеремонности. От чужих глаз защищен – спасибо Посланнику! – от чужих ушей, от чужого праздного любопытства. Лишь Три-a знал о моем существовании – не догадывался, как кое-кто, а знал наверняка, – но Три-a нет на свете, глухонемая же чета, те единственные, с кем я общаюсь, видит во мне только соседа – я надеюсь, хорошего, – да часовых дел мастера.
Последнего, по-моему, они ценят больше. Наручные часики не приносили, правда, ни разу – то ли везет с наручными, не ломаются, то ли в мастерскую отдают, а вот настенные, с боем, который время от времени пропадает, притаскивали.
Зачем бой глухонемым? Как вообще узнают, что часы, закапризничав, смолкают? Я-то не задаю подобных вопросов – это Посланник, который в курсе некоторых моих дел (немногих!), любит позабавить знакомых байками о глухих супругах, улавливающих сверхъестественным каким-то чутьем голос скрытого от глаз механизма. Не знаю, не знаю… А что, если лишенные слуха ощущают скрытое от глаз лучше, чем мы? Им ведь ничто не мешает: ни людская болтовня, ни транзисторы, ни позывные «Маяка», столь милые сердцу моего педанта, ни гул улицы за распахнутыми окнами. (Закрыли еще одно; Борода, покряхтев, – не ожидал, как и я, такой прыти от вальяжного автомобилиста! – опустился на место.) О миг беззвучья! Не только ранним утром случается, до первых вскриков электрички, заменивших петушиное пенье (в Грушевом Цвету не держат кур), но порой и днем, посреди, например, жаркого пляжа, на который счастливоусталый купальщик выходит из воды с маской и ластами. Гвалт, смех, хлопанье мяча, детские крики – и вдруг все быстро и как бы наискосок уходит. Тишина… Звонкая тишина сжимает уши, будто, погрузив в прохладную воду лицо – затылок же солнце припекает, – вновь парит белотелый пловец над бородатыми, живыми, зелеными от шевелящихся водорослей камнями… «Астахов? – переспрашивает беззвучно. – Толя Астахов?» И толстяк с лупящейся кожей подтверждает: да, Астахов – он только что говорил с Москвой. Подробностей не знает и Астахова тоже не знает – сколько ему, любопытствует, годков-то было? Вздохнув, к воде шлепает, входит в воду, но окунуться долго не решается. Сдирает с груди розовую кожицу, дует, вытянув губы, лоскутки нехотя летят…
Натянув брюки. Посланник заспешил на почту. «Что там с Астаховым? – орал в раскаленной будке. – Это правда, что…» – «Правда, – ответили ему. – Все правда…» Скорбный голос звучал совсем близко, и эта горестная интимность страшнее всяких слов убеждала: да, правда. Раздавленный, брел по горячему, заляпанному шелковицей асфальту – раздавленный не только событием, которое вот только теперь грянуло по-настоящему (на пляже все-таки не поверил), а и неполнотой, неглубиной своего потрясения. Словно давно предчувствовал такой конец… Чужая жизнь, слабея, тихо отступала с рентгеновской улыбкой на устах, он видел это – конечно же, видел! – но отводил взгляд и в смятении притушевывал веселый напор жизни собственной.
Скрестив на груди руки – жест доверия и мира! – глядит в зал.
– Знаете, почему Иван Филимонович заговорил об Астахове?
Тихо сказал – он вообще не любитель повышать голоса, – но народ услышал, хотя одно окно все еще оставалось открытым и уличный гул, напоминающий отдаленный шум моря, вползал вместе с запахом остывающего асфальта.
– Сегодня пятьдесят лет Толе. Юбилей… Мы с Иваном Филимоновичем как раз говорили об этом, когда ехали сюда. Медленно, правда, ехали, опоздали, но вы уж простите нас. – Вот! И мы тоже не ангелы… – Я и от вашего имени, Иван Филимонович, ладно?
Борода поерзал на тощих ягодицах, но промолчал, соглашаясь: да уж чего там, не ангелы.
– Я весь день сегодня думаю об Астахове. И знаете, что вспомнилось мне? Один наш давний разговор – в конторе у него. А работал он, должен вам сказать, в статистическом управлении. Клерком. Обыкновенным клерком! И это, как правильно говорили тут, человек, которого поцеловал бог. Я, во всяком случае, – и это, поверьте мне, не кокетство, – чувствовал себя рядом с ним жидковато. Может, потому и забросил удочку: не попробовать ли, Толя, еще разок? В аспирантуру… Времена меняются, люди меняются. Если хочешь, говорю, подымем документы, глянем, кто тогда был против. Хочешь?.. Понимаю, – вскинул оратор мой руки, – понимаю: не имел права, но… Что было, то было! Можете, – повернулся к ректору, – покарать за нарушение этики. Вернее, за готовность нарушить. Только за готовность! Ибо знаете, что соизволил ответить чиновник статистического управления, чье место не там было, не за столом с арифмометром и ведомостями, которые он перебирал в перчатках с отрезанными пальцами, а здесь, в этом зале? Если, пардон, – кивнул легонько в сторону президиума, – не за этим столом…
Одобрительный смешок пробежал по залу. Посланник откинул чубчик. То был миг вдохновения, мне недоступного.
– Вы спросите, какое отношение имеет все это к нынешней повестке дня? Сейчас увидите. Только, прошу, вдумайтесь в то, что ответил на мое не слишком корректное предложение наш выпускник Толя Астахов.
Кто-то, поднявшись, закрыл окно – последнее! – и теперь ничто не мешало наслаждаться действом. Борода сидел, наклонив плешивую голову.
– Астахов сказал: не надо. Не на-до! То есть, спрашиваю, ты не хочешь знать, кто был против? Не хочу, отвечает, и принимается трещать на своем арифмометре. Не хочу – слышите? – Профессор смолк, уронив обессиленно руки и с приятной грустью ощущая, что чем-то напоминает сейчас Три-а. – Вот, собственно, все, что я имел честь доложить высокому собранию. Благодарю вас! – И, полный грациозного смирения, направился по скрипящему паркету к своему месту.
Хоть бы разок поинтересовался, что за странная фигура возникает время от времени в сумерках за окном – неподвижная, с плоским, темным, будто в сетке от пчел, лицом! Когда-то уже видел такую – давно, очень давно, в другой жизни, где еще была мама, к которой он в страхе прижимался – мягкой, теплой, а она, наверное, объясняла, что не надо бояться, это обыкновенный пасечник…
Теперь не пасечник приходил, другой, но тоже из Веникова. Об этом – что из Веникова – догадался сам: тетушки ни словам не обмолвились. Узрев человека за окном, задергивали торопливо шторку и, как бы ни был остр очередной территориальный спор, спешно мир заключали: сообща отвлекали племянника, развлекали, а раз даже сунули с перепугу Большие Карандаши, что лежали двумя рядами – двадцать четыре штуки! – в синей с красными полосами, широкой, как учебник, коробке. В классе такой не было больше ни у кого.
Хранились Большие Карандаши за часами и, как часы, бездействовали. Для будущего берегли их тетушки – подобно многочисленным вареньям, – а пока что, говорили, хватит обычного, в шесть цветов набора. Он соглашался: хватит (и с одной соглашался, и с другой, и с обеими сразу), но, оставаясь один, забирался на табурет и доставал из-за тогда еще безымянных часов красно-синюю коробку. Слезал, тут же на колени опускался, превращая табуретку в стол, и, прислушиваясь к двери, запертой на два замка – один тетушке Лю принадлежал, другой тетушке Ли, – брал по очереди карандаши и затушевывал на тетрадном листке квадратики. Медленно, оттенок за оттенком, один цвет переходил в другой, другой – в третий… Вот так, подпираемый соснами, темные стволы которых истончаются от косых, но все еще ярких солнечных лучей, переплавляется закатное небо из лимонного кадмия в желтую охру, из охры – в оранжевый сатурн, из сатурна – в раскаленный, сжатый малым пространством вермильон… Все цвета вмещает палитра, этот Ноев ковчег, спасающийся от потопа ночи. На айсберг налетает, айсберг-облачко, рваные края которого вспыхивают прозрачной краснотой, в то время как середка наливается густым пурпуром, выплеснутым при столкновении… Кто сосчитает эти бесконечные переливы, эти переходы и модуляции! Цвет, как и материя, дробится бесконечно, а маленький колорист полагал в своей наивности, что двадцать четыре Больших Карандаша объемлют все. Запертый на два замка (был, между прочим, и третий) предавался самозабвенно тайному вдохновению, пока в тишине не звякал вставляемый в скважину ключ. Проворно на табуретку вскакивал, клал заветную коробку на место и встречал входящих тетушек открытым, как у пионера, бесхитростным взглядом. Здравствуйте! Вот и я, ваш хороший, ваш послушный мальчик.
Не в пример тем, кто, взяв бюллетень, стыдливо уединяется, чтобы конспиративно поколдовать над ним, опускает свой сразу, на глазах у всех. Никаких тайн! Никакого лукавства! Хотя кое о чем все-таки умолчал, излагая сокровенную свою беседу с несостоявшимся аспирантом. О такой, например, фразочке – Три-a обронил ее, прежде чем крутануть арифмометр: «Но ты ведь знаешь, кто был против?» «Знаю, – признался атташе. (Правдивый как всегда.) – Знаю…» – «Ну и достаточно, – молвил несостоявшийся аспирант. – А я знаю, кто был за». И назвал имя Рыбака, с которым Посланник, тогда еще кандидат, но уже зрелый, уже на полпути в доктора, сиживал в рассветный час на берегу грушецветного озера. «Он ничего не мог сделать!» – бросился ученик на защиту учителя. (Благородный ученик! Благодарный… Именно вдове Рыбака предназначался лежащий на заднем сиденье пакет с ароматными яблоками.)
В коридор выходит… Вдали, на подоконнике, кто-то сидит, как сидела давеча Русалочка. Уж не она ли опять? Очки надевает – она! Назад было подается, но там – Пропонад. Завяз в ученой сутолоке, но уже выбирается и сейчас заграбастает, преисполненный благодарности.
Спасаясь от Пропонада, устремляется к подоконнику.
– Вы все еще здесь?
– Я всегда здесь, – отвечает, пряча сигарету, сторонница третьего пути.
Глаза профессора удивленно расширяются. Но не слишком – дабы читающая в подлиннике темных немецких авторов не проникла взглядом в грушецветное укрытие.
– Уж не хотите ли сказать, что днюете и ночуете здесь?
– Хочу.
И смотрит, смотрит опять как тогда – сквозь, игнорируя моего представителя.
– И ночуете?
– И ночую.
За спиной – густой, ровный гул ученых мужей, прорезываемый дискантом Бороды, таким родным вдруг. Ах, как хочется обратно доктору диалектики, к своим, которые имеют скромность видеть лишь то, что им показывают! А если и набираются дерзости сунуть поглубже нос, то лишь украдочкой – не пялятся, как эта.
– Пощадите! – вскидывает профессор руки. – Я стар, мой ум не быстр и не гибок – короче, я не понимаю вас, дорогая. Вы говорите в переносном смысле?
– В прямом.
– В прямом, что ночуете здесь?
– Да.
Посланник обескуражен, что и не собирается скрывать – напротив! – но только обескуражен не тем, что кто-то изволит почивать в Колыбели (на то и Колыбель!), а доверием, с каким его, преподавателя как-никак, ставят зачем-то об этом в известность.
– Прямо здесь? – кивает, резвясь, на подоконник.
Русалочка игривый тон игнорирует.
– Не здесь. В деканате. Там есть диван.
Так вот почему – воспаленные веки! Вот почему – плетенки на босых ногах! Спасибо хоть в ночной рубашке не является на лекции!
– Знаю! Замечательный диван. С валиками.
– Валики я убираю.
– Правильно делаете. Но разве деканат не запирается?
Помешкав, девица бросает уклончиво, что запирается все, и этот обобщенный ответ повергает тюремщика в легкое смущение.
– А ваши родители… Им известно, где вы? – Не как преподаватель – как отец дочери, пусть даже и вылетевшей из родного гнездышка.
– Папа приходил.
Тут уж я заволновался. Приходил? Сюда? Под окошком стоял? Не с сеткой ли на лице?
– И что?
На десять минут объявили перерыв – всего на десять, которые, судя по шуму за спиной, истекли, народ проголосовал – отчего ж не зовут? (Посланнику хочется, чтоб позвали.)
– Ничего. Сигареткой угостила.
Легкий дымок курится из кулачка, в котором зажата отрава. Не подействовало, стало быть, утреннее увещевание.
– Хороший отец у вас. Демократичный.
– Как и вы.
– Как я?!
– Вы ведь сказали: ваша дочь тоже курит.
Профессор морщится: неужто сказал? (Свидетельствую:
говорил.)
– Моя дочь, однако, из дому не убегает.
– С вами живет?
То ли удивляется, то ли сомневается… То ли с поличным ловит… И профессор, человек честный, признается:
– Не со мной.
И тут же уточняет (мысленно! только мысленно: не вступать же в дискуссию с пигалицей!): то не бегство было…
Как сказать! Спала и видела отпасть поскорей, отсоединиться, установить еще одну дверь – в добавление к тем полчищам, что заполонили землю, – толстые и тонкие, большие и маленькие, с крючочками и цепочками, с моржовыми клыками вместо ручек или медным кольцом, как у глухонемой четы… А Русалочкин философ утверждает, что люди, напротив, только и делают, что сметают разделяющие их преграды.
– Можно вопрос?
«Нельзя!» – пугается Посланник. Какой еще вопрос, вопросы на лекции…
– Ради бога!
Гул за спиной поутих – в зал возвращался народ?
– Ваш знакомый… Которому пятьдесят лет сегодня…
Нечто подобное и ждал, но поощряет, волевой мужчина:
– Да-да?
– Он своей смертью умер?
Подобное, да не совсем! Главное же – опять этот напряженно-близорукий взгляд, под которым бедный диалектик делается прозрачным, как стекло. (Я отодвигаюсь.)
– Увы!
Тут же спохватывается: почему – увы? Зарапортовался доктор, но небо, которое всегда благоволит к уважающим приметы (и магию круглых цифр), посылает на помощь ангела-спасителя.
– Товарищ профессор!
Оборачивается. Солнечным светом облит ангел, но не призрачен, нет, телесен и даже слепка грузноват – у Посланника пересыхает вдруг нёбо. В устремленных на профессора карих глазах – смешливая пытливость. Что, неужели все еще боишься меня?
Не боится! Экзюпери смел, Экзюпери ничего не боится. Просто он из тех, кто не насилует судьбу. С судьбой, полагает он, надо сотрудничать.
– Голосование завершено, – тихо говорит женщина со змейкой. – Вас нижайше просят.
Как узнал малыш, что тот, за окном, похожий на пасечника, – вовсе не пасечник, а родной отец его? От теток? Нет, тетки помалкивали. Двигали, Божьи одуванчики, массивный буфет, ширму двигали, сражаясь за каждый сантиметр (ползали на карачках, вымеряя), но в одном были едины: ни слова о человеке за окном. И тем не менее узнал. Как? Вот они, пять чувств, – каким из них нашарил в потемках истину?
Пять? Точно пять? А глухонемая чета, вдруг распознающая, что часы перестали бить! А босоногая студенточка, ошарашивающая вопросом, который так просто не слетает с уст! Тут надобно кое-что знать про человека – а она? Что она знает? Сочинил книгу об античном философе? Но о философах многие пишут. Полста исполнилось бы – не исполняется, а исполнилось бы! – но мало ли, кто не доживает до пятидесяти! Все, больше профессор не сказал ни слова. Даже, кажется, имени не назвал (свидетельствую: не назвал), и вдруг вопрос, который и ему-то не сразу пришел в голову. Выйдя из телефонной будки, весь мокрый, соленый – то ли от пота, то ли от моря, в котором еще полчаса назад парил безмятежно над зелеными кущами, рыбки же стояли под ним как неживые, зато камни, ожив, дышали, приподымались вслед за скользящим телом, – выйдя из раскаленной будки, брел куда глаза глядят по пятнистому асфальту, и вдруг – точно обухом по голове. Умер? Но ему ведь не сказали, что умер, лишь подтвердили, когда прокричал в трубку сорвавшимся, тонким, как у Бороды, голосом: правда ли, что Астахов?.. Правда! Все, подтвердили, правда.
Что – все? Последний раз виделись в Сундучке – снова в Сундучке, круг замкнулся, как замыкается всегда, хотя мой автомобилист и убежден, что по прямой шпарит. Круг замкнулся: шел дождь – как опять-таки в первый раз, в печи сырые дрова шипели, и не было света. Только теперь не на время отключили – навсегда, выдрав провода и сковырнув заодно жестяную трубу, что, поблескивая на солнце, даже в июльскую теплынь салютовала дымком подъезжающей на электричке женщине. К сносу готовили полусгнившую халупу, но Три-a хоть бы хны! «На мой век хватит». В пальто сидел, ветхом и тоненьком, под стать халупе, и совестливый гость скинул незаметно свою японскую курточку из голубого полотна, рассеченного, будто реактивный самолет прошел, быстрой и бесшумной молнией. (Белой; Посланник любил определять, задрав голову, что за аэропланчик в небе.)
Три-a глядел на курточку улыбаясь. «Константин Евгеньевич?» – произнес и этим чрезвычайно смутил деликатного приятеля, который полагал, что муж Стрекозки – теперь уже бывший муж – наложил с некоторых пор табу на имя Дизайнера. «П-почему ты решил?» – спросил, моргая, доктор наук, и несостоявшийся аспирант развел простодушно руками. Сам не знает…
Пять? Точно пять? А как же курточка, которую и впрямь ведь Дизайнер подкинул, о чем, кроме их двоих, ни одна живая душа не знала? Не одарил, не облагодетельствовал – именно подкинул, за свою, разумеется, цену, отмахнувшись с приятельской грубоватостью от благодарных слов. «Перестань! Я оформлял им витрину…» До Дизайнера, мелькнуло, и надо дозвониться, прямо спросить – с ним можно прямо! – что все-таки произошло… Посреди улицы стоял в нерешительности курортник, рядом с урной, в которой громоздились арбузные шкурки и которую он не приметил вначале. «На мой век хватит…» Так говорит или очень старый человек, или очень больной, или… Пять? Точно пять? Нет, это лишь верхушка, есть еще, сейчас он не сомневался в этом и, напрягаясь, силился включить эти нижние, эти упрятанные глубоко чувства. Играла музыка, во дворике мотоцикл тарахтел, а на невидимом пляже объявляли в репродуктор температуру воды. Как тут сосредоточиться? Вот когда позавидовал Посланник замурованному в дачной тишине часовых дел мастеру!
Повернувшись, обратно зашагал, к почте. Очереди не было, он набрал код Москвы и номер Дизайнера. Не соединялось долго. Пространство гудело, как гудит оно, когда беседуют поверх голов аристократ Эпикур и оборванец Ян Чжу, дальний родич китайских тетушек, а я, как шпион, подслушиваю.
Наконец прорезался гудок. Долгий… В тот же миг курортник положил трубку. Понял: Три-a умер, просто умер, улыбнувшись напоследок и натянув до подбородка ветхое, с отлетевшей пуговицей пальто. (Тут он ошибся: пальто не было. Не в Сундучке умер Три-а – в больнице, на чистой простыне, а рядом жена сидела, не чужая жена, его опять – отходящий в мир иной понял это по ее лицу, по красным от бессонных ночей глазам, и ей-то, ободряя, улыбнулся.)
Пропонад – теперь уже профессор Пропонад, чему все, кроме Бороды, горячо поаплодировали, хотя «за» не все были, шестнадцать черных шариков сунули – профессор Пропонад отловил-таки своего заступника.
– Два слова! – Губы растянулись, образовав узкий треугольничек; совсем узкий, что означало: буду краток. – Пожалуйста, два слова.
Посланник попытался высвободить ладошку, но не тут-то было: натренированная смычком рука держала крепко. Покорно, хотя и не без некоторого страха, двинул в пропонадовсний кабинет, оплот дисциплины и порядка.
Нет, не оплотность пугала его, а возможное – по случаю этапного события! – отступление от нее. Откроет сейф, достанет бутылочку, а что он на это высшее, на это фантастическое доверие? Премного благодарен, но не могу-с?.. За рулем…
– Садитесь! – простер именинник руку и тоже опустился в кресло. – Вы, прошу прощения, реалист?
– Еще бы!
– Я тоже. Поэтому давайте без предисловий. Вы видели реферат, который представил на аспирантский конкурс Анатолий Александрович?
– Я видел то, во что реферат этот превратился.
– Он ни во что не превратился, – объявил Пропонад и, поднявшись, шагнул к сейфу.
Отпер и долго возился внутри, предусмотрительно заслонив собой тайничок. Что-то, показалось Посланнику, норовило выскочить оттуда, но адепт дисциплины заталкивал обратно. Ага! И у него, стало быть, есть затворник, но узилище узилищу рознь. Разве сравнить сей металлический склеп с грушецветным поместьем!
Наконец извлек осторожно выцветшую папочку, а тяжелую дверь проворно захлопнул.
– Вот этот реферат. Как видите, он ни во что не превратился.
В сейфе шевельнулось что-то и затихло.
– Он превратился, – с улыбкой возразил Посланник, – в книгу, которая, надеюсь, скоро выйдет. Сегодня я как раз был в издательстве.
– И что?
Мой виртуоз поиграл пальцами.
– Кое-чем пришлось пожертвовать.
– Без жертв, – вздохнул новоиспеченный профессор, – в нашем деле не обойтись… И от многого ли, если не секрет, пришлось отказаться?
Я затаился. Скажет или не скажет? Если уж о вениковских яблоках растрезвонил всей Колыбели…
– Давайте не будем об этом. – Виртуоз! Подлинный виртуоз! – Главное – книга выйдет. Что же касается реферата…
– То был самоубийственный документ, поверьте мне!
Верит… Коли один реалист говорит, другой обязательно верит.
– Меня, кстати, спрашивали о самоубийстве. Буквально только что, в перерыве. Своей ли, дескать, смертью умер Астахов.
– Меня тоже спрашивали. Тогда еще… Вы думаете, – понянчил на ладони папочку, – я случайно храню? Как-нибудь почитайте на досуге. Это ведь знаете что? Апологетика тотального отрицания.
– Сомнения, – ласково поправил доктор диалектики. – Тотального сомнения… Что, как вы помните, является краеугольным камнем античного скептицизма. Об этом еще Пиррон говорил. Хотя от самого Пиррона, увы, не осталось ни строчки.
– Как от Сократа.
Браво! Ну чем не профессор? Чем не интеллектуал и эрудит? Зря Борода катил на него бочку, зря… Посланник лишь заметил, поглаживая усики, что имело место еще одно сходство: оба в молодости баловались кистью. Да и вообще, не без грусти молвил ученик бабушки Рафаэль, философы – это несостоявшиеся художники… И музыканты, мог бы добавить скрипач, но другое занимало сейчас проректора по надзору. Ладно, согласился великодушно, пусть не отрицание, пусть сомнение, но есть, есть же вещи, которые под сомнение ставить грех.
– Хорошо, я догматик, я не в претензии. Но, по Астахову, догматиками выходили знаете кто?
– Знаю. Все, кто не принадлежал к скептической школе. Только это не Астахов, это опять-таки Пиррон.
– Пиррону простили б, Астахову нет. Представляете, чем все это могло закончиться для него – в то-то время! Я ведь добра ему желал. Напишите, говорю, новый реферат, и мы примем вас с распростертыми объятиями. А это упрячем – для вашей же безопасности. Не волнуйтесь, говорю, не пропадет – люди прочтут.
– Письмо потомкам.
Легкая тень прошла в бойницах глаз.
– Не понял.
– П-письмо потомкам. В капсулах замуровывают, знаете? Дабы в будущем вскрыли и прочли с гордым выражением. Капсула безопасности!
Пропонад не отреагировал: круговую оборону держал от разных двусмысленных шуточек… Открыв сейф, сунул папку на место, но закрыть не успел. Зазвонил телефон, и на миг он утратил бдительность. Этого достало, чтобы таинственный пленник вырвался на волю. Им оказался небольшой разрисованный под глобус мяч. Тут же схваченный под неистовствующие, как сирена, телефонные звонки был водворен обратно в камеру.
– У внука день рождения в пятницу…
Подымается, руку жмет, обещая – непременнейшим образом! – передать поклон вдове Астахова. (Слышала б Стрекозка! О другой вдове, Рыбака, помалкивает…) Выходит, но, спохватившись, возвращается, чтобы спросить, не ночует ли, часом, кто-нибудь из студентов в стенах учебного заведения. Пропонад не сразу понимает, о чем речь, а поняв, отрезает: «Исключено!» – и Посланник с легким сердцем мчит дальше – вперед, по прямой, только по прямой, с легким сердцем и легкой памятью, которую не обременяют картины минувшего, я же в своей грушецветной капсуле – капсуле безопасности! – отяжеленно плыву по вечному кругу. К Сундучку приближаюсь – опять к Сундучку! – которого давно уже нет, но человек в пальто сидит, потирает руки в перчатках с отрезанными пальцами – единственное, что нажил в своем статистическом управлении, откуда его попросили за излишнюю, надо полагать, педантичность. «Зябнешь?» – спрашивает закаленный купаниями и банькой жизнерадостный гость. Хозяин, не отвечая, смотрит со смиренной улыбкой – будто не узнает. Будто надеется, что это не Посланник – другой кто-то. Вот-вот, другой, которого он терпеливо ждет у шипящей сырыми дровами нежаркой печечки и который, войдя, скажет другие слова… Но ничего, он и этим рад. Всему рад. Всему и всем… «Константин Евгеньевич?» – показывает улыбчивыми глазами на сброшенную украдкой щегольскую курточку, и гость понимает: Дизайнера встретили б здесь столь же миролюбиво. Что ж, в конце концов не замшевый фельдмаршал увел жену, другой мужчина, повыше ростом, пошире кистью и с фамилией Столбов, – какая женщина устоит против такой фамилии! Однако и со Столбовым, уверяла Стрекозка, у бывшего мужа великолепные отношения.
Именно это слово – великолепные – употребила, шурша крылышками, любвеобильная женщина, оттенив им ужасный, прямо-таки покойницкий вид обитателя развалюхи. «Он убьет себя. С его почками… С его легкими… Почему он не хочет жить с нами?» – «В качестве кого? – позволил себе осведомиться тот, кого хозяин Сундучка привел некогда свидетелем в загс. – В качестве третьего лишнего?» – «Почему лишнего? Вовсе не лишнего… Столбов к нему хорошо относится». – «А он к Столбову?» – «И он тоже. Астахов со всеми ладит, ты ведь знаешь. Ты должен поехать туда и…» – «И?»
Тут у Стрекозки, задрожав, опали крылышки. Из глаза слезинка выкатилась – удивительно светлая, удивительно чистая, просочившаяся – не понять как – сквозь залежи краски. «Я не переживу, если с ним случится что…»
Бедный Посланник! Как всякий настоящий мужчина, он не переносил женских слез. Хорошо, пообещал, хорошо, собрался быстренько (за два, что ли, дня) и прикатил в Сундучок. Койку в общежитии предложил и ассистентскую должность – в родной Колыбели. «Для начала… А там возьмешь тему и будешь корпеть потихоньку над диссертацией. Пропонад не возражает». «Тема у меня есть», – напомнил Три-a. «Это скептик-то твой? Скептика придется здесь оставить. Пусть сидит, как Диоген в бочке. А что? Бочка и сундучок, почти родственники… А по выходным будешь навещать его. Украдкой… Как любовницу. Это слаще даже».
Так резвился непрошеный спасатель под сырое прерывистое шипение печи, так прыгал и кувыркался, развлекая знатока античного скептицизма, а тот слушал с рентгеновской улыбочкой, слушал и вдруг: «Я забыл… Сколько лет тебе?»
Посланник растерялся. Растерялся и даже подумал – не обидеться ли? – но это он зря: возраст человека определить ох как непросто. Не тот, какой записан в метрике, другой, заветный, что уготован каждому еще во чреве матери. К нему-то безотчетно и стремится человек, без смака и полноты самоощущения отбывая, как утомительную повинность, иные возрасты. Хочешь не хочешь, а надо пройти через них, как через некие промежуточные станции, чтобы попасть на станцию своего назначения. (Моя станция именуется Грушевый Цвет.)
У Посланника нет таковой. Вперед, вечный юноша, только вперед – по прямой, которая исподволь, незаметненько так закругляется: когда-то ему, бездомному, предложили раскладушку в тереме с жестяной трубой, потом он попытался облагодетельствовать местом в общежитии… «Спасибо, – с улыбочкой поблагодарил Три-а. – Мне и здесь хорошо».
Это, выходит, и была его станция.
Вдова Рыбака тоже прибыла на свою – в тот самый день, когда мужа похоронила. «Вот и все, – молвила, оглядывая опустевший дом! – Приехала Маруся». Не жалуясь, не причитая, а как бы даже с удовлетворением. Припозднившийся гость, что помогал растаскивать сложенный из нескольких длинный поминальный стол, сделал вид, будто пропустил мимо ушей обращенные в никуда слова, а она глянула сухими – хоть бы слезинка за весь день! – глазами и поняла: не пропустил, слышал. «Не обращайте внимания. Это я так, сдуру… Монголов говорил, бывало: глупая ты у меня баба, Маруся!» Посланник молчал. Не разубеждал, не успокаивал, не клялся, как другие, навещать, но раз в месяц прикатывал непременно, чему она, с трудом держа на ногах стокилограммовое тело, всякий раз искренне удивлялась. «Господи! Все уже позабыли давно, что живет на свете такое чудище…»
Сегодня – нет, не удивилась.
– Нахальство, конечно, но я ждала вас.
– С яблочками? – И выложил на стол небольшой, но аккуратный пакетик.
Склонив тяжелую голову, старуха любовалась гостинцем.
– Монголов говорил, у вас замечательный сад. Какие-то яблоки необыкновенные, сливы… И всюду почему-то часы. Правда, что ли?
– Ну уж не всюду, положим. На деревьях-то не висят. Хотя когда бьют – слышно, воробьи вздрагивают.
– Вот-вот! Всю рыбу, жаловался, распугали.
Веселым человеком был покойник и ученикам завещал:
не мудрствуйте лукаво! Не философствуйте… Да-с, не философствуйте! Профессионалы, наставлял, разматывая удочку, и стремящийся в доктора благоговейно внимал учителю, – профессионалы не занимаются служебными делами во внеурочное время.
– Вы прекрасно выглядите, профессор! Уж не именины ли у вас?
– Не у меня, – признается жизнелюб, скрестив на груди руки. – Сегодня пятьдесят лет Толе Астахову.
По заплывшему жирам бледному лицу проходит тень.
– Монголов очень расстроился тогда… Говорил, его можно было спасти.
С грустной улыбкой разводит Посланник руками.
– Ну как спасти… Врачи сделали все возможное.
Старуха грузно опустилась на стул. Могучий бюст поднялся, опал, снова поднялся. Волосики на розовой большой голове – седые, редкие, зато брови – черные, как у молодой, и, как у молодой, звонкий голос.









































