Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
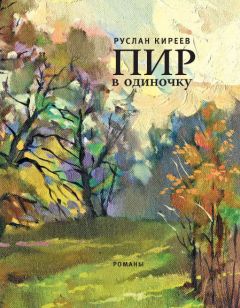
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Мы сейчас, – бросает Ленинградка и подымается, а следом – Пригородная Девушка. Между столиками лавируют – одна маленькая, под стать Дизайнеру с его мизинцем, в кожаных, туго обтягивающих зад брючках, другая… Посланник проворно надел очки. Другая – в свободного покроя юбке, которая ничего вроде бы не подчеркивает, но глаз с упоением угадывает под мягкой кремовой тканью гибкие линии. За дверью исчезают, и тут очнувшийся профессор замечает устремленный на него вдохновенно-проницательный взгляд. Смущенно очки стягивает.
– Да-с, – произносит со смешком. – Да-с… – И дергает себя легонько за ус. – Скажи, п-пожалуйста, землячок, а где остановились наши очаровательные дамы?
В ореховых, под цвет курточки, глазах вспыхивает недоумение.
– В каком смысле?
– В прямом, землячок. В прямом… Где ночевать будут?
Вверх лезут замшевые брови – вот уж не ждал подобного вопроса.
– Ты серьезно?
– Такими вещами, – улыбается атташе, – разве шутят?
Дизайнер, отставив мизинец с ноготком, берет рюмку, пригубливает.
Коньяк цветом тоже под стать курточке – колорист, редкий колорист!
– Моя, само собой, в Трюме. – И благоговейно ставит рюмку. – Супруга предупреждена, что у тебя ночую. – Примерный муж! – Надеюсь, ты подбросишь нас в Трюм?
– А моя?
Гримаска простодушной озадаченности трогает конвоируемое серебристыми гвардейцами лицо.
– Не знаю… В Грушевом Цвету, надо полагать. Ты ведь тишину любишь. Покой… Она, по-моему, тоже.
Больше всех тишину и покой люблю я, и до сих пор мой шаркун считался с этим. Баб, во всяком случае, не возил. Не осквернял Дома.
Хотя что ему Дом! Ночлежка… Временная, на несколько часов, крыша над головой, которая лишь бы не протекала.
Не протекает – следить, слава богу, есть кому. И за крышей, и за полом (узнаю по скрипу каждую половицу), и за фундаментом, который еще дышит по-летнему вольно, но заглушки уже лежат, просмоленные и скоро под ударами деревянного молотка войдут в вентиляционные гнезда. Что знает обо всем этом беспечный квартирант? О тех же замках, на которые запирает меня, уезжая? О дверях? (Наружную покрасить надо.) Об окнах, для беглого его взгляда неотличимых одно от другого, а у каждого между тем свой характер? О рассохшейся лестнице, что ведет на чердак, и о набухших от влаги крутых скользких ступенях в погреб?
Об этих знает, впрочем, потому что время от времени лазит за яблочками. Осторожно на кирпичики ступает, которые, пожалуй, можно убрать, ибо уже третью весну воды нет, вся в скважину уходит. Что о скважине знает! На пару с глухонемым бурили, хотя я не просил о помощи – сам пришел, в сапогах и рабочих рукавицах. Давай, показывает, вместе. Что ж, отвечаю, давай – тоже без единого слова.
Вот так и с Домом общаемся. Для квартиранта он – неодушевленная коробка, а я слышу, как зябко потрескивают в мороз перекрытия, как задыхается бедняга в жаркие дни (настежь окна распахиваю), как, трогательно-громоздкий, неуклюже прячется в дождь под черепичный зонтик, а если ветер – сильный ветер, шквальный, – вцепляется изо всех сил в фундамент. Все привычки его ведомы мне, все капризы и слабости. (А он, в свою очередь, все про меня знает, единственный на свете.) Все недуги – от каждого в мастерской припасено лекарство… Но Посланник не вечен, и что будет с Домом, когда его, официального владельца, не станет? Дочери в тягость дачные хлопоты – продаст, и сюда с грохотом въедут чужие люди. Чьи-то старческие шаги будут им слышаться по ночам – это мои шаги. Чьи-то старческие вздохи – мои вздохи… Навеки срослись мы – еще один пример всеобщей теории симбиоза, до которой у нашего летуна так и не дойдут руки.
Понятия не имеет, что такое Дом – Дом, а не времянка какая-нибудь, не сундучок, не деканат с диваном, не трюм… «Трюм?» – садясь в машину, переспрашивает заинтригованная Ленинградка, а Пригородная Девушка – та секунду мешкает, и наблюдательный Посланник с удовлетворением отмечает этот миг колебания… Да, понятия не имеет, хотя когда новые хозяева, встревоженные ночными звуками, станут доискиваться, кому раньше принадлежало сие угрюмое строение, то услышат: профессору, человеку демократичному и контактному, современному, легкому – без всяких, словом, профессорских комплексов. «Странно, – пожмут плечами новые хозяева. – Откуда же домовой тогда?» – и я тихонько улыбнусь, невидимый. Никто не знает, откуда берутся домовые, – никто, а вот я, если отыщется слушатель, мог бы на этот счет кое-что поведать.
– И все-таки, – упорствует Лениградка, – почему Трюм?
Дизайнер, в ожидании, пока соратник подготовит автомобиль для одинокого и опасного стояния в безлюдном переулке, загадочно улыбается при свете невысокого фонаря. «Сейчас увидишь», – обещает эта шкиперская улыбка.
Пройдя немного, сворачивают под арку. Что-то темнеет сбоку, похожее на замерших чудовищ, – Лениградка ойкает, а мягкий, округлый локоток Пригородной Девушки слегка напрягается в крепкой руке Посланника. Он уже имел честь бывать тут и знает, что никакие не чудовища это, а бачки для мусора. Но секрета не раскрывает: ему, как и Дизайнеру, по душе эффекты.
За аркой притаился тускло освещенный редкими окошками глубокий двор. Здесь теплее, чем на улице: то ли не выветрились дневные запасы солнца (утро, сулившее праздник бабьего лета, сдержало обещание), то ли кухонные хлопоты – борщом пахнет! – разогрели воздух. У небольшой дверцы останавливается маэстро, ключами звякает, отпирает один замок, другой («Третьего нет случайно?» – вертится на игривом язычке многоопытного тюремщика), со скрипом распахивает дверцу. А там – тьма-тьмущая, как в подвале у меня, но хозяин смело вперед шагает, щелкает выключателем, и гости убеждаются, что это и впрямь подвал. О чем с изумлением и сообщает Ленинградка, таращась на цементные, круто сбегающие вниз ступени.
– Не подвал, – обижается шкипер. – Трюм… Я заявляю это ответственно, как бывший моряк. Вот он, – на Посланника кивает, – в авиации служил, посему волю любит и воздух (увидите, – обещает Пригородной Девушке, – какая у него дача!), а я – человек корабельный. Прошу! – И – вниз, матросской походочкой, не фельдмаршал замшевый – замшевый адмирал.
– Трюм так трюм, – говорит Ленинградка и отважно спускается, стуча каблуками, а локоток в ладони Посланника не шевелится, ждет, согласный на все. Трюм так трюм… Дача так дача…
Внизу еще одна дверь и тоже о двух замках. (Третий отсутствует, уж на сей раз точно.) За ней – тьма опять-таки тьмущая, но – щелчок, и по потолку с треском разбегаются огненные сверчки. Вспыхивает свет, который не знаю уж почему именуется дневным. (Я его терпеть не могу; в Доме нет ни одной люминесцентной лампы.) Ленинградка зажмуривается.
– Зачем такой яркий?
– Не везде, – вполголоса успокаивает хозяин. – Есть потемнее уголки.
– Ты работаешь здесь?
– Представь себе! Хоть я и дерьмовый художник, но все-таки художник, а художнику полагается мастерская. Чем дерьмовей художник, тем больше мастерская. Прошу!
Опасности нет больше, и заботливая мужская рука выпускает локоток на волю. Но птичка не спешит упорхнуть, еще миг или два висит в воздухе.
Судя по размерам мастерской, владелец – художник дерьмовости средней. За небольшой, заставленной ящиками прихожей – единственная комната, перегороженная на манер китайских тетушек шкафчиками и стеллажами. Дневного света здесь, к удовольствию Ленинградки, нет – обыкновенное бра с двумя рожками, лампочка же всего одна, и когда хозяин прикрывает дверь, то после буйствующего в прихожей полдня наступают сумерки.
– Располагайтесь, господа!
На высокий, с красной обивкой стул указует перламутровый ноготь.
– Все трое? – поглаживая усики, вопрошает профессор.
Ленинградка смеется – женщина ценит юмор! – но смех ее, такой звонкий наверху, вязнет в щелях и нишах. Ценит юморок и подруга, но ограничивается тем, что одаривает шутника взглядом. (Посланник принимает подарок.)
Проявляя хороший тон, гости на антикварный стул не садятся – кто на тахте устраивается, кто на табуретке, и удовлетворенный хозяин отправляется варить кофе.
– Надеюсь, – доносится из-за стеллажей, – не откажетесь от чашечки перед дорогой?
Вопрос риторический и, на взгляд доктора, не слишком вежливый, но – человек возбужден, и доктор прощает возбужденного человека.
– Вот так, – замечает, поводя взглядом, – и живет творец.
– Ну, положим, он не здесь живет…
Все-то знает питерская бабенка!
– Здесь его душа живет, – уточняет – астральным тоном! – специалист по материализму. (Диалектическому.) Но в подробности не вдается. Не любит, добрый малый, разоблачать кого бы то ни было. Это, считает, все равно, что срывать с человека одежду.
А я люблю, грешный. Люблю смотреть на голенькие души, тощие и жалкие, белые от малокровия – как загогулины проросшей в подвале у меня картошки.
Пригородная Девушка в светской беседе не участвует, в раздумье погружена. И вдруг подымает голову.
– Что это?
На заваленную коробочками и склянками этажерку устремлен напряженный взгляд.
– Это? – переспрашивает Посланник. – Насколько могу судить, это художественный беспорядок.
– Там ходит кто-то…
– Где? – мгновенно – и уже без всякой светскости – реагирует другая женщина. В отличие от напарницы ей здесь быть до утра, а в подвалах, знает она, водится, кроме душ, кое-что еще.
– Там! За этажеркой…
– По-видимому, хозяин, – высказывает предположение доктор диалектики.
– Хозяин – здесь! – кивает Ленинградка на стеллажи.
– Наш хозяин, девочки, вездесущ. – И, втянув носом воздух, прибавляет: – Не знаю, что там слышите вы, а я лично слышу запах кофе. И, по-моему, отменного.
В чем-чем, а уж в этом знает толк. К тому же у него, как у всех гурманов, тонкий нюх – тонкий настолько, что, кроме аромата божественного напитка, живого и горячего, улавливает вдруг иной запах, неживой, холодный, с чуть сладковатым привкусом.
– Надеюсь, здесь нет крыс! – говорит та, кому выпала честь провести ночь в этих творческих стенах.
– Если и были, то, сдается мне, их уже давно потравили.
– Вы все шутите!
Профессор, закатив глаза, разводит руками. И опять смутно различает сквозь кофейный аромат запашок начинающегося распада. Уж не сдохла ли, думает, и впрямь какая-нибудь подземная зверюга?
Может, и сдохла, только будто сами творческие стены не источают смердящего душка! Будто, запечатлевая миг, даже наипрекраснейший, творцы не останавливают время и тем не умерщвляют его, уподобляясь Шестому Целителю! Будто имитация гармонии – на холсте ли, на сцене – не требует в качестве предварительного условия ее, гармонии, разрушения! Будто, воссоздавая стоящий на учительском столе кувшин, не разымают его на горлышко, на культи отколотой ручки, на солнечный, как бы срезающий фиолетовую выпуклость блик! Будто не существует грозного закона, согласно которому всякая искусная рука – рука до беспощадности холодная, и чем искусней, тем беспощадней! Будто, живописуя муки Господни, флорентийский кудесник не распял натурщика – пусть в воображении своем, сути-то дела это не меняет! Будто, с головой уходя в мизансцены и динамику театрального действа, не перестают замечать собственного отца! (Посланник не обижался. Смиренно скрестив на груди руки, просил образовать дилетанта.)
Посланник не обижался: Посланник ведь тоже освоил величайшее из искусств – искусство отступления. Главное тут – правильно выбрать плацдарм, и он такой плацдарм выбрал. Выбрал, а после долго укреплял и расширял, мобилизовав всех проректоров по надзору, в то время как затворник строил в уединении Дом. Не дачу – дача жилище временное – Дом, Три-a понял это сразу, а замшевый фельдмаршал не допрет никогда. «Увидите, – сулит, – какая у него дача!» Все напрягается в узнике – еще бы! – а тюремщик хоть бы хны, точно не слышит, и, когда женщина, переведя дух – выбрались наконец из страшного подвала! – доверительно осведомляется в машине: «Куда мы теперь?» – отвечает не сразу. Зажигает плафон, поворачивается и некоторое время смотрит на бледную спутницу, улыбаясь. Потом говорит – тихо и тоже доверительно: «Не знаю».
Правду говорит – Посланник всегда говорит правду, что ни в коем случае не расшатывает плацдарм – укрепляет.
– А в Трюме-то, вижу, вам не шибко понравилось?
Да, бледна, только глаза темнеют и темнеет рот – рот особенно.
– Мне кажется, там у него кто-то живет.
– За подругу беспокоитесь? Что крысы слопают?
– Не крысы… Там не крысы живут. Человек… Я слышала шаги.
– Ну, хозяину-то надо передвигаться! Тем паче когда кофе варишь. Кофе был замечательный, не правда ли?
– Это не он ходил. Шаркающие такие шаги… Как у старика.
Кавалер медленно поворачивает ключ, и двигатель оживает.
– Вот у меня, – признается тихо, – живет старик.
– Где?
– На даче, которую так расхваливал наш общий друг.
Однако! Ни одной живой душе не говорил до сих пор о моем существовании.
– Сторож? – догадывается Пригородная Девушка.
– Можно сказать, что сторож. И весьма бдительный. За каждым моим шагом следит. Угрюмый такой анахорет, мрачный, ни с кем не якшается, окромя глухонемой одной парочки. По соседству обитает.
– Это которые котов лепят?
– Вот-вот! А после толкают на станции по трешке штука. С ними он находит общий язык.
– Может, у него тоже со слухом?..
– Что вы, слух у него отменный. В пруду карась плещется, а старик слышит. Хотя пруд знаете где!
От краснобая моего еще дальше, но улавливает вдруг слабое хлопанье – будто лопнул пузырь на воде. Взывая к вниманию, подымает палец. Сидят, замерев, одни в каменном ущелье, потом наклоняется – от женщины яблоками пахнет (или это машина пропиталась насквозь вениковским духом?) – и сообщает конфиденциально:
– Думаю, он слышит даже нас с вами.
Полуприкрытые веки, дрогнув, еще немного опускаются, но лица не отстраняет.
– Пусть слышит… Мы ведь не говорим ничего такого.
– Неважно! Вы представить себе не можете, что это за кошмарный тип. Брюзга, зануда, а уж злопамятен! Ни единого прегрешения моего не забывает. Чудовищный старик!
Разговорился парень… На здоровье! Чем страшнее домовой, тем меньше, полагаю я, шансов, что пожалуют на ночь глядя гости. Или потому и разговорился?
– Все для него лицемеры, все приспособленцы, все конформисты…
– И вы тоже?
– Я?! Я в первую очередь. Этакий монстр, который только и знает, что о карьере печется.
Тут уж Пригородная Девушка отстранилась. Но не потому, что монстра испугалась, нет – Пригородная Девушка не из пугливых, – а чтобы лучше разглядеть.
– На монстра, – заключила, – вы не похожи.
– Благодарю! Только монстры-то сейчас знаете какие? Вот нынче как раз в профессора одного производили. Хищник из семейства пропонадов – не слыхивали о таком? А на вид – респектабельный вполне господин, на скрипке играет.
– На скрипке? – оживилась Пригородная Девушка.
– В дуэте с флейтистом. Не заметили у «Скоморохов»?
– А старик ваш? Он тоже играет?
– Старик-то? Упаси бог! Он к музыке равнодушен, как и я. Зато дочь у меня меломанка. И внука натаскивает.
Тут я опять забеспокоился. Неспроста – ох, неспроста! – о внуке брякнул. Загадка (для меня!), но молодых женщин статус деда ничуть не отпугивает. Наоборот…
Седовласый фавн мой, разумеется, знает это. В иных вещах он разбирается превосходно…
Две фигуры, мужская и женская, замаячили в ущелье, а внизу между ними белое что-то, большое, грузно покачивается. К фонарю приблизились, и примолкшая автомобильная парочка узнала в белом предмете авоську с капустой. Супружеская чета, к зиме готовится… Даже не взглянув на машину, протащилась мимо.
Тюремщик продолжал набрасывать портрет арестанта:
– Сад, огород – вот его вотчина. Какие яблочки выращивает! А виноград! Слыхали когда-нибудь о винограде под Москвой? А опаловая сирень! А орехи! Разумеется, в охоточку все, для собственного удовольствия. Есть настроеньице – покопается в земле, нет – закатом любуется. Он у меня созерцатель. Или слушает голоса. Знаете, – шепчет, – что за голоса-то?
– Би-би-си?
– Господь с вами, какое Би-би-си! Эпикур… Сократ… Китаец Ян Чжу – я, например, не слыхивал о таком. А он: здравствуйте, господин Ян Чжу! Как там поживаете в своей древности? Здоров ли сиятельный мандарин? Что ж, коли не крутишься весь день, как белка в колесе, можно и с Ян Чжу побеседовать.
Можно и побеседовать… Я ведь не претендую на его радости. Не волочусь за женщинами. Не смакую ананасовые компотики. Каждому свое!
– Каждому свое! Верчусь, – откровенничает, – приспосабливаюсь – конформист, чего уж там! Зато он – комфортист. От слова – комфорт… А что! В полное свое удовольствие живет. Посматривает в биноклик на нашу суету и этак брезгливо фыркает. Тьфу, мол. Тьфу! Где заканчивается уединение, там, дескать, начинается базар. А где базар, там комедианты. Подождите, мне еще влетит за «Скоморохов». Старик не любит!
– Мне скоморохи тоже не понравились. И этот подвал ужасный… Но нельзя же, – вырвалось у бедняжки, – одной все время! Одной и одной…
– Один и один – со временем два выходит.
Не всегда… Случается и наоборот – как с китайскими тетушками, что всю жизнь воевали на смерть, а когда эта самая смерть пришла, когда одна покинула поле боя, другая сникла сразу, угасла и году не минуло – утопала следом.
Племянник не успел на похороны: под городом Читой был, строил с сокурсниками коровник. Вернувшись, снес цветы на кладбище, где примирившиеся сестры лежали рядышком, недалеко от третьей сестры, сына которого они как могли вырастили. Он постоял на их могиле, постоял на могиле матери, а после, уже в доме (бывшем своем доме), постоял возле изъеденного древесным жучком китайского буфета. Дыра в задней стенке была заделана картонкой, символом теперь уже вечного мира.
– А знаете, мне нравится ваш старик…
– Старик потрясающий! – ожил Посланник. – Грандиозный старик! Я не об эрудиции, эрудиция – чепуха, я о внутренней свободе. Уезжая утречком, я ведь запираю его, на два замка, а он свободен. Что хочет, то и делает. О чем желает, о том и говорит.
– С кем? – усмехается Пригородная Девушка. – С глухонемыми?
А двигатель все работает, а время идет (скоро Совершенномудрый подаст в очередной раз голос), а капустная чета с затекшими от тяжести руками движется молча среди каменных громадин, пока не сворачивает в арку. Не ту, где Дизайнер развлекается, другую, но и в этой другой тоже темнеют мусорные бачки и тянет из форточки борщом на шкварках.
– Я знаю, кто этот старик, – тихо говорит сидящая в машине женщина. – Отец ваш.
Ошеломленный Посланник долго смотрит на нее, потом, не проронив ни звука, выжимает сцепление.
Вокруг сруба, над которым много лет назад воспарил мальчуган, лежал асфальт. Приехавший заглянул в колодец – вода тускло отсвечивала, живая, – потом выпрямился и, не отнимая рук от нагретого солнцем дерева, долго окрест смотрел. Колокольни не было, не было навеса, и ржавого разрисованного мелом прицепа не было тоже. Зато магазин уцелел. Уцелело крыльцо с широкими ступенями – в них все так же поблескивало солнце. Приехавший медленно поднялся по ним. В нос ударил запах галош и сладостей, хлеба и керосина. Бабы у прилавка лузгали семечки. Повернувшись, на незнакомца смотрели, и незнакомец приветливо улыбнулся. «Ну, – сказал, потирая руки, – чем тут у вас разжиться можно?» Ни к кому не обращался конкретно, и никто не ответил ему. Да и что отвечать! Приблизившись, стал изучать витрину. Пряники с облупившейся глазурью, пшено, пласт мармелада, которым лакомилась пчела (на пчеле взгляд незнакомца задержался), а рядом – приезжий даже глазам не поверил – а рядом маслины. Настоящие маслины, крупные, черные, он забыл, когда последний раз видел их в магазине. «Деликатесом торгуете?» И опять никто не ответил ему; стояли, смотрели, грызли семечки, и это-то – что грызли семечки (он отчетливо слышал сухое потрескиванье) – доказывало реальность происходящего… Вот и Посланник заскучал сейчас по таким доказательствам, ибо ему почудилось вдруг, что и безмолвные фигуры с капустой, и чужая женщина рядом – все это бестелесные тени с того света… Или, может, это и есть тот свет, а другого никакого нету?.. Очнулся, торопливо очки надел, укорил себя за рассеянность. Мало ему утреннего инцидента с гаишником! «Застегните ремень». Пригородная Девушка завозилась, заерзала, но справиться не могла, и он протянул руку, чтобы помочь.
Улицы опустели и словно раздвинулись, как это всегда бывает к ночи, но бывший летчик не прибавил скорости. Куда торопиться? Именно так: куда? В сторону Колыбели направлялся – Колыбель была центром, точкой притяжения, вокруг которой вращался изо дня в день, из года в год, и вот теперь умная машина везла сюда сама – подобно лошади, что почуяла свободу под забывшимся всадником. Или не автомобилю вверил себя, а тому, кто зорко следит за ним издали? Точно я и впрямь отец ему, и он, апостол, творит волю Пославшего…
Колыбель спала, погруженная во тьму, лишь на первом этаже светилось два окошка. Деканат? Профессор мазнул взглядом, прикидывая. Кабинет ректора, кабинет Пропонада, кабинет второго проректора, кафедра иностранных языков (не забыть яблоки), новая кафедра… Да, свет горел в деканате. Посланник заволновался. «Он своей смертью умер?» – вспомнились слова Русалочки. Конечно, своей (возобновил доктор диалектики прерванный диалог), чьей же еще, хотя ваш любимый философ, дорогая, и называет самоубийц серьезными пессимистами. В отличие от несерьезных, фальшивых, которые плачутся, дескать, но живут…
Три-a не плакался. И пессимистом себя не считал. «Вот ты утверждаешь, что все вокруг ложь, а я в этом сомневаюсь. И в этом тоже! Значит, я оптимистичней тебя…»
– Почему мы стоим? – осторожно осведомилась Пригородная Девушка.
Профессор встрепенулся.
– Разве стоим? И правда! – Двинул рычажок, педаль нажал, и машина тронулась. – Это альма-матер моя. Колыбель… Я ее Колыбелью зову. Хотя давно уже сам нянькой стал… У вас есть дети?
– У меня?!
– Нет, – понял он. – Но ничего, будут.
– Вы уверены?
Выехали на набережную. У причала темнела на фоне подсвеченной воды длинная баржа, совсем мертвая, только на высокой мачте, почти невидимой, горел неярко красный фонарь.
– Сегодня исполнилось пятьдесят лет моему другу. Тоже отсюда, – кивнул на оставшуюся сзади Колыбель. – Вместе баюкались… – И поправился: – Не исполнилось. Исполнилось бы…
Пассажирка повернула голову. Не спрашивала, однако – ждала.
– Так вот, покойный друг учил меня, что ни в чем никогда нельзя быть уверенным. Даже в том, что ты ни в чем не уверен.
– Но так, наверное, трудно жить.
– А вам легко?
Пригородная Девушка уклонилась от ответа.
– Отчего он умер?
– Оттого, – сказал Посланник, – что не сумел спрятать себя.
– Спрятать?
– Ну да, спрятать. Вы ведь прячете себя.
Дорога была пуста, и он несколько мгновений пытливо смотрел на свою спутницу.
– Мне не от кого прятаться.
– Я не сказал: прятаться. Я сказал: прятать… От кого, спрашиваете. Да хоть от меня! Сидите в пригородном своем домике, слушаете музыку… Вы же, знаю я, любите музыку.
– Откуда знаете?
– А я п-проницательный! – И снова глянул на нее, но уже не пытливо, а весело. – Такая уютная комнатка с абажуром, цветы стоят – только не георгины, вы не жалуете георгины, – и мечтаете о добром, умном друге, который будет понимать вас с полуслова. Родится очаровательная девочка… Нет, мальчик! Девочка и мальчик, и вы поедете вчетвером на Черное море. Вода в море будет теплой, фрукты на рынке – дешевые, а солнце в небе не очень жарким. Как нынче… Так сидите вы сейчас в своем гнездышке и грезите, а ваша посланница тем временем раскатывает по ночной Москве с молодящимся старичком и гадает, где ей, интересно, придется ночевать сегодня.
– Мне есть где ночевать!
– Вот как? Где же это, если не секрет? Авось, и мне там отыщется местечко. – И поправил зеркальце, чтобы видеть лицо, которое ненадолго выхватывали из мрака отлетающие фонари.
– Мы уже были здесь! – воскликнула Пригородная Девушка.
Автомобилиста умилила ее горячность.
– К сожалению, – признался он, – я никогда не езжу по кругу.
– Но этот пароход! Я узнала его. С красным фонариком!
– Это не пароход, барышня. Это баржа. Только другая…
(Как другой – совсем другой! – была деревня Вениково, куда после долгих странствий пожаловал воспитанник китайских тетушек. В магазин вошел, чтобы разузнать, где здесь кладбище, а вместо этого купил зачем-то маслины. Продавщица поискала, во что бы завернуть, и, вспугнув пчелу, – о пасечник Сотов! – щедро оторвала тонкую вощеную бумагу, которой был переложен мармелад.)
– Я хочу вас спросить, – сказал Посланник и, поколебавшись – куда дальше? – свернул на мост. – С чего вы взяли, что тот старик – мой отец?
Металлические опоры мелькали с обеих сторон, как прутья клетки, но что ему, вольному человеку, клетка! Внутри любой сохранял легкость дыхания, поскольку давно открыл, не без моей помощи, золотую пружинку, нажав которую, обретаешь свободу.
– Вы так говорили о нем…
– Так плохо? Или так хорошо?
– Хорошо. Очень хорошо… – И на часы взглянула.
Делать нечего, пришлось возвращаться к прежней теме.
– Вы не ответили, где ночевать собрались. Надеюсь, не на вокзале?
Гордячка вскинула голову – шейка была, как у той тропической бурильщицы в Симбиозе, – и не проронила ни звука. На вокзале, понял он. На вокзале… Между оранжевым лотком «Все в дорогу» и камерой хранения, куда сунула до утра свой немудреный багаж, а сама, зажмурившись, бросилась в столичную круговерть. Вот только, мечтала, не Посланником одарила б судьба, посланников и в Ленинграде хватает, – Пославшим. «Ишь, чего захотела! – подумал веселый тюремщик. – Эти, дурочка, под замком сидят». И вдруг, перегнувшись, чмокнул мечтательницу в щеку.
Пригородная Девушка не отстранилась, не ойкнула – смотрела перед собой, окаменев, и он испугался, что сейчас у нее покатятся слезы. Профессор сбросил газ, быстро по сторонам глянул и, развернувшись, помчал в обратную сторону.
Мертвых на вениковской земле оказалось едва ли не больше живых. В растерянности оглядывал приезжий длинные правильные ряды стандартных памятников. К некоторым жались деревца, но было их тут немного и – ни одного по-настоящему большого. А он-то рисовал себе утопающий в зелени сельский погост, маленький и уютный!
Кое-где возились женщины, но он не стал спрашивать, брел наугад, высматривая даты захоронения. Десять лет тому, двадцать, тридцать… А Шестой Целитель утверждает, что времени нет! Как же нет, вот оно, только не вглубь уходит – не вглубь и не ввысь, – а распластывается, растекается по поверхности.
Встречались среди старых и свежие могилы – сначала редко, но чем древней участок, тем чаще на месте заброшенных, затерянных, распрямившихся холмиков вырывали новые ямы и новые насыпали холмы.
С кулечком маслин вместо цветов подбирался паломник к своему году, который спутать не мог, потому что это был тот самый год, когда явился впервые к бабушке Рафаэль. И еще помнил, что была осень, тетушки варенье варили, кизиловое, каждая на своем примусе, в медных тазах, над которыми висели пчелы. Тут-то и принесли телеграмму. Почтальонша сунула ее, не дожидаясь, пока распишутся, не надо, сказала, и поспешила прочь, точно боялась, как бы обратно не отдали. Всполошившиеся сестрички бросились читать, но не вслух, про себя, сперва одна, потом другая, а он старался угадать по их лицам, что там они вычитывают. Сперва казалось – нехорошее что-то, потому что обе нахмурились, но уже скоро оживленно шептались, что было верным симптомом перемирия. Оно и прежде наступало, стоило замаячить под окном темной фигуре, мгновенно сплачивающей их против общего врага. Но тогда перемирие носило характер оборонительный, напряженный, а сейчас тетушки расслабились, подобрели и устроили на радостях дегустацию. Наперебой потчевали друг друга пенками, племяннику же, который отныне принадлежал только им – им безраздельно! – наложили два блюдца пурпурного, не остывшего еще варенья, чего обычно не делалось: тоже пенками довольствовался. О том, чтобы поехать на похороны, не было и речи: мыслимо ли травмировать ребенка! Так, рассудил впоследствии запертый на два замка геометр, начался круг, который замкнется спустя годы, когда паломник с кулечком будет красться, точно вор, к своему году и вдруг обнаружит, что минул его. Минул! Другие пошли года, более давние. Назад вернулся и начал снова, не пропуская ни одной могилы. Напрасно все… Были захоронения раньше, были захоронения позже, а тот год и два других отсутствовали. Дыра зияла, черная дыра, куда со свистом втянуло не только кусок времени, но и его самого, словно бы воспарившего в пустоту, как воспарил когда-то мальчонка над колодезным срубом, а мама внизу осталась, безмолвная, с расширенными глазами.
Сейчас внизу остался человек с кулечком. Долго еще плутал среди могил, потом медленно направился к выходу и здесь, перевернув кулек, аккуратно рассыпал по земле черные ягоды. Стайка ворон спикировала на них, но человек был уже далеко, уже в автобусе ехал (тот, взлетевший, смотрел; так, свидетельствуют пережившие клиническую смерть, смотрит душа на оставленное ею тело), потом в поезде ехал, потом в машине, и опять в машине, и опять – часто. «Но мы, кажется, не на вокзал?» – спросила сидящая рядом женщина и он подтвердил: «Не на вокзал».
Больше Пригородная Девушка не задавала вопросов. Вышла, когда остановились, подождала, пока запрет машину, и молча двинулась рядышком к освещенному подъезду, уже тому радуясь, что на сей раз ведут, кажется, не в подвал.
Точно, не в подвал – вверх поехали. В лифте мужчина улыбался, глядя на женщину, да поигрывал ключами, а на лестничной площадке сунул их, к ее изумлению, в карман. И позвонил. Она и тут не раскрыла рта, но взгляд ее стал красноречив и требователен. Успокаивая, кавалер подмигнул, еще бравый, еще молодой, но уже в следующий миг, едва за дверью раздались шаги – женские! – постарел (прямо на глазах!), потяжелел, усики поникли, а в чубчике заблестела седина.
Дверь открыла пожилая женщина в халате, почти старуха – для нее-то, юной!
– Приветик! – сказал профессор. – Мы не поздно?
– Да уж не рано, – ответила женщина, без малейшего, впрочем, раздражения, и отступила, пропуская гостей.
– Прошу! – простер руку мой джентльмен – хоть и состарившийся внезапно, но все равно галантный. Войдя следом, прикрыл заботливо дверь. – Это, – молвил, – Пригородная Девушка.
– Очень приятно, – сказала хозяйка.
– А это, – представил и ее Посланник, – моя жена.
Гостья молчала, онемев. Ко всему готова была: к подвалу, к вокзалу, к даче с угрюмым стариком, но что домой привезет, к жене… Этого, признаться, не ожидал даже я.
А вот супруга ничего, спокойна. Проходите, говорит, садитесь, сейчас кофе поставлю. Или чай?









































