Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
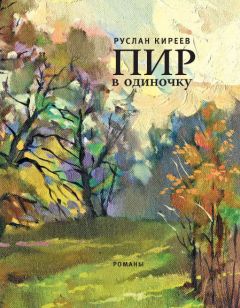
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Нет-нет, – пугается Пригородная Девушка. – Уже поздно.
– Вы плохо спите?
– Она, мамочка, спит как младенец. В отличие, – вздыхает, – от меня.
Ну вот, и он неправду сказал – впервые за весь день. Но это святая ложь. Знает: старики плохо спят (свидетельствую: плохо), а он-то как раз и подается в старички, когда супруга рядом. Брюзжит не хуже меня, кряхтит, на спазмы жалуется (не уточняя, спазмы чего), на желудок и боли в ногах, которые вдруг начинают шаркать. Словом, не оттеняет своей бесстыдной и таинственной молодостью ее, ровесницы своей, увядание.
Благодарная жена проявляет в ответ терпимость и такт. Ни о чем не спрашивает, разве что, узнав про детский сад, в котором работает гостья, сдержанно интересуется, много ли детей в группе.
– Много, – жалуется воспитательница. – Двадцать восемь.
Ей все жалуются, начиная с актеров, часами просиживающих в гримерной под ее творящими чудеса нежными пальцами, и кончая спутником жизни, который, подозреваю я, потому только и подался в спутники, чтоб было кому рассказывать на старости лет про спазмы. Уж эта не сбежит! Она и для Три-a нашла подругу, с которой, уверяет, Толик жил бы, не зная горя, по сей день, но Три-a предпочел Стрекозку. Хотя ничуть не обольщался на ее счет… Когда бывший сокурсник, которого удостоили чести пригласить в свидетели, позволил себе заметить раздумчиво: «Надеюсь, она будет хорошей женой», – жених ответствовал с улыбочкой: «Ужасной… Она будет ужасной женой. Мне муж рассказывал». – «Муж?! – растерялся свидетель – Чей муж?» – «Ее… Он зовет ее Стрекозкой». А сам так и светился весь – от обожания, надо полагать, и восторга.
– Я ведь у Стрекозки был, – сообщил Посланник. – Астахову пятьдесят сегодня.
Жена придержала дверцу серванта.
– Сегодня разве? Да, сегодня… Надо же, а я забыла.
– Я тоже, – признался товарищ по Сундучку и скорбно потер лоб. – Склероз у старикашки!
– Так вы знали Толика? – осенило супругу, и в устремленных на гостью темных глазах засветился уважительный интерес.
Ответить Пригородная Девушка не успела – доктор диалектики опередил.
– Относительно, мамочка, относительно! Как и все на свете… Я показал – сейчас, когда сюда ехали, – где мы учились с Три-a. Даже остановился на минутку. Кое-что рассказал, но все разве расскажешь!
Жена, мудрая женщина, согласилась: не расскажешь – да и надо ли? – и достала из серванта ладно что чашки, но еще и блюдечко с миндалем. Простила, стало быть, позднее вторжение. Вечер памяти, засиделись – она понимает. Посланник, мудрый мужчина, не стал разубеждать. Человек ведь – это не то, что он говорит, человек – это то, о чем он умалчивает.
Вначале было слово? О нет, вначале было то, что слово это породило, послало в мир, – было и есть, слово же фантом, призрак… Полчища таких призраков атакуют сущее, теснят его, стремятся подчинить своей воле, и как смешны, как наивны попытки Шестого Целителя воспрепятствовать этому с помощью опять-таки слов! Сущее спасает себя молча. В укромных местечках прячется, по мансардам и подвалам, по дачам и мастерским, по гаражам и библиотекам, по берегам тихих прудов, где в высоких мокрых от росы сапогах человек ловит рыбу, по лесам, ближним и дальним, из которых утомленный путник выходит поутру с ведерком прикрытых лопухами опят. Можно, поднаторев, спрятать себя всюду – даже в праздной толпе, что глазеет на тебя со всех сторон и тебя не видит даже под носом у многолюдного пляжа: погрузить лицо в прохладную воду (затылок же солнце припекает) и парить в отдающей резиной маске над зелеными живыми камнями… Сбиваясь в кучу, надеетесь спастись? О глупцы! Человек спасает себя, отделяясь. Как в безлунную грушецветную ночь, тихую и ясную, горят на небе далекие звезды, так, если внимательно присмотреться, блестят по-звериному из надежных укрытий глаза замуровавших себя людей. А тем временем их полномочные представители, умелые порученцы их, виртуозы слова, сами сотканные из слов, рассказывают по белу свету, скалят зубы, жестикулируют на трибунах, смакуют коньяк в отделанных дизайнерами залах и хлещут пиво в забегаловках, наносят государственные визиты, хватают женщин за ляжки, облачаются в смокинги и стегают себя, голеньких, вениками, сорят червонцами и со звоном бросают пятаки в глиняную прорезь на шее безусых котов, расшаркиваются друг перед другом и подставляют друг другу ножки, грозят кулаками и подобострастно улыбаются, штурмуют театры («Мне нужно, мамочка, два билета на «Тристана»), обжираются на свадьбах и обжираются на похоронах, орут в телефонные трубки, давятся в очередях, палят тоненькие свечи под раззолоченными куполами, гоняют мячи на зеленом поле, развешивают в гостиных картины, место которым на чердаке, но разве посмеют они! («Работа нашего друга, – шепнул Посланник, едва жена вышла на кухню. – Вы полюбуйтесь, а я сейчас…»), – строчат диссертации, красят ногти, устраивают дни памяти, яблоками одаривают и – говорят, говорят, говорят, все сразу, скопом, и скопом же нападают на тех, кто имел неостороожность или безумие выйти из укрытия. Не изволите ли, сударь, скляночку цикуты? (А что? Евангелие от Платона… Посланничество – категория вечная.)
Вначале было слово? О нет, слово будет в конце. Одно только оно и будет, победившее, на обезлюдевшей земле.
Пока гостья изучала шедевр, сотворенный во чреве ужасного Трюма (не завидовала Ленинградке; что ж, затворник затворнику рознь), согбенный, держащийся за бок хозяин клянчил аллохол.
– Печень что-то…
Жена смотрела на несчастного, сострадая.
– Съел что-нибудь?
– Утром, – принялся жалобно перечислять, – сливки. С внуком на пару… – И, дедушка, улыбнулся, вспоминая. – Обедал в Симбиозе, там качественно все. Вот разве что у Стрекозки?.. Кулинар из нее – знаешь какой!
– Готовит не Стрекозка, готовит Столбов. – Достала облатку из аптечки. – Одну? Две?
Захворавший поморщился.
– Не сейчас. С собой возьму. Выключить? – показал глазами на закипевший чайник.
– А ты что, – обеспокоилась, – уезжаешь?
– Увы! – развел руками профессор. – Там бумаги у меня, надо посмотреть. И яблоки обещал мымре одной… Не собираешься в Грушевый?
Жена убавила газ.
– Завтра – генеральная, послезавтра – прогон.
Супруг сочувственно покивал, но дело здесь, догадываюсь, не в генеральной и не в прогоне. Чует: кто-то живет в Грушевом Цвету, – чует, да, но о подозрении своем умалчивает. Она ведь не Пригородная Девушка, которая с ходу принялась выслеживать тайного обитателя Трюма. Молодая, неопытная… Даже (сокрушается, пряча аллохол, гуманный старикашка) не побеспокоилась заранее о билете на поезд, поэтому, видимо, придется оставить до утра.
– Не ночевать же, – вздыхает, – на вокзале! – (Между камерой хранения, неслышно добавляю я, и оранжевым лотком «Все в дорогу».)
О чем речь, ей, разумеется, постелят здесь.
– Вам постелят здесь! – вернувшись в комнату, объявляет Посланник.
Тревожно косится гостья на испеченный в Трюме – не в соавторстве ли с нечистой силой? – шедевр.
– Где – здесь?
Сладковатым душком тянет от шедевра – тем самым. Посланник незаметно отодвигается…
– Я вижу, вы не в восторге от работы нашего общего друга? – Но тут как раз входит жена с чайником, и разговор об общем друге обрывается. Ибо прямо ведь от Стрекозки сюда, не заезжая ни в какие трюмы, лишь у Колыбели притормозил на минутку – всего на минутку, а можно было б, между прочим, и из машины выйти, и к окну подойти, и убедиться… В чем? В чем убедиться? В том, что сумасбродная девица и впрямь коротает ночь на диване с валиками?
«Он своей смертью умер?..» Но посмотрела не на Посланника – на Посланника таким взглядом не смотрят: слишком юн для этого, слишком игрив – шампанское, а не человек! – посмотрела сквозь, и я отшатнулся в полумрак, что всегда, даже в самый солнечный день, царит в грушецветной капсуле. Уж не из серьезных ли она пессимистов часом? Вряд ли… Самоубийство, что бы там ни толковал Русалочкин философ, это отнюдь не протест, это согласие, а она-то как раз из протестующих. Иначе разве сбежала б из дому!
А может, просто забыли, уходя, выключить свет?
Профессор поднялся.
– Пора! Надо еще в Колыбель заскочить. – Покашлял, сгорбившись, потрогал аллохол в кармашке. – Тянет, тянет к истокам на старости лет.
Вон как заговорил! Еще немного, и примется, диалектик, развивать теорию круга.
– В Колыбель? – Супруга перестает даже чай наливать. – Но ведь все ушли уже.
– Дай то бог! – И незаметненько так, пока озадаченная жена ставит чайник, подмигивает Пригородной Девушке. Не бойся, дескать, здесь не Трюм – никого нет, кроме доброй старой гримерши.
До лифта провожает добрая старая гримерша, поправляет галстук на шее мужа, будь, напутствует, осторожен, а во взгляде – жалостливая тревога. Уж не опасается ли, что кокну ее благоверного?
Это она зря! Скорей он меня… Столько лет вместе, знаем друг друга как облупленных, но иногда такое откалывает, что меня, признаюсь, бросает в легкий озноб.
Вот и теперь. Зачем ему Колыбель? Ну подкатит, ну вылезет тихонько из машины, ну подойдет на цыпочках к окну…
Лифт! Створки раздвинулись, ждут, но мой чародей, прежде чем шагнуть в полированно сверкающую кабину, посылает сквозь распахнутые двери воздушный поцелуй.
– Адью, девочки!
И, вновь молодой, спускается, как ангел с небес, под позывные «Маяка», лучшей музыки в мире.
Одно дело – следить, задрав голову, как лимонный кадмий переплавляется, оттенок за оттенком, в желтую охру, охра к оранжевому подкрадывается, оранжевый – к пурпуру, а пурпур, взрываясь, расплескивается и медленно гаснет, – такое небо прекрасно, как, впрочем, и всякое небо над головой, и другое, если не над головой оно, а рядом, вокруг, земля же – далеко внизу, холодная, с белесыми испарениями вместо незримых, но острых запахов, с окаменевшей водой, в которой не плещется рыба, а волны точно нарисованные (бездарнейшим из учеников бабушки Рафаэль!), с бесформенной, как пролитая краска, зеленью, поглотившей все до единого деревья, все ветки и все листья, среди которых не бывает одинаковых, с линиями скучных дорог – ни отличишь одну от другой, а ведь у каждой свой норов (вот и сейчас, маскируясь под невинную тень, притаилась выбоина), с цветными игрушечными кровлями под зависшими в воздухе ногами… Над Грушевым Цветом редко пролетают самолеты, но иногда пролетают, и я отчетливо вижу эти обутые, со стертыми подошвами ноги. Словно внезапно истаяв, прозрачным делается самолет. Иллюминаторы исчезают, обшивка, кресла в салоне и, как олицетворение абсурда, как символ надругательства над человеческим естеством, парят в студеном пространстве сиротливые фигурки в сидячей позе. Парят – заброшенные вовне стальным ли оглушительным чудовищем, деревянной ли жердью с позвякивающим ведром – это не важно, чем, а важно, что там, внизу, осталось живое и теплое, из чего выдернули их, но оно ждет, оно испуганно взирает любящими глазами – ну давай, зовет, давай, возвращайся! – и ты стараешься, ты рвешься что есть мочи из своей сиротливости, хотя доподлинно знаешь, что обратного пути нет: описав круг, столкнешься лоб в лоб с собственной постаревшей физиономией. (А вот Посланник чувствует себя вовне превосходно; где-то на чердаке, рядом с полубутафорским кинжалом и прочими останками дизайнерской сакли, ржавеют металлические побрякушки – официальные свидетельства его летных подвигов.)
Ну подкатит, ну вылезет из машины, ну приблизится на цыпочках к окну. Ну увидит на диване с еще не снятыми валиками озябшую фигуру… (К ночи похолодало; Посланник, опустивший было стекло, снова поднял его.) Читает, накинув кофточку, а на ногах – плетенки, разновидность перчаток с отрезанными пальцами. Ну побарабанит легонько по стеклу, и Русалочка, подняв голову, внимательно вслушается. Встанет, подойдет, прижмется лбом к стеклу – а дальше? Дальше-то что? Распахнет окно? Хорошо, пусть распахнет, пусть не будет между ними стекла, но общаться-то все равно придется сквозь…
Фонари горели через один, зато сияли витрины, пульсировала цветная неоновая вязь, на безлюдной площади бежали буквы световой газеты. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ…» Кому доводит? Ни души вокруг, лишь бредет, покачиваясь, долговязый забулдыга. Увидев машину, вскидывает руку, кричит что-то. Посланник прибавляет скорость. Не любит пьяных – как и я…
А вот Три-a относился к пьяным снисходительно. Впрочем, он ко всем относился снисходительно – даже к Пропонаду, даже к Дизайнеру («Константин Евгеньевич?» И улыбчивыми глазами – на щегольскую курточку, которую гость стыдливо сбросил), даже к официальному преемнику своему Столбову. «Столбов был здесь вчера. Привез вон», – показал, благодарный, на бездействующий рефлектор.
Стало быть, и его тоже мобилизовала неугомонная Стрекозка. Вот только забыла предупредить, что обреченный на снос Сундучок доживает свои дни без электричества. А может, предупредила, но Столбов все равно привез, дабы видел бедолага, как пекутся о нем добрые люди… «Весь человек есть ложь», – процитировал один апостол другого. «Не весь, – возразил Три-a, кутаясь в пальто. – Не весь человек…» Но на гостя при этом не смотрел – мимо.
Странное уточнение в устах скептика! В устах специалиста по Шестому Целителю, который этот самый скептицизм олицетворяет. Так рассуждал доктор диалектики, и невдомек доктору, что вовсе не брюзгой был Шестой Целитель, не циником и не занудой, чья испитая физиономия наводила уныние на окружающих. Просто ничего на свете не принимал всерьез, а уж собственную персону – тем более. Мудрый лекарь, не изгонял, как другие, злых демонов, а внушал страждущему, что их, демонов, не существует, как вообще не существует того, чего нельзя пощупать собственными руками. Ни демонов, ни ангелов, ни великих богов… Мир, шальной беспризорник, сам по себе, а человек – сам по себе, но он вовсе не ложь, человек (не весь ложь!), не сукин сын, а посланник… Так говорил, запахивая холодное пальто, знаток античного скептицизма и при этом не на гостя смотрел – мимо.
Я знаю, кого ждал он. С кем хотел отвести напоследок душу – а может, не напоследок, тогда бы – не напоследок (вот ведь и Шестой Целитель пользовал, если не помогали уже никакие лекарства), – но приходили другие, с лекарствами и рефлекторами, а приятель студенческих лет приволок яблоки. Не вениковские – из магазина, красные, как светофор, перед которым остановился дисциплинированный автолюбитель. У следующего поворачивать, но это если в Грушевый Цвет, а если в Колыбель – прямо. Я знаю, кого ждут там, с кем хотят отвести душу (не напоследок, надеюсь), но опять другой явится, потому что тот, кого ждут, имеет благоразумие не покидать убежища.
Вспыхивает зеленый, Посланник трогается и, минув квартал, снова попадает под красный. Прямо нельзя, зато, как перст судьбы, как знак судьбы, горит зеленая стрелочка.
Законопослушный атташе знаки судьбы уважает. Есть в них, чувствует, что-то от круглых цифр, науки древней и темной, тайны которой, игриво намекает он, ныне утрачены. Словом, направо поворачивает блудный сын, домой, в Грушевый Цвет, где его заждался терпеливый узник.
Пуст и чист ночной город – лишь сейчас и чист, а днем лезет отовсюду разный мусор. Пуст, чист и просторен: никто не оттирает в сторону, никто, скаля металлические зубы, не грозит пальцем, и никто не бросается под колеса – днем опять-таки подобные минуты выпадают редко. Сегодня, кажется, всего раз – когда, задержанный гаишником, отстал от одной автомобильной стаи, а другая еще только нагоняла.
Посланник тронул ремень безопасности – все в порядке, но гаишника на давешнем месте не оказалось. И все же он стоял там и будет отныне стоять вечно, как вечно обстукивает свое неостывающее яйцо тот подвальный человек с салфеткой на груди… Время, хоть его и нельзя пощупать, существует, тут Шестой Целитель не прав, вот только сиюминутность, в которой хозяйничает расторопный консул, не отменяет прошлого. (Но это уже, извините, моя территория.) Как нынешнее, без колокольни, Вениково не отменило Веникова прежнего… Как дяденька с маслинами не отменил воспарившего мальчугана… Как полуботинки на толстом каучуке не отменили матерчатых башмачков. (Лишь на другой день мать подобрала упавший…)
Аккуратно съезжает Посланник с шоссе на свой аппендикс. Здесь совсем темно, и дорога, старая кокотка, пользуется этим. То вправо сместится, то влево, то подсунет ложбинку, которой утром – он поклясться готов! – не было. Спиленная березовая ветвь исчезла, зато сантехническое ископаемое выползло, обнаглев, на самую середину. Как зубы, блеснули в свете фар остатки эмали, но философа не испугаешь хищным оскалом. Остановился, вышел – теперь это уже ничем не грозило: день кончился – и оттянул раковину на обочину. (Не без усилий: ископаемое упиралось.)
У глухонемой четы света не было. Рано ложатся, рано встают – вместе с цветами, которые благоухают на их участке чуть не до ноября. (В Веникове сказали б: ложатся и встают вместе с курами, но кур в поселке Грушевый Цвет не держат.) Автомобилист ставит верного друга в гараж и лишь затем подымается, усталый, на крыльцо. Один замок отпирает, другой, входит, рука привычно тянется к выключателю и вдруг замирает. Носом шмыгает. Знакомый вроде бы запашок чудится ему, неживой, с чуть сладковатым привкусом, – запашок разлагающегося зверя. Странно, думает Посланник и щелкает выключателем. Странно… Некоторое время стоит, зажмурившись, а когда открывает глаза, никаких подозрительных запахов уже нет.
Пир в одиночку
Светлой памяти моей бабушки Ангелины Ивановны Рубинштейн
Зима была слабой, вялой, уже в феврале понабухали почки, а в марте, в середине марта, зазеленела верба. Из-под снега островками проступила земля, пока еще без единой травинки, сырая, грязная, и скоро освободилась вся, только в укромных уголках, куда не дотягивалось солнце, желтели ноздреватые кучки. К-ов исхитрился даже позагорать в лесу – не раздеваясь, разумеется, в пальто и кепке. Собственно, загорало лишь лицо, купалось в еще не жарких, в еще не припекающих, но уже теплых лучах. Устраивался на пеньке или поваленном дереве, под ногами же был плотный, слежавшийся ковер из прошлогодних листьев, среди которых можно было обнаружить, если приглядеться, сгорбленный стебелек будущего цветка. Весна! Настоящая весна!
Настоящая? А где бабочки, где пчелы, где трава или одуванчики? Не случайный стебелек, сам напуганный своей дерзостью, а пятнистый цветной ковер? Нету. Потому-то, наверное, чуть-чуть искусственным казалось тепло, оранжерейным. Будто выйдешь сейчас наружу – и опять заметет все, завоет, запорошит.
Так и случилось. Обманный день первого апреля начался с солнышка, потом небо заволокло, налетел ветер, и в полдень повалил снег. В комнате потемнело. К-ов зажег настольную лампу и, с пером в руке, рассуждал о прозе, которую про себя называл поздней.
Вообще-то, понимал он, рассуждения подобного рода уместней все-таки скорей осенью, нежели весной. Ибо человек, пишущий человек, обычно приходит к поздней прозе на склоне лет, когда в его распоряжении остается не так уж много времени и жаль тратить его на пустяки.
Как правило, это не беллетристика. Это бесхитростное и внешне незатейливое повествование о том, что сам видел и сам пережил. Повествование, да не всякое… «Исповедь» Руссо, например, которая по всем внешним параметрам должна вроде бы служить эталоном поздней прозы, ею тем не менее не является. Слишком замутнена она раздражением, особенно в заключительных главах. Слишком пространен счет обид, который выставляет судьбе и людям памятливый автор. В таком состоянии – состоянии войны – ясной и тихой книги не напишешь. Так же как не напишешь ее, упиваясь изощренностью своего глаза. Прустовская эпопея, нанизавшая на автобиографический шампур изумительно сочные куски утраченного времени, – это, что ни говори, феномен не столько духовный, сколько эстетический. Что само по себе не недостаток и не достоинство. Качество…
К-ов прекрасно отдавал себе отчет в том, сколь высоко можно качество это ставить. Но лично он, восхищаясь тем же Прустом, начинал мало-помалу уставать от буйства красок, от обилия оттенков и цветов. Как всякий пир, этот пир способен вскружить голову, но способен и утомить, в то время как поздняя проза никогда не роскошествует. Лишь необходимым довольствуется она. Минимум фантазии. Минимум фабулы. Ей, поздней прозе, с которой человек, в общем-то, уходит из жизни, скучно упаковывать себя в прокрустово сюжетное ложе. Скучно рядиться в маски вымышленных героев. Ни интрига, ни живость изложения – качества, столь ценимые в беллетристике, – не являются для жанра, черты которого К-ов набрасывал под снежную круговерть за окном, качествами определяющими.
Что же, спрашивал он себя, является? По-видимому, способность автора ощутить самодостаточность и самоценность мира, не нуждающегося в какой бы то ни было санкции. Высшего ли разума… Философской ли доктрины… Бог если и присутствует в нем, то не как своего рода главный администратор, а на равных со всем остальным – деревом, муравьем, человеком… Ну и собакой, конечно, что, положив морду на лапы, терпеливо ждет, когда хозяин выведет ее на улицу.
К-ов поднялся. В тот же миг она была на ногах и, вся напрягшаяся, взъерошенная, неотрывно и страстно смотрела ему в глаза. Он медленно одевался, медленно зашнуровывал ботинки, а она следила за ним не шевелясь, и лишь когда он протянул руку за поводком, сорвалась с места. Коготки щелкнули о паркет, она поскользнулась, но не упала (а такое случалось), удержалась и на радостях запрыгала и завертелась еще пуще. К-ов открыл дверь.
Уже немело, все успокоилось. Легкий пушистый снег высоко лежал на деревьях и заборах, на мусорных бачках, на скамье у подъезда, на детских качелях… Было очень светло – он задрал даже голову: нет ли луны? Луны не было, зато фонари словно прибавили яркости и при этом как бы вытянулись.
Собачьи лапы глубоко и по-детски раскоряченно утопали в снегу, а ополоумевшая от счастья бессловесная тварь еще и нос в нем зарывала, и фыркала, и мотала ушастой головой. Хозяин отпустил ее, а сам медленно огляделся, один, среди возвратившейся зимы, но возвратившейся, понимал он, ненадолго, на день или два. Вот только чувства, которые он испытывал, были скорей надеждой, скорей ожиданием и предвкушением, нежели прощанием.
Чего ждал он? Что предвкушал и на что надеялся? Он был уже немолодой человек (возраст поздней прозы), а сейчас, в зимнем длиннополом пальто и потертой, надвинутой на лоб шапке, выглядел (если б кто-то мог видеть его) и вовсе стариком, но возвращение снега ободрило его, хотя, выросший на юге, не снег любил он, а солнце, не зиму, а лето. Видимо, сама возможность возвращения веселила дух. Что-то еще, подумал он, да будет в жизни. Пусть недолго, пусть слабо, как эта краткая, на одну ночь зима, но – будет. Еще незнакомая женщина улыбнется ему в окне отъезжающего автобуса… Еще напишется страница, за которую не придется краснеть…
Света в большинстве окон не было, чернели мертво, но некоторые еще горели, а в одном на фоне желтой шторы раз или два мелькнула тень. К-ов осторожно протянул руку к дереву, коснулся пальцем снежного пуховичка, и тот протаял насквозь.
Собака рывком подняла голову. Часть снега слетела с морды, а часть осталась, и это придавало ей озорное, смеющееся выражение. Точно щенок проснулся в старом, большом, больном псе – с одышкой, как у человека, и храпом по ночам. «Ну что?» – сказал хозяин, и собака, возликовав (с нею заговорили!), припала на передние лапы, а хвост бешено заходил туда-сюда.
Сколько лет оставалось им жить на свете? Никто из них не думал сейчас об этом, не боялся и не заботился. Человек зачерпнул горсть снега и бросил в животное. Собака шустро отпрыгнула в сторону, потом в другую, и еще, еще, но все молча (в детстве подобные выкрутасы сопровождались тявканьем), а он опять сделал снежок и опять швырнул в нее, и тоже молча. Так играли они вдвоем среди ночи, без единого звука, и, наверное, поэтому ему вспомнится позже, когда, вернувшись домой, разойдутся по своим углам, – вспомнится залитый солнцем голый лес, без бабочек и жуков, без паутины, муравьев, одуванчиков, без шелеста листьев и лягушечьего далекого кваканья. Точно сами себя увидели во сне… Вот только себя в прошлом или себя в будущем? В будущем, когда их обоих уже не будет на свете, лишь безмолвные образы их останутся, беспризорные, разгуливать по земле.









































