Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
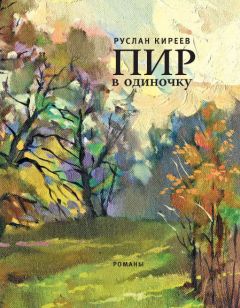
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– По-моему, он не врачей имел в виду.
Не врачей? Кого же тогда? Посланник заволновался, но тут же сообразил: Стрекозку! Ну конечно, Стрекозку, которая и сама столько раз признавала, шурша крылышками: виновата. И все-таки уточнил, присаживаясь на краешек продавленного дивана:
– Жену?
– Не знаю, не знаю… Вы ведь помните, Монголов не любил говорить о неприятных вещах.
– Кто же любит?
– Ой, не скажите! Стоит выйти из дому, только и слышишь разные ужасы. Вот вы стояли когда-нибудь в очереди за бормотухой?
– За бормотухой? Упаси бог!
– А я стояла!
– Вы?
– Я. Я, профессор, я… И не таращьте на меня свои голубые глаза. Вы бы тоже стояли на моем месте. Хотя нет, вы молодой, силенка есть – выбрались бы. А как мне – на кочерыжках-то моих! Цыц, говорят, бабка, не рыпайся.
– Но зачем вы встали?
– Ничего не вставала. Просто мимо шла, а оно и засосало, как водоворот. Видели эти очереди?
Бедная старуха! Бедная одинокая старуха – как тут не поблагодарить судьбу, что у меня есть Посланник, который взвалил на себя все заботы о хлебе насущном!
– Ничего, голодной не сижу – соседи, слава богу, не забывают. Да и профессор балует – то яблочками, то малинкой.
Визитер запротестовал: пустяки, о чем говорить! Раньше собирался приехать, часов в пять – посидели б как люди, потолковали б, вспомнили приятное (как, например, лепили втроем пельмени), но коли ученые мужи разговорились, остановишь разве! Почему не звонит она? Если в поликлинику надо, или за лекарством, или еще куда – он с машиной к ее услугам… Искренен и вдохновенен – я из своей крепости любуюсь Посланником. Снова любуюсь – как давеча в Симбиозе. О возвышенный, о сладкий, как ананасовый компот, миг самопожертвования! О башенки и купола гигантского храма, возведенного, если верить Русалочкиному мыслителю, на благословенной земле Харам-эш-Шерифа!
И на сказочный храм этот тоже выходит дверь острога. На ближний выходит лес и на лес дальний, на полуразрушенную птицеферму, где я отдыхал однажды с ведерком опят, и на грушецветный пруд, на топком берегу которого наставник в резиновых сапогах советовал будущему доктору диалектики не обретаться в метафизических лабиринтах денно и нощно, а посещать, только посещать, как посещает служилый человек присутственное место, остальное же время жить для души: ловить рыбку (и выдернул окуня), собирать грибки… И на фантастический храм, говорю я, тоже выходит дверь. Точно в знойном мареве дышат и вытягиваются белые, с царапинами окон башенки и горят, золотясь, купола, не увенчанные крестами, этим символом исправляющегося человечества. Не увенчанные! Ибо не исправителем, а благодетелем провозгласил себя возведший сие великолепие. Покоем и сытостью одарил народы, взамен одного потребовав: любви. Не благодарности, чувства холодного и ненадежного, а сердечной любви, осветить которую – не во имя отца-исправителя, а во имя свое – и намеревался в величайшем на земле строении. За что, стращает Русалочкин философ, был поглощен разверзшейся преисподней.
Посланнику не грозит это. Если провалится, то лишь по щиколотку, на глубину пакета с яблоками, что вполне устраивает меня. Ни один узник – если это настоящий узник – не желает гибели своего тюремщика. Кто еще так самоотверженно печется о нем! Кто покой его охраняет! Кто в минуту опасности думает не о себе, а о бледном затворнике! Вот и сейчас, свернув на улицу, где обитает Стрекозка, едва не сталкивается с оранжевым «Жигулем», и первая мысль, что проносится в мозгу, это мысль о запертом на два замка обитателе Грушевого Цвета. Не за себя испугался, не за свою светлость, а за мою, извините, темность. Мне лестно, чего уж там, хотя и я, не стану скрывать, малость перетрухнул за автомобилиста: не чужие все-таки люди. Час пик, надо смотреть в оба… Хозяин «Жигуля», между тем, поворачивает рябое желтое лицо и, оскалив металлический рот, грозит пальцем.
Круг! Не прямая, как полагает целеустремленный ездок, а круг, точнее – виток, один из витков, а вот и следующий: дом Стрекозки. Та же обитая желтым дерматином дверь, тот же коврик у порога и тот же звонок. Неужели тот? Посланник мешкает, но нажимает-таки, и долетевшее дребезжанье, которое напоминает голос Евнуха (мой пунктуалист глядит на часы), подтверждает: да, тот же… Те же легкие шаги за дверью, то же шуршанье и щелчок замка.
– А мы как раз говорили о тебе.
– Надеюсь, хорошо?
Тот же диалог, та же прихожая с книгами, тот же круглый стол в большой комнате, которая на самом деле совсем невелика (Три-a жаловался, что не вытянуть ноги), те же гости: горбунья из статистического управления, молчаливый старец в синих очках, а также печальная незнакомка, которая сокрушается в очередной раз: как это ужасно, когда умирают люди! На похоронах Рыбака тоже присутствовала – профессионал своего рода, траурная дама… Та же люстра в форме свечей, подарок на новоселье приятеля студенческих лет, а вот хозяин – новый, повыше прежнего, пошире, и по фамилии Столбов – какая женщина устоит против такой фамилии!
– Вы, конечно, на колесах, – говорит с укором Столбов, и пухлая рука с перстнем зависает над бутылкой.
– Увы!
– Может, вина хотя бы? Астахов простит вас.
– Астахов всех простит, – обобщает новоприбывший – несколько рискованно: Стрекозка настороженно поворачивает голову. – Но есть еще, к сожалению, автоинспекция. Нынче я уже имел с ней дело.
– Штрафанули?
– Бог миловал. – Наливает воды, неторопливо пьет в приличествующей событию тишине и, поставив бокал, промокает салфеткой усики. – Сегодня Он вообще настроен благодушно… Я о Нем, – устремляет палец на электрические свечи под потолком. И поясняет, обернувшись к хозяйке: – «Шестой целитель» в плане.
Стрекозка ахает. Люстра, конечно, царский подарок, но теперешний перешиб.
– Как здорово! Толя даже не мечтал, что когда-нибудь напечатают.
– Толя был профессиональным скептиком.
– Неправда! – протестует бывшая жена. – Толя любил жизнь. Он никогда ни на что не жаловался.
– Естественно! Жалуются оптимисты. Потому что всегда верят в лучшее.
– Толя тоже верил. Даше умирая говорил: все будет хорошо. Вот пусть Столбов подтвердит: он был у него в последний день, дыню приносил – Толя страшно любил дыни.
Столбов, подтверждая, наклоняет квадратную голову… Уж не его ли и ждал в Сундучке озябший, в перчатках с отрезанными пальцами, обреченный Три-a? А явился другой, в курточке от Дизайнера и без дыни.
– Профессиональные скептики, – поясняет с улыбкой доктор диалектики, – жизнь не хаят. Просто они сомневаются в ее разумности.
Не совсем так, профессор. Воздержись от суждения – вот краеугольный принцип Шестого Целителя. Воздержись, поскольку ты, простой смертный, все равно не ведаешь с достоверностью, где реальность, а где фикция, фантом, мираж – детища твоего ненадежного восприятия. Ничего не отрицай, ничего не утверждай, в том числе и своего сомнения. Живи в соответствии не с тем, что есть и что бедному взору твоему недоступно, а с тем, что ему, маломощному, видится. Воздержись, воздержись от суждения!.. Советик, в общем, ничего, дельный, но обитающий в заточении может позволить себе роскошь не следовать ему. Пусть его светлость воздерживается – образ жизни обязывает, пусть расшаркивается перед издательскими дамочками и дарит взлелеянные чужими руками плоды, пусть наклоняется к Стрекозьей головке, дабы шепнуть элегически, помнишь ли, дескать, Сундучок, но с какой стати я, узник, затворник, темность, должен отказывать себе в удовольствии говорить об этом ядовитом насекомом с крашеными волосами все, что думаю! Капсула безопасности – это еще и капсула свободы.
– Я только что, – делится Посланник, – от одного человека. Он утверждает, что Астахова можно было спасти.
– Неправда! – вскидывается Стрекозка. – Столбов достал лучшее лекарство.
Квадратная голова скромно наклоняется.
– К сожалению, было уже поздно.
– А раньше? – миролюбиво интересуется доктор диалектики. – По-видимому, тот человек имел в виду, что спасти Астахова можно было раньше.
– Как, как спасти! – волнуется любвеобильная женщина. – Если он не слушался никого! Если он сознательно гробил себя!
– Алиса Ивановна, – вставляет горбунья из статистического управления, – разрешила ему работать дома.
– У него не было дома, – с улыбкой напоминает мой атташе.
– Неправда, опять неправда! Я сто раз звала его. А Столбов даже второй ключ сделал.
– Второй?
Стрекозка захлопала тяжелыми от краски ресницами: ну да, второй, что тут непонятного! – но профессор был не только педантом, но еще и джентльменам, а джентльмены не домогаются у женщин точных цифр. К тому же, разве не утверждал Платон, возводя в одиночку бумажное свое государство, что жены там будут общими? Вот уж где разгулялся бы Дизайнер! (Мало москвичек ему – из Ленинграда выписал! С вокзала звонили, не устроившись, что, по-моему, плохой симптом.)
– Это ужасно, – молвила траурная дама, – когда умирают люди.
Скорбная тишина воцарилась за столом – лишь старец в синих очках пощелкивал вставной челюстью, да сопел Столбов, неревнивый гражданин платоновской державы, да мелодично звякала под шагами соседей с верхнего этажа повешенная Три-a люстра, подарок товарища по Сундучку… Украдкой бросив взгляд на часы, Посланник явственно различил густые размеренные удары Совершенномудрого.
Крадучись уходил, на цыпочках, как уходят из опасного места. Гул и суматоха в аэропорту отвлекли и приободрили, но теперь он тревожился, не перенесут ли на утро рейс, вынудив возвратиться к пропитанному запахами лекарств китайскому буфету.
Рейс не перенесли. Вовремя улетел и из Внукова – в Сундучок прямиком. Обрадовался, когда различил, подъезжая, дым над жестяной трубой, верхушку которой освещали последние лучи уже не видимого из электрички солнца. Еще чуть-чуть и соскользнут, погаснут; сбежавший от смертного одра поспешно отвернулся, чтобы не видеть этого завершающего момента, а про себя решил, что завтра же по дороге в институт позвонит завмагше, единственной во дворе обладательнице телефона, и разузнает, как там дела у тетушек.
Три-a удивило его появление. «Самолет не задержался разве? – И пояснил с улыбочкой, которая напоминала те самые убегающие с трубы лучи: – Я почему-то думал – задержится».
Приехавший заверил: да нет, все нормально, погода летная… «Все нормально?» – с непонятной, тоже ускользающей (как улыбка; как лучи) интонацией. Пришлось сознаться, что прихворнула тетушка. (Он употребил именно это слово: прихворнула.) «Сегодня лучше… Заснула». И, пряча лицо, долго распаковывал дорожный, по-студенчески убогий скарб. Боялся, спросит вдруг: она что, умирает? – но нет, не спросил. Вообще не в пример прочим метафизикам предпочитал не говорить о смерти, и мой жизнелюб ценил это. Ему меня достаточно… Заживо погребенный, одним замогильным видом напоминаю о бренности всего сущего.
Хотя, если вдуматься, не так уж и всего. Лишь человек, если вдуматься, по-настоящему смертен, потому что лишь человек ведает, чем рано или поздно завершится его трепыханье, прочие же божьи твари оттого и божьи, что знать не знают ни о каком конце. Божьи, поскольку частица Бога живет в них – частица пусть иллюзорной, но вечности. И в шмеле, что глухо ударился нынче в утреннее стекло, и в пчелках, которые прямо-таки преследуют его сегодня, а мне напоминают, естественно, о пасечнике Сотове, и в Стрекозке… Да, и в Стрекозке, с неудовольствием заявившей траурной даме, что не верит – не верит, и все! – будто Астахова нет больше на земле. «И я не верю», – подхватила горбунья из статистического управления, а снисходительный Посланник развел умиленно руками. Он ведь тоже из бессмертных, ибо тоже в неведении, – легкий, праздничный, разве что крылышками не шуршит; в том самом неведении, к которому тщетно стремятся ах какие умы!
Творец снял с себя ответственность за homo sapiens; за птах и зверюшек оставил, а за homo sapiens снял. На самого человека возложил, и тот, бедняга, согнулся под тяжким грузом. Но не все, не все… Одни обратно на Бога спихнули непосильную ношу, другие помощничков отыскали, упрятав их на всякий случай подальше от глаз.
Я не в претензии. Да, тюремщик, да, страж, но потому-то и страж, потому и тюремщик, потому и бережет меня, смертного, как зеницу ока, что знает: без узника-вассала конец придет безмятежной жизни его светлости. Один охраняет, другой хранит…
У Три-a, к несчастью, такого хранителя не было. Как (добавлю, уподобляясь Пропонаду) и у Сократа – не зря оба с улыбочкой покинули добровольно мир. А напрасно! Не обязательно из жизни уходить, можно уйти от жизни, коль скоро порядочному человеку делать в ней нечего. Именно делать, подчеркивает экзальтированный Русалочкин философ. Не жизнь, мол, отвергают возвышенные души – жизнь прекрасна! – а практическую деятельность. Что ж, на здоровье, только зачем дегустировать сок цикуты или уморять себя в сырой развалюхе? Не лучше ли кому-нибудь другому поручить эту самую деятельность? Пусть хлопочет, пусть мотается туда-сюда, пусть дарит улыбки и расточает комплименты дамам – тебе-то что! Сиди себе, читай, думай. Яблони прививай… Ремонтируй часы – часы вещь замечательная. Шестой Целитель не прав, когда твердит в скептическом раже, будто времени не существует; прошлого, дескать, уже нет, будущего еще нет, настоящее же стремится к нулю. Время существует, и доктор диалектики, взглянув на часы – вроде б украдкой опять, но так, что хозяйка заметила, – спешит тем самым засвидетельствовать это.
Выйдя следом, захлопнула дверь и тотчас спохватилась: ключ! К звонку потянулась сухонькая, как у Иностранной Кафедры, рука, но помедлила и опустилась. Ничего. Столбов откроет, а сейчас она желает проводить дорогого гостя. Засиделась, душно, да еще хрыч в синих очках. Он что, из Колыбели?
– Нет, – удивился Посланник и вспомнил желтолицего в оранжевом «Жигуле». – Я думал, он из статистического управления.
– Ничего подобного, я спрашивала. И Астахова зовет почему-то Чесноковым. Сумасшедший какой-то день.
– Но не для Анатолия Александровича, – молвил профессор. И с горечью молвил (с готовностью горечи), и с улыбкой (с готовностью улыбки.) На это мастак он: самые простые, самые нейтральные слова играют в его устах, поворачиваясь то одной гранью, то другой. Бриллианты, а не слова! У других – стекляшки, а у него – бриллианты. – Пропонад оправдывался нынче: хотел, мол, добра Астахову.
– Его избрали?
– Увы! И твой покорный слуга голосовал, естественно, за.
Опять что ни слово, то бриллиант. Одна сторона – чистейшая правда (Посланник всегда говорит правду), другая излучает, поддразнивая, иронический свет.
– Ну почему, почему так! – сказала Стрекозка с отчаяньем, и веяло от нее не ароматом французских духов, а вином и корицей.
– Полагаю, юбиляр наш, царство ему небесное, не стал бы расстраиваться. Ну, одним профессором больше.
– Это ужасно!
– Что одним профессором…
– Ужасно, что не стал бы расстраиваться. Его вообще ничего не задевало. Думаешь, он не знал про меня? Все знал. Все! И про Столбова, и про Дизайнера твоего.
Посланник, пропуская вперед даму, придержал дверь.
– Ну, Дизайнер, положим, не мой.
– Ты ведь так прозвал его. Хотя какой он дизайнер, видимость одна.
– Это, дорогая моя, и есть его профессия: создавать видимость.
Солнце, тоже дизайнер, весь день вдохновенно маскировавший осень под лето, сползло с задымленных небес, и враз посерели дама, зажелтели бельма слепых окон. Мой шалун подумал о столике на четверых, который уже ждет, сервированный.
– Все мы, – произнес, – грешны.
– Не все!
– Ну, разве что Астахов…
Возле машины остановились, и тут Стрекозка, с отчаяньем глядя перед собой, сделала признание:
– Я, если хочешь знать, сама бабу б ему привела.
– В чем же дело? – доставая ключи, спросил насмешливый тюремщик.
– А я и привела.
Ключи звякнули. Звякнули и затихли…
– Себя привела. Себя… Приехала в Сундучок и сказала: все, Астахов! Остаюсь здесь.
– Гениально! – восхитился ценитель женской предприимчивости, а я с ужасом представил, что будет, если такая явится когда-нибудь в Грушевый Цвет.
– Он сказал то же самое. Не гениально, но то же самое… И стал одеваться. Ты куда, говорю. Куда-нибудь, отвечает. И улыбается. Ты ведь помнишь, как улыбался он?
– Еще бы! Как в рентгене.
В накрашенных глазах всплыло недоумение, однако предпочла не углубляться в метафоры.
– Я и теперь не жалею, что пришла тогда.
– По-моему, – сказал галантный профессор, – он тоже не жалел. – И напомнил, как даже летом, даже в жару протапливал печь, дабы любимая женщина, подъезжая, видела из электрички дымок над жестяной трубой. Вот только последний раз дыма не было: сырые дрова не разгорались никак.
– Потом разгорелись.
Ключ, уже сунутый в дверцу, замер.
– Когда – потом?
– Потом. Когда ты уехал. Мы разминулись… Он рассказал, как ты его на кафедру к себе заманивал. Общежитие предлагал.
Так вот кого ждал сидящий у нежаркой печечки в пальто и перчатках с отрезанными пальцами знаток античного скептицизма! Стрекозка, выслушав, отрицательно покачала головой.
– Он не меня ждал.
– Не тебя? – Рука опустилась, так и не повернув ключа. – Кого же тогда? Насколько мне известно, ты была, пардон, его единственной женщиной.
– Он не женщину ждал. Не знаю – кого, только не женщину.
Посланник молчал, озадаченный. Кроме него, друзей у живущего в Сундучке не было. Родственники? Двоюродный братец какой-нибудь, дядя… Отец? Об отце Три-a не говорил никогда (как, впрочем, и о матери), но я-то знаю, как подчас внезапно и бесшумно возникают папаши… Подкрадываются… Хватают за руку… «Это я, – шепчут, обдавая винным перегаром. – Узнаешь? Я, я, папа твой!» – И косятся с опаской на окно, за которым незримо воюют друг с дружкой не подозревающие ничего китайские тетушки…
Мальчуган тоже косится: лишь оттуда, из белеющего занавесочками окна (занавесочки, к несчастью, не раздвинуты), может прийти спасение, но тот, кого он еще недавно принимал за пасечника, тянет подальше от окна, в сторону. Пытается портфель отобрать – уж без портфеля-то не улизнет! Винный перегар глушит, отталкивает другой запах – запах вскопанной земли, навоза, запах ржавчины, что разъедает прицеп под дырявым навесом, запах деревянных, до блеска отполированных ступеней, ведущих в полумрак магазина, а там керосин и халва, галоши и селедка, запах глубокой колодезной воды, которая уходит вдруг из-под ног вместе с мокрой травой, ведрами и слетевшим с ноги маленьким башмачком… Я наслаждаюсь этим вениковским духом, я пью его как живительную влагу, но это я, навеки вправленный в грушецветную капсулу, а коммивояжер мой, естественно, ничего такого не слышит. И не потому, что обоняние слабое, нет, вот ведь, прощаясь со Стрекозкой, уловил-таки сквозь все наслоения утренний аромат французских духов, а потому что некогда, потому что каменные громадины вокруг, полчища машин и загнанные, ошалевшие к вечеру люди. Чуть не под колеса бросаются с искаженными лицами: остановись, подвези, за платой не постоим! – но мой виртуоз ускользает из-под носа у них, как некогда ускользнул из щедрых, но нетвердых рук воспитанник китайских тетушек. Щедрых, ибо чего только не появлялось в загрубелых пальцах! Шоколадный батончик, значки какие-то, желтая картонка с синей полосой («Контрамарка… В цирк… Был в цирке?»), настоящее увеличительное стекло – демонстрируя, соблазнитель приставляет его к лицу, и на мальчугана, которого пытаются умыкнуть, выпучивается огромный, с красными прожилками глаз. Будто странный пасечник приподымает на миг свою темную накидку… Однако не гигантский глаз пугает больше всего, а маленькая фотография с белым уголком и в белых трещинках, сквозь которые глядит равнодушно чужое женское лицо. Чужое! А пасечник твердит, что это мама – мама твоя, мама, неужто не помнишь?
Помнит… Очень даже хорошо помнит – что-то теплое, мягкое, а еще – черные семечки на белом снегу и журчащий над головой ласковый смех, который защищает, как ладошка, от всех опасностей. Это-то и была мама, а пасечник с выпученным глазом отнимал ее, отнимал снова, уже потерянную, оставшуюся внизу, когда сын медленно взлетел на колодезном журавле в потемневшее, расступившееся вдруг небо. Иное, неведомое пространство блеснуло мгновенно и ослепительно, а мама – там, на земле, такая маленькая…
Бросив желтую с синей полосой картонку, выдернул портфель и припустил к дому, под спасительную сень китайского буфета.
Без опозданий прибыл, под аккомпанемент «Маяка», которому, впрочем, не дал доиграть, вырубил и, включив противоугонное устройство, легким, быстрым, молодым (женщины ждут!) шагом направился к сверкающему подъезду, над которым неподвижно резвились неоновые фигурки скоморохов, голубая и розовая. А под ними – фигурки темные, и уже не резвятся, застыли в терпеливой отрешенности перед стеклянной дверью. Посланник толкнул ее, на себя дернул, снова толкнул – бесполезно. Побарабанил ноготком. Сбоку выдвинулся разряженный швейцар – еще один скоморох, третий, и так же, как те, неоновые, замер. Коммивояжер интимно улыбнулся и поиграл пальцами: открывай, уважаемый, свои, но швейцар не шелохнулся. Не та, видать, улыбка была и не та игра… Трудно, ох как трудно без слов моему златоусту! Вот и с глухонемой четой, что живет через забор среди цветов и глиняных кошек, так и не выучился объясняться, меня посылает, и мы, должен сказать, прекрасно понимаем друг дружку. Собственно, только с ними и общаюсь, все остальные для моей темности – что для Посланника, его светлости, этот петух за стеклом. Лишь однажды истончилась прозрачная стена, истаяла, сделалась проницаемой для звуков, и я, несмотря на ревнивую бдительность ключника, очутился лицом к лицу с другим человеком. «Пасечник», – обронил этот другой человек, одно только слово, но я понял и без труда узнал в неровных, неглубоких выбоинах на замшелом камне силуэты вениковских пчел. Именно вениковских, я так и сказал, тоже одно только слово – Вениково! – и он тоже понял. Молча смотрели мы друг на друга: язык не приспособлен для подобного рода общения, – и тут вырос, позванивая ключами, спохватившийся тюремщик. Влез, оттеснив меня, встав передо мной, заслонив меня – и словами, и телом своим, – но даже сквозь тело и слова зоркий Три-а меня видел. Как видит Посланник – хоть и без очков! – позолоченного швейцара… Снизойдя, тот приоткрывает дверь.
– Мест нет!
– Знаю, батя. Знаю… Но это не основание срывать мероприятие. П-позволь!
О, это краткое, это властное, чуть раздраженное – не гневи, батя! – «позволь!» Дверь распахнулась. Посланник неторопливо вошел, чувствуя спиной взгляды томящихся на улице, и взгляды эти были ему приятны.
Хоровод скоморошьих масок – на стенах, на потолке, не говоря уже о сцене с голыми микрофонами, а автор… Автор где? Где замшевая – обвел взглядом зал – курточка?
За крайним столиком расположился, с двумя, естественно, дамами. Приблизившись, Посланник поцеловал обеим ручку. Приятельница Дизайнера протянула свою уверенно, как и подобает хозяйке, а подруга чуть помешкала. Узкая прохладная ладонь была слегка напряжена.
– Как Питер? – поинтересовался, усаживаясь, вновь прибывший.
Великолепно, ответила одна, другая же призналась смущенно, что она не из Питера. Вот Люся – та коренная ленинградка, а она в пригороде живет.
– Пригородная девушка, стало быть. Но это же – замечательно!
– Мой друг, – подтвердил замшевый фельдмаршал, – терпеть не может столицы. На даче кукует, в полном одиночестве.
Я насторожился. Что-то слишком резво о даче заговорил…
– Это правда? – вскинула глаза Пригородная Девушка.
Хорошо вскинула, доверчиво, что понравилось Посланнику, а мне, признаться, не очень.
– В известном смысле, – ответил уклончивый правдолюб. В одиночестве, мол, да не совсем.
– С собакой? – проронила Ленинградка, радуясь догадливости своей, золотистому вину, что с изяществом наливал московский друг, и вообще жизни.
– Кошка, – произнес доктор диалектики. – И не одна.
– Вы так любите кошек?
А в глазах – хитринка: нашла профессора малость смахивающим на кота. Что ж, он не отпирается, он поглаживает усики: да-с, похож, но считает должным уточнить, что кошки, в соседстве с которыми он имеет честь проживать, к сожалению, безусы. Да-с, безусы, поскольку сделаны из глины. Или из гипса – точную информацию получить трудно: сотворившие их лишены дара речи.
– Совсем? – пугается Пригородная Девушка.
– Увы! Но это не мешает им слышать бой часов.
– Каким образом?
Посланник разводит руками. Чудо… Вы разве не верите в чудеса?
– У него там куча часов, – берясь за графинчик, развивает маэстро тему дачи. – Когда бить начинают, кажется, будто в храм попал.
Гм, в храм… Тогда бы уж уточнил, мыслитель, в какой именно. С крестами ли, без… А впрочем, надо ли доискиваться? Надо ли выяснять, кем организовано то, что организовано – все-таки организовано! – как бы скептически ни улыбался Три-а: чего, дескать, нельзя увидеть, пощупать нельзя, измерить рулеткой, того попросту нет. Школа Шестого Целителя! Вот и кувыркался, неприкаянный, во мраке и хаосе, и никакая печечка не в состоянии была согреть несчастного, никакое пальто и никакие перчатки. Тем паче с отрезанными пальцами…
Тост! Емкий, веский – что ни словечко, то самоцвет. Тоже школа, но на сей раз – скрэбла.
– Вы, наверное, – говорит, пригубив, Ленинградка, – очень пунктуальный человек, раз у вас столько часов?
– Редкий зануда! – кается самокритичный профессор. – Боюсь, сегодня вы убедитесь в этом.
– Уже убедилась. – И – на рюмочку взгляд. (Нетронутую.) Автомобилист виновато разводит руками.
– Как ни странно, но я дисциплинированный водитель.
– Почему – странно?
– Потому что серьезные люди принимают меня за шалапута. Швейцар… Видели тутошнего швейцара? Премьер-министр, а не швейцар! Так вот, не хотел пускать.
– Это за что же?
– Жидковат, видать. Основательности мало. Значительности… Этакой мировой скорби в глазах. – Посланник, склонив набок голову, изображает скорбь. – А откуда, скажите на милость, взяться ей, скорби-то мировой, если беспардонную головушку мою редко посещают мысли о бренности?
К Ленинградке обращается, на Ленинградку глядит, а сам ни на миг не забывает о сидящем рядом немногословном существе с белой шейкой и прохладными от волнения руками.
– А как у вас с бренностью? – понизив голос, обращается к молчунье.
Пригородная Девушка тихо улыбается; полные, небольшие – Посланник любит такие – губы слегка подкрашены. Секунду или две смотрят в глаза друг другу – о господи!
Не люблю театра… Не люблю георгинов… Все как настоящее, а запаха-то нет, мертво. К женщинам тоже не испытываю доверия. Не зря затворники – подлинные затворники, великие, не чета мне, кроту с бинокликом, – бежали в пустыню от прекрасного пола. Чего боялись отважные мужи? Того, что какая-нибудь прелестница разрушит храм, с такими муками возведенный одиноким тружеником? Возведенный не в противовес тому, главному, для измерения коего у Шестого Целителя не отыскалось рулетки, а в уподобление ему.
Я не строю своего, довольствуюсь тем, что есть, благо места в нем для всех хватит. Рулеткой не обойтись тут, и не потому, что коротка, – можно и подлинней взять, – а потому, что, извините, круг. Не прямая, по которой, вытаращив глаза, летит Посланник (и сейчас летит, к Пригородной Девушке, что обернулась, как лебедь, воспитательницей детского сада; «Коллеги, значит! – радуется профессор новому приближению. – Молодежь пестуем!»), – не прямая, а круг. Нет, вовсе не парадокс – кривизна пространства, не математическая абстракция, не фокус физиков, а очень даже реальная штука. Иначе как бы, спрашиваю, воспитанник китайских тетушек оказался у останков деревни, не зафиксированной в данной местности? Откуда, спрашиваю, взялся б на ресторанной эстраде скрипач с размалеванной рожей, в бойницах которой ходят прицельно черные зрачки? Пропонад! Конечно. Пропонад, собственной персоной, оппонирует же ему, срываясь на дискант, флейтист с буйной растительностью на лице. Здравствуйте, Борода!
Скоморохи на эстраде, скоморохи за столиками… Вот коверный в замшевой курточке говорит что-то клоунессе, и та смеется, не раскрывая рта, потому что рот полон; а вот, склонившись к партнерше, витийствует арлекино с кошачьими усиками. Нос у партнерши несколько длинноват, но арлекино не замечает, не до того. Забавной историйкой потчует – о студенточке, которая, удрав из дому, поселилась тайком в деканате. Ему-то что, развлекается, а я все еще ощущаю прошедший сквозь его светлость и ужаливший меня взгляд…
Как там она? Сняла валики с дивана, укладывается? Нет, рано – Совершенномудрый не пробил еще.
На сцене – антракт, опустела, лишь микрофоны торчат, как волосики на матерчатой голове усталого клоуна, зато в зале – представление в самом разгаре. Вдохновенный монолог импровизирует коверный в замше – о борьбе, о великой, о величественной борьбе, которую вели не на жизнь, а на смерть бог с дьяволом.
– Почему – вели? – интересуется подруга. – Разве борьба закончилась?
– Давно!
– И что же теперь?
– Ничего. Эпоха постскриптума. Ты не чувствуешь, что живешь в эпоху постскриптума?
Вкус оливок, прохладный и нежный, – вот что чувствует Ленинградка, и внимательный Посланник кладет ей три влажно-зеленые бомбочки. Но оливки не устраивают захмелевшую интеллектуалку, ей, видите ли, хочется знать, кто же в таком случае победил. (Пригородная Девушка – та первозданно трезва и к метафизическим вопросам равнодушна, за что доктор диалектики готов расцеловать умницу.)
– Не видишь – кто? – Дизайнер обводит маленькой ручкой дымный, гомонящий, приправленный запахом горелого масла зал. – Знаешь, как хотели сперва назвать эту забегаловку? Ресторан «Юбилейный». Отлично, говорю, но тогда пусть оформляет Парковский.
– Не знаю Парковского, – пожаловалась – не без удивления – невская жительница.
– Есть такой. Филя Парковский, сюрреалист. А деньгу официозом зашибает. Вот, говорю, пусть и делает ваш «Юбилейный». Портретами вождей расписывает.
– Сюрреалистическими? – вставил Посланник и подлил Пригородной Девочке пепси.
– Фиг! Сюрреалист он дома… Дома мы все сюрреалисты.
– Не согласились? – наполняется гордостью подруга художника. Ради такого мужчины – пусть и невелик ростом! – стоило трястись в поезде.
– Поерзали, почесались. А какое, спрашивают, вас устроило б название? Никакое, отвечаю. Пока – никакое. Ребенок, говорю, сперва родиться должен.
Бабушка Рафаэль – ее уроки. Чему-то да выучила скромника с заднего стола – единственного, кто не претендовал на карьеру живописца. «Какой, – морщился, – из меня художник!» Отступал, не дожидаясь боя, выкидывал триумфально белый флаг, и ублаженная судьба не возила его, как других, мордой о землю. Вон какое целое, какое гладкое, какое сохранившееся лицо, благородно конвоируемое посеребренными баками! О фельдмаршал Кутузов! О искусство отступления – величайшее из искусств! «Сизиф – дурень, вовсе не тащить надо камень в гору, обливаясь потом, а легонько так, играючи, сталкивать мизинчиком вниз». И, демонстрируя, вытягивает мизинец, который, конечно, мал, зато с предлинным, ювелирной обработки, ногтем…









































