Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
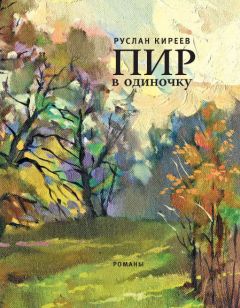
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Тропические девочки заливаются, но что ему сейчас тропические девочки! Что ему шейка (шейка прелестна), что Дизайнер и праздник вчетвером! Сейчас же, не заезжая в Колыбель (успеет к Ученому), отправится в «Кашалот» и известит земляка, который от удивления выронит кисть, что сегодня, увы, занят.
На пиалу с ананасовым компотом садится пчела. И ты здесь, родимая? Летают пчелы, звенит посуда – как фанфары, сияет тропическое солнце, и на тропическом дереве золотится плод. Я любуюсь Посланником – да, любуюсь, хотя понимаю, мудрый, как хвостатая искусительница, что послан он вовсе не тем, о ком толковал с рентгеновской улыбочкой на лице обреченный философ.
В коридоре диалектика догоняют.
– Послушайте! Вы серьезно?
– Еще как! Если н-надо, могу официально написать, что отказываюсь. Надо?
– Нет-нет! Писать ничего не надо. Но, ради бога, подумайте хорошенько. – Хозяйственная женщина! Практичная женщина! – Секст Эмпирик в конце концов не уйдет, а ваша…
– Вы – чудо! – перебивает учтивейший из авторов. – Мне повезло, что у меня такой редактор. Но еще больше повезло Три-a. Это я так, – сообщает доверительно, – Астахова зову… Я звякну! – И, чмокнув пухлую ручку, устремляется между опрокинутых столов к выходу.
Признаюсь, не ожидал от педанта такой прыти. Не ожидал, хотя он, конечно, скрывает, что педант, что душа его улыбается, когда он отчаливает – или причаливает! – на бесшумном своем корабле ровно в такой-то час, под аккомпанемент «Маяка», лучшей музыки в мире, скрывает, что старомодно обязателен и обязательность эта доставляет ему массу хлопот. Вот и сегодня два узелка вспухло: яблоки для Кафедры Иностранных Языков и билеты на «Тристана».
Запустив двигатель, проворно очки надевает, бросает на часы быстрый взгляд, но не ждет счастливого расположения стрелок – нет, не ждет, – срывается сразу. Так-с! Протерев биноклик, устраиваюсь поудобней.
Если глубокой ночью, когда спит безмятежно поселок Грушевый Цвет, когда ненадолго затихает железная дорога и даже собак не слыхать, а набегавшийся, вернее, наездившийся за день Посланник дрыхнет без задних ног, – если в этот укромный час поднапрячь слух, то можно различить умолкшие давно голоса, шелест листвы, многократно сопревшей (перегнив, снова возвращается в зеленые кроны), узкий шорох велосипедных шин… Можно различить скороговорку китайских тетушек, всполошившихся при виде пасечника за окном, и шуршанье задергиваемой шторки, и легкий стеклянный звон в буфете, за который прячется перепуганный малыш. (Ибо по его душу, знает он, явился человек без лица.)
Буфет стоит посреди комнаты, разделяя ее надвое, и помогает ему в этом ширмочка, которая постоянно перемещается. То в одну сторону, то в другую… Но ширмочка – ладно, тут особой ловкости не требуется, а вот как тощие, сухие, плоскогрудые воблы, причем не в паре, а каждая по отдельности, да еще украдкой, исхитряются сдвинуть с места массивный буфетище?
Посудой набит он, цветными коробочками, пачками соли, склянками, а также наволочками с крупой. На каждой пачке и на каждой наволочке красуется выведенный химическим карандашом вензель: Ли (с точкой) и Лю (тоже с точкой – знак сокращения). Лишь на бумаге, какой закатываются банки с вареньем, имя выводят полностью, сразу превращаясь из таинственных китаянок в русских баб. С годами надписи выцветали, а варенья покрывались плесенью: за зиму не съедали все, летом же тем не менее варили новое, бдительно следя друг за дружкой: упаси бог, если Ли заготовит больше Лю!
Старинный, изъеденный древесным жучком буфет, который фигурирует в моих бессонницах как буфет китайский, тоже был предметом распрей. И так ставили его, и эдак, но все равно, чтобы взять что-либо или что-либо положить, какая-то из сестер ступала на вражескую территорию. Делать нечего, пришлось две или три дверцы наглухо запереть, а в задней стенке проломить дыру. Во дни перемирия ее заделывали картонкой – о, счастливые, хоть и недолгие дни! – но едва военные действия возобновлялись, буфет опять работал на два фронта.
То же самое – племянник. Ни в коем случае, усвоил пострел, нельзя передавать тетушке Ли дурных отзывов о ней тетушки Лю (и наоборот), а вот о хороших информировать надо. Не специально, а как бы мимоходом, к слову. Никогда не поддакивал, если одна сестрица, гневно косясь на шкаф, говорила о другой плохо, защищать же – защищал. Тоже мимоходом вроде бы, тоже к слову, на ощупь пробираясь: ничего? Можно?
Иногда оказывалось: нельзя, рано еще. Тетки сердились, вернее, начинали сердиться, юный же миротворец, заслышав глухой вздымающийся гнев, виновато глазами хлопал, вздыхал и сжимался. Вот какой он еще маленький! Вот какой он еще глупенький! Гнев опадал. Не обрушивался, как обрушивается с грохотом океанская волна, достигнув критической точки, а именно опадал, оседал, изливался ворчливо безобидной струйкой.
Это мирное журчание тоже не сгинуло во времени; как и прежние голоса, его можно обнаружить в пространстве грушецветной ночи, только что Посланнику и голоса эти, и журчание! На другие звуки, дневные, настроено чуткое ухо автомобилиста…
Притормозив, спрашивает у женщины («Я предпочитаю иметь дело с женщинами»), не знает ли она, где здесь рыбный фирменный магазин. Новый. «Кашалот» называется.
Не сельдью пахнет, не копченостями и не морской капустой, а сухими кукурузными стеблями, что вытянулись у стены небольшим штабельком. Посланник с беспокойством осматривается – туда ли попал? Кажется, туда: посреди зала громоздятся друг на дружке белые витрины-холодильники, еще мертвые – под стеклом бумага желтеет.
– Э! – бросает в пространство, а взгляд задерживается на новенькой телефонной кабине, тоже мертвой: вместо аппарата торчат, как бараньи рожки, розовые провода. – Э! Есть ли кто живой?
– Никого… – Дизайнер, его голос. – «Проктит», – прибавляет загадочно.
– «Проктит»? – Другой голос, незнакомый. – Это еще что за зверь?
– Хищный, Сережа. В заднице обитает.
Профессор морщится. Не любит профессор вульгарных слов, но – делать нечего! – плывет на звуки человеческой речи.
Два обглоданных рыбьих скелета – две стремянки – высятся в залитой солнцем комнате. На одной – тазик вверху, сияет празднично, на другой белеет, как одинокий парус, бутылка с молоком. Внизу сидят на стремяночных ступеньках друг против друга товарищ юности в вельветовых брючках и рыжий детина в синем комбинезоне. На полу между металлических ножек – доска с фишками.
– Приветствую, – вскидывает диалектик руку, – мастеров скрэбла!
Дизайнер пружинисто подымается.
– «Стяг», – бросает напарнику, гостю же протягивает маленькую вялую ручку. «Что случилось?» – вопрошает взгляд.
Профессор берет товарища юности за локоток в замше (замша тонка, мягка: чудо – выделка!), а человека в комбинезоне одаривает улыбкой.
– Не рассердитесь, если на секунду умыкну вашего соперника?
Вдохновенный игрок не слышит вопроса.
– «Иммунитет», – делает ответный ход. – С двумя «эм».
– «Макрель», – парирует Дизайнер. – С одним «эм»… Беру, – объявляет, – тайм-аут. – И тихонько увлекает приятеля из стремяночной. – То Сережа, специалист по холодильным установкам… Вот этим как раз, – барабанит костяшками пальцев по витринам, которые гулко отзываются пустотой, солнцем и будущим инеем. Сам же продолжает пытливо всматриваться.
Посланник смиренно информирует, что приглашен на день рождения.
– К ректору? «Макрель» с одним «эм»…
– Ректор перебьется, – не принимает вызова миролюбивый атташе. – Сегодня пятьдесят лет Три-а.
Замшевые, под цвет курточки, брови лезут вверх. Подпрыгивает, садится на выступающий край витрины, ножками болтает.
– Тра-та-та, – поет. – Тра-та-та…
– Тра-та-та, – соглашается Посланник.
Ножки замирают.
– Но ведь они приехали уже. Звонили утром.
– Надеюсь, – улыбается доктор диалектики, – на супругу не попали? Или они звонили из этого телефона? – Показывает на кабину с розовыми рожками.
Дизайнер не реагирует. Поверх кукурузных стеблей глядит, на голую стену, которую еще предстоит расписать салакой и золотыми кальмарами.
– Стрекоза была утром, – делится чистосердечный профессор. – Устраивает вечер памяти… А у меня, – кается, – из головы вон.
Правдив и смиренен. Таким любят его добродетельные коллеги, а я, признаться, не люблю, мне скучно. Куда, право, занятней наблюдать, как охмуряет гаишника (груши! груши были бесподобны), как играет с рвущимся в профессора специалистом по надзору (сорок минут до Ученого совета), как, респектабельный автор, прыгает, к ужасу хозяйственной редакторши, в омут самопожертвования.
– Она кто сейчас? Блондинка?
Доктор в недоумении. В недоумении доктор, но – миг, один только миг, не дольше. У него быстрый ум – не чета моему! – а вот наблюдательность, в которой моя темность не уступает его светлости, дала на сей раз осечку. Хорошо помнит, как наклонялся к крашеным волосам, помнит аромат французских духов – о, Париж! – цвет же, хоть убей, не запечатлился.
– Да вроде бы, – фантазирует, – такая же как всегда.
– Всегда… – По губам художника скользит улыбка. – Она всегда разная.
И тут, к моему, каюсь, удовольствию, джентльмен и диалектик не удержался.
– Тебе, – молвил, – лучше знать.
Друг юности принял удар не поморщившись. Вот только глаза, что высматривали на голой стене золотых кальмаров, немного сузились.
– «Атрибут!» – завопил незримый Комбинезон. – «Атрибут», слышишь?
– Слышу, – тихо ответствовал знаток бывшей триановской жены. А затем гаркнул – да так, что я вздрогнул в своем убежище. – Сдаюсь! Считай бабки!
Посланник – тот не вздрогнул; стоит, усики поглаживает.
– Ничего, – утешает, – сэкономишь на сегодняшнем вечере.
– Столик заказан… На четверых.
– Тогда изволь! – И за бумажником лезет, но приятель покачивает отрицательно головой.
– Они ведь приехали уже…
– И звонили, – подхватывает развеселившийся атташе. – С Ленинградского вокзала.
Мастер дизайна спрыгивает с витрины – упругий, как мячик, и, как мячик, бесшумный. Вот разве что не подскакивает, а словно бы приклеивается к выложенному плитками полу.
– Представь себе, с Ленинградского! А вчера я звонил. И позавчера… А теперь что? Прикажешь объявить: пардон, девочки, все отменяется, нынче у моего друга более важное торжество?
– Во-первых, – мягко уточняет профессор, – не торжество. А во-вторых, действительно важное.
Сунув руки в вельветовые кармашки, художник подымается на носки – невысокий, зато упругий, жилистый, в затвердевшей, как кольчуга, замше. В глазах с тяжелыми надбровьями (женщины любят такие) играет зеленый огонь.
– Ты прав, дядя. Три-a чмокнул бы тебя в лоб.
– А ты?
– А я – старый, задрипанный потаскун, которому не за бабами волочиться, а пить кефир. Что я и делаю.
– Вижу… На стремяночке стоит.
– То не кефир. То молоко за вредность… Итак, что прикажешь сообщить ленинградским мадоннам?
Сам же пружинится, растет – дымок, дымок курится над раскалившейся головой. Мой пожарник, остужая, ласково обнимает приятеля.
– Ну, будет, землячок, будет. Что-нибудь да скумекаем. В котором часу у нас?
Пружина замирает, но не расслабляется, ждет.
– Не валяй дурака. Ты отлично помнишь: в восемь, у «Скоморохов».
– Помню, землячок, все помню. Только, Христа ради, не дымись. А то сгоришь, как Три-a, и мне без тебя будет скучно.
Вот теперь расслабился.
– Значит, все, как условились?
– Разумеется! Ты ведь знаешь – я человек надежный.
– Еще бы! – Опал, обмяк, и звонкая кольчуга превратилась опять в тихую замшу. – Изучил как-нибудь за тридцать лет.
За тридцать три! В сентябре, уточняю (секретарь все-таки), исполнилось тридцать три, как увидели друг друга. Сидели, безымянные, в заднем ряду – бабушка Рафаэль, устанавливая гипсовый бюст, предложила еще перебраться поближе.
Отказались… Пусть другие поближе – им и здесь хорошо. Смолоду уступать умели – и уступать и отступать, что хоть и не совсем одна и то же (теоретизировал впоследствии оформитель «Кашалота»), но – родственно.
– А Три-a? Может, – осеняет творческого человека, – на кладбище смотаемся? Прямо сейчас? Ты на колесах?
О, великое искусство отступления! О фельдмаршал Кутузов! Не зря кольчугой чуть что оборачивается замша на груди – Комбинезон еще расшибет об нее лоб.
– Смотаемся. Только не сегодня. Через двадцать семь минут, – на часы глядит, – у меня Ученый совет.
– А после?
– После я должен заскочить в одно место. Тоже к вдове, кстати говоря.
– Молодой?
– Относительно. Восьмой десяток разменяла. Славная, между прочим, старуха. – Не без некоторого пафоса, что означает: не иронизируй, землячок! Это серьезно. – Кукурузка-то зачем? – кивает на желтые стебли. – Для хижины рыбака?
Дизайнер уклоняется от ответа – секрет мастера. Все в дело идет: пряжки для женских поясов, погоны, деревянные катушки из-под ниток, пластмассовые разноцветные расчески, консервные крышки – как из белой жести, так и желтой, шифер, битое стекло и целехонькие бутылки. Другие профессионалы канючат: вынь да положь им оформительского деликатеса, желательно импортного, а фельдмаршал обходится отечественным мусором. (За исключением, разумеется, собственной квартиры.) Тем заковыристей его антуражи. Тем ошеломительней витрины и эффектней панно, не говоря уже о прохладной, с крашеными полами террассе в Грушевом Цвету, которую друг юности – в порядке презента на дачное новоселье – загримировал под кавказскую саклю. Кинжал, подковы, конское седло… Мой дуралей улыбался да поцокивал языком – почти гарцевал, горец с усиками.
– Итак, в двадцать ноль-ноль, у «Скоморохов».
Горец! Настоящий горец!
Гарцевать-то гарцевал, но не прошло недели, как вся кавказская дребедень переехала на чердак, куда его светлость предпочитает не заглядывать. Слишком темна, видите ли, лестница. Слишком узка… А я ничего, вскарабкался – лишь поскрипывало седло в руках да позвякивали подковы и прочий сценический реквизит. Не люблю театра – да простит меня посланникова супруга. (И дочь тоже.) Не люблю их театра: шкатулка какая-то, искусственный свет, пять-шесть лицедеев… То ли дело – мой, с гигантской сценой на миллион актеров и одним-единственным зрителем!.. Не люблю театра и рафаэльства не люблю – предпочитаю живопись без холста и кисти. Особенно по вечерам, когда разбухшее солнце грузно опускается за макушки сосен, черных на фоне жидкого металла. (Это тебе не золотые кальмары!) Утром – иная подсветка, и сосны иные, тоньше и ниже, будто помолодели за ночь, и иные – как после дождя – запахи, хотя не было никакого дождя, земля суха, лишь на траве и кустарниках блестит роса. По-иному звучат в разреженном воздухе птичьи голоса, и даже усталые комары жалят по-иному, не так больно, а другие насекомые, потяжелее, еще только пробуждаются. Спит и хозяин мой, я один, без надзору, но скоро мой тюремщик продерет глаза. Прыгать начнет, махать руками, приседать, вращать туловищем, а после обливаться, фыркая, ледяной водой… По-иному скрежещут ключи в замках, на которые он, уезжая, запирает меня: вечером, когда открывает, не слышно уже в этих металлических звуках утреннего страха опоздать. (Пятнадцать минут до Ученого совета. Посланник прибавил скорость.)
Я не скучаю, оставаясь. Мне хорошо одному, мне вольно, я чувствую себя в безопасности. Замки надежны – уж я-то знаю, как надежны замки, потому что врезал их собственными руками. (Все три. Но он, лукавец, запирает на два.)
Не просто прибавил скорость – превысил, хотя имел уже неприятность с гаишником. И все равно опаздывает! Не он один – вон с развевающейся сивой бородой шкандыбает на подагрических ногах еще один член Ученого совета… Обогнал Бороду – ну, стервец! – но вспомнил про соглядатая с бинокликом и резко – аж колодки пискнули – затормозил. Перегнувшись, распахнул дверцу. Борода не сразу скумекал, что ему распахнули, но пригляделся, сощурившись, узнал коллегу, широко руками развел.
– Батюшки! Вот удача-то, а! Разрешите воссесть?
– Сочту за честь, Иван Филимонович.
– Ну, спасибочко. Ну, выручили! Я бы, старый хрыч, еще час целый телепался.
Втиснулся, кряхтя громко, охая – точно из незримой паутины выбирался. (Или из собственной бороды.) Посланник захлопнул проворно дверцу, накинул ремень на пассажира.
– О Господи! – запричитал дед, мягко отброшенный на спинку сиденья. – Как в аэроплане… Не опоздаем?
– Опоздаем, Иван Филимонович! Непременно опоздаем.
– Да вы что, дорогуша! Я отродясь не опаздывал.
– Всегда опаздывали, – резвился мой весельчак. (От радости, понимаю я. От радости: доброе дело сделал.)
Старик повернул плешивую голову.
– Неужто всегда? – Потеребил в честной задумчивости бороду, которой еще год назад и в помине не было, к семидесятилетию отрастил, и признался как на духу: – Вы правы, был грех. Был, был, и не раз… Но ведь и вы, – погрозил пальцем, – тоже!
Наговор! Чистой воды наговор – если, конечно, сегодняшней лекции не считать, когда из-за Стрекозки задержался. Но спорить не стал, покаялся:
– И я.
– А ведь аккуратистом были! Бо-олыпим аккуратистом! Я же вас, хороший мой, еще студентиком помню.
– Спасибо, Иван Филимонович.
– За что? За то, что помню? Да я всех помню. Так что не воображайте, уважаемый профессор, что почитал вас самым талантливым. Никак-с нет, не почитал. И здесь грешен.
– Какой же это грех, Иван Филимонович? Это правда.
– Ой, бросьте! – снова погрозил правдолюбец. – Не гневите Бога. А то ведь рассердится, неровен час.
Бывший студент поправил шоферское зеркальце.
– Талантливым, Ивам Филимонович, знаете кто был? Толя Астахов. Помните Астахова?
– Да вы что! – сорвался на фальцет Борода. – Издеваетесь над стариком? Астахова не помнить!
Сивая растительность шевелилась на пухленьком лице, а из сумрака глазниц сверкали, как из грушецветной ночи, окуляры театрального биноклика. Студент еще подправил зеркало.
– Сегодня Толе пятьдесят лет.
Личико сжалось, сморщилось, спряталось в буйных волосах.
– Боже праведный – пятьдесят! А я все еще жив, тухлая кочерыжка. В лимузинах раскатываю…
Впереди молоковоз тащится, бледно-желтая цистерна с четырьмя синими цифрами. Сложив их, Посланник, адепт круглых чисел, получил ровно двадцать. Борода, незряче упершись взглядом в счастливый номер, разглаживал на челе морщины.
– Октябрь?.. Нет, ноябрь. Ноябрь, да! – Но на всякий случай обратился за подтверждением к бывшему студенту. (Любил к молодежи апеллировать.)
– Не могу знать, Иван Филимонович.
– Ноябрь, – закивал сосредоточенный старик, – ноябрь… Или март? Ну, черт с ним, не суть важно. Главное, снег с дождем, а он в клоподавах каких-то, на босу ногу.
– Как Русалочка, – слетело с развеселившегося – круглое число! – языка.
Борода не расслышал: то ли в ноябрь свой уплыл, то ли в март, когда с тяжелого неба сыпался мелкий дождь вперемежку со снегом, под ногами хлюпало, а Три-a (конечно, Три-a! Как сразу-то не сообразил? В досаде на молоковоз – прочь с дороги, прочь! – ударил ребром ладони по сигнальному кольцу), – а Три-a, устремив в пространство небесный взор, шлепал по холодной слякоти в дырявой обувке.
– Вы ведь о Толе Астахове?
– Ась? – встрепенулся Борода.
– Об Астахове говорите? Без носков который?
Старик крякнул, почесал раздумчиво плешь.
– Да носки-то были. Были носочки, были… В кармане!
Что-то забулькало в древней глотке, зазвенело ржавым колокольчиком – смеялся! Смеялся, а биноклик следил: ну-с? Не умора ли?
– В кармане?
– Представьте себе! – И сжал – совсем как Посланник– посланников локоток. – Вытаскивает – это на улице-то, при всем честном народе: вот, Иван Филимонович, имеются носочки. А чего ж, спрашиваю, они у тебя в кармане, а не на ногах? А потому что, отвечает и улыбается… Вы ведь помните, как улыбался он?
– Еще бы!
– А потому, говорит, что в кармане сухо, а там сыро.
Ну-с! Не умора ли?
Посланник не засмеялся, однако. Я думал: засмеется – по всем дипломатическим протоколам должен был засмеяться, – а он лишь воспитанно кивнул: согласен, умора, но смеяться не стал.
– Да разве, – возмутился патриарх высшей школы, – можно было так – с его-то здоровьем! И ведь не бедствовал! На башмаки, во всяком случае, заработать мог. Тут, доложу я вам, другая штука. – Набрал полную грудь воздуха, подержал и шумно, прерывисто выпустил. – Не знаю, каково ваше просвещенное мнение, а мое таково: молодой человек сознательно губил себя. Соз-на-тель-но! – пропел старик дискантом, подняв палец.
Молоковоз выбросил красный свет: тормозил. Посланник повернул зеркало, аккуратненько сдвинув в сторону ждущее ответа волосатое лицо, и, убедившись, что машин нет сзади, так же аккуратненько обошел цистерну.
– А кое-кто, – просипел Борода, – помог ему в этом.
Вновь к зеркалу потянулась медлительно-напряженная рука, вправила на место изгнанную физиономию.
– Вы имеете в виду?.. – И вопросительно смолк.
Путь теперь был открыт, однако на газ не особенно жал, хотя Ученый совет шел вовсю и Кафедра Иностранных Языков вопрошала, потирая сухонькие ручки: где это аккуратист наш?
– Вы знаете, кого я имею в виду. Зна-аете, – опять на дискант съехал, – зна-аете…
– Жену? Она, кстати, была сегодня.
Борода оскорбленно замахал руками.
– Да вы что! Да упаси меня бог! Этакий грех на душу брать… Чужая семья – потемки. Со своей бы разобраться… Пропонад! – пискнул. – Ваш Пропонад!
Автомобильный ас, расслабившись, прибавил скорость.
– Чего это – мой?
– А чей же? Мой, что ли? – Вы – заведующий кафедрой, он – ваш подопечный. Формально, во всяком случае. Разве нет?
Последний перекресток… Зеленым глазом мигает светофор; проскочим, думает материалист-диалектик, или не проскочим? Если не проскочим, то… Но загадать не успел – махнул на желтый.
– А знаете, – скосил на зеркальце хитрые глаза, – что происходит в данную минуту?
– Да уж ничего хорошего. За дисциплину небось распекает. Пропонад-то ваш!
– Не распекает. Молчит, потупив взор. Ибо, – заговорщицки прищурил око. – обзаводится профессорством. На том самом Ученом совете, куда мы с вами, Иван Филимонович, благополучно опаздываем.
Старик заволновался.
– Я выступлю. Выступлю и скажу все. Хватит, намолчались… Я не о вас – вам жить еще, работать. За женщинами ухаживать… А я уж одной ногой там – пора о душе подумать… Выступлю! Выступлю непременно… Почему мы стоим?
– Потому что приехали.
Но рук не убирал с нагретого солнцем бугристого пластика. На пассажира глядел – тот дергался привязанный к сиденью, словно выбирался из незримой паутины. (Или из собственной бороды.) Глядел как в зеркало – толстое мутное зеркало времени, вот разве что не внука видел с усами-сливками, не себя прежнего, а себя будущего. Бородатого паяца, что, потешая публику, пляшет на одной ножке. (Другая – там уже.)
Вообще говоря, к зеркалам мой артист всегда был по-дамски неравнодушен. Хоть беглый да бросит взгляд, проходя мимо (вот и сейчас украдкой от Бороды мазнул взором по вестибюльному зеркалу), я же терпеть не могу рассматривать собственную физиономию. Стекло с посеребренной изнанкой, да еще в раме – изобретение обезьянье. Реквизит фокусника из рыночного балагана, иллюзионный аппарат, который имитирует мир, хотя мир в подобных услугах не нуждается. Он сам воспроизводит себя, причем не в качестве призрака, не в виде фантома, а во плоти, с той изменчивостью и теми отступлениями от оригинала, какие отличают подлинник – всякий раз непредсказуемо новый – от послушной копии. Так, яблоня, краснобокие плоды которой развозит по городу мой добрячок, – не просто продолжение вениковского дерева, уже отжившего свое, но еще и плоть дерева несостоявшегося, обезглавленного на третьем году жизни, когда, проснувшись от зимней спячки, слепые и доверчивые корни принялись гнать по тонкому стволу прохладные соки. Увы, чужаку достались они, подкидышу, что, ожидая своего часа, два месяца пролежал на холоде в тающем снегу. Но расползся, ушел в почву снег, но зашевелилась трава, муравьи забегали и прокололи землю бледные иглы тюльпанов. Тогда теплые руки взяли обеспамятевший черенок, внимательно осмотрели, подрезали и крепко припеленали мочалом к свежей культе.
Первые же капли влаги привели сироту в сознание. Посвежел, позеленел, засосал что было сил (слабое чмоканье нарушило тишину июньской ночи) и наконец медленно расправил почки, зачатые еще там, у заброшенного кладбища в дальнем лесу… Пяти лет не прошло, как вздумал зацвесть, но моя темность выщипала полураспустившиеся бутоны. Нельзя такому малышу, вредно. Пусть подрастет, пусть поднаберется силенок, хотя кое-кому и не терпелось начать раздаривать солнценосные плоды. От своего, разумеется, имени… Вот и Кафедру Иностранных Языков заверяет, что не забыл утреннего обещания. Из чего следует: опоздал, да, но не такой уж, видите, вахлак. «За молоковозом тащились. Вы ведь знаете, как возят у нас скоропортящиеся продукты!»
Впереди и чуть наискосок – женщина со змейкой. В тонких, черных, смиренных заколками волосах белеет ушко. Ах, как притягивает оно моего командора, но командор отворачивается, в декана вперяет взгляд. Что-то о свободном посещении говорит декан и все к Пропонаду обращается, к Пропонаду, который сидит в черном костюме справа от ректора. (Правая рука!)
Снова к Иностранным Языкам наклоняется зоркоглазый наблюдатель. «А с утра-то – заметили? – в голубом был!»
Пергаментным пальчиком грозят Языки: шутник! Ох, шутник! А от самой (Посланник отодвигается) холодком веет – как от вениковской вросшей в землю плиты… Как от тетушки Лю, когда тетушка Лю слегла, чтобы никогда больше не подняться.
Сестра ухаживала – все-таки ухаживала! – но при этом давала понять, что не очень-то верит, будто так уж прижимает. «Да ты, – сердилась, – дыши, дыши!» – «Нечем», – стонала умирающая и показывала рукой, чтобы ее выше подняли. Еще выше. Вот так…
Племянник, как раз приехавший на каникулы, подымал, удивляясь про себя, как тяжела, однако, а сестра подкладывала подушку. И при этом не спускала с угасающей воительницы настороженно-внимательных глаз. «Кипяточку, что ли?» Считалось, кипяток помогает, когда задыхаешься – если понемногу, маленькими глотками… Тетушка отрицательно двигала головой. Упрямилась – значит ничего еще, терпеть можно. И вдруг запросила. Сама! Вскочив, племянник налил из термоса, аккуратно к губам поднес. Больная сделала глоток, и напряженное, темное, с неодинаковыми бровями лицо разгладилось. «А где?..» – произнесла. Имени не назвала – сестры никогда не называли друг друга по имени, но он понял, о ком она, и объяснил, что вышла, скоро вернется. «Самолет в одиннадцать?» – спросила вдруг тетушка Лю.
Удивленно ответил он, что да, в одиннадцать, но это когда еще будет! В воскресенье… А сегодня четверг. Слышишь, сегодня четверг? «Слышу, – сказала старуха, не открывая глаз. – Четверг». Но сама уже там была, в неотвратимо надвигающемся воскресном дне, когда пахнущий столицей каникулярный мальчик бодро чмокнет ее на прощанье – пока, тетя! – и все, больше не увидятся.
Мальчик не чмокнул. Крадучись уходил, на цыпочках. «Заснула, кажется… Не надо беспокоить». И остающаяся жить тотчас согласилась: «Не надо!» Не только буфет был предметом распрей и дележа – племянник тоже. Каждая следила ревниво, не перепало ли другой больше внимания и любви.
Крадучись уходил, на цыпочках – как уходят из опасного места, где все вроде бы тихо и мирно, больная, впав в забытье, ровно дышит – он постоял, вслушиваясь, – но в любую минуту может грянуть гром. (Как на заседании ученых мужей, что рассеянно внимают про свободное посещение.) Даже в аэропорту, ожидая посадки, с тревогой вслушивался в дикторскую скороговорку. Не задержат ли? Не перенесут? Не придется ли возвращаться под сень китайского буфета и старинных часов, уже давно молчащих, чему он никогда не придавал значения, – молчат и молчат, – но теперь это выглядело грозным предзнаменованием. Минуло несколько лет, прежде чем безымянный и мудрый (Совершенномудрый – коль уж на китайском буфете стоял) хронометр попал в руки Затворника, вдруг обнаружившего в себе талант часовых дел мастера.
Борода сзади пристроился, на откидное сиденьице; кто-то вскочил, чтобы уступить место, но демократичный патриарх замахал руками. Посланник не оборачивался – у Посланника отменная выдержка! – но всем телом чувствовал изготовившегося к бою старца. (Так я чувствую в предрассветной тиши и оцепенелость сосен в ближнем лесу, и предсмертное потрескиванье вениковских яблонь в дальнем, и голодное скольженье пробудившегося карпа в грушецветном пруду, где мой доктор – нет, тогда еще кандидат! – рыбачил когда-то со своим опекуном и наставником.) Посланник не оборачивался, но слышал, как воинственно крякнул Борода, когда ученый секретарь назвал в качестве соискателя Пропонада и принялся зачитывать анкетные данные.
– А про скрипочку-то ни слова! – ехидничает шепотком Кафедра Иностранных Языков. – Утаил – про скрипочку-то?
– Все мы утаиваем что-то, – обобщает элегический тюремщик и невольно бросает взгляд на женщину со змейкой. Хоть бы один седой волосок! И кожа свежа, как четверть века назад, когда смятенный аспирант запечатлевал карандашом прекрасный образ. И запечатлел, кудесник, остановил во времени; ничуть не постарела за долгие годы, что вызывает у ценителя женской красоты не гордость, а легкую, как ни странно, досаду.
Иностранные Языки зевают: боже, как много бумаг! Но вот, отшелестев последней, секретарь садится. Есть ли, вопрошает ректор, вопросы к соискателю? Не подымаясь вопрошает, ибо уверен: вопросов нет, и тут, как выстрел, хлопает сиденье.
– Разрешите?
Опередил старик!
– Пожалуйста, Иван Филимонович.
– Благодарю вас! – Борода трет ладошкой лоб, вздыхает, губами жует. – Вопросик вообще-то несколько косвенный. Но не совсем… Не совсем… Что имеет сказать почтенный соискатель о некоем Анатолии Астахове, царство ему небесное?
– Астахов? – морщится от напряжения ректор.
– Именно Астахов. Анатолий… По батюшке забыл. Ну, неважно. Анатолий Астахов. Вы не работали тогда, вы не знаете.
– Александрович, – произносит скрипач, приоткрыв губы, но лишь с одной стороны: в длинный вытянутый треугольничек превращается рот.
Борода, отгораживаясь от распахнутых на шумную улицу окон, прикладывает ладонь к уху.
– Ась?
– Александрович. Астахова звали Анатолием Александровичем.
– Прекрасно! – взвизгивает старик. – Замечательно! Такая память – не поведаете ли нам, раз так, о подробностях ухода Анатолия Александровича из аспирантуры?
Черный треугольничек вновь вытягивается, зато все остальное – мертво и непроницаемо, лишь ходят, как в бойницах, сузившиеся зрачки.
– Астахов не учился в аспирантуре.
Сунув палец в ухо, старый шут энергично вертит пятерней.
– Простите?
Треугольничек расширяется.
– Анатолий Александрович Астахов в аспирантуре не учился.









































