Читать книгу "Stabat Mater"
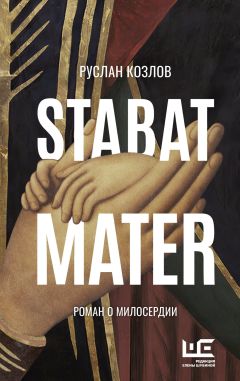
Автор книги: Руслан Козлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Впрочем, зря я так – ведь и искреннюю радость за меня можно было уловить в его голосе.
В этот храм я был введен два года назад.
Так же, как сейчас, Великим постом, ранней, слякотной весной я оказался здесь, на окраине Москвы, в трех кварталах от хосписа, в Свято-Никольском монастыре. Тогда начиналось его восстановление, и рабочие нашли лари со старинными книгами, замурованные в тайниках вместе с серебряной утварью и иконами. Несколько дней я работал в монастыре – составлял описи, отбирал все ценное для Синодальной библиотеки, нашел, помнится, уникальный патерик семнадцатого века, два рукописных Евангелия на греческом – таких старых, что и век не определишь, а еще – копию указа Екатерины о закрытии монастыря с чьей-то чиновничьей подписью, которую я поначалу с радостным азартом архивариуса принял за подпись самой императрицы…
В последний день, когда я уже опечатывал находки, ко мне в тесную келейку, заставленную архивными коробами, вошел человек – маленький, щуплый, седой и какой-то весь скособоченный. Я уже видел его раньше среди рабочих, заметил, как неуклюже, с трудом взбирается он на леса, и, помню, подумал, что он слишком немолод для работы на стройке. Но человек оказался не строителем, а бригадиром художников-реставраторов и в те дни осматривал наружные росписи монастырских храмов, решая, есть ли надежда спасти их. Он представился Николаем. На мой вопрос об отчестве отмахнулся – дескать, Николай и Николай, никто по отчеству не зовет. Я обратил внимание на его странную привычку оглаживать несуществующую бороду и подумал, что он расстался с бородой недавно. Сейчас его щеки и подбородок покрывала седая щетина, он то и дело проводил по ней руками и собирал книзу, как делают пожилые бородатые батюшки.
Первым делом Николай спросил, священник ли я, и, получив утвердительный ответ, задумчиво кивнул и надолго замолчал. И в этом его молчании, в напряженной позе кособокой фигуры, в остановившемся взгляде было нечто такое, что я не решался поторопить его. Наконец он заговорил, глядя в пол:
– История странная, сам не знаю, как отнестись… Я всю жизнь в храмах работаю, по фрескам… Верующий, конечно… Внучка у меня. Мы с женой с трех лет ее растим. Дочка и зять погибли – авария. Внучке сейчас семь. Уже полгода у нее СГД. Слышали, наверно? Это не лечится. Теперь она тут, неподалеку, в больнице для таких детей… Жена с ней почти все время. А я не могу. Чуть зайду в палату – плачу. Так жалко, вы не представляете… У вас-то есть детки? Нет? Ну, если будут – дай им Бог здоровья и чтоб никогда такое не пережить… И вот три дня назад – сон. Будто я вхожу туда, в больницу, а там вдруг так светло, чисто. И будто все окна открыты и все двери. И нет никого. Я вроде испугался – куда их всех увезли? Иду. Вот палата, где Даша, внучка… Дверь распахнута. Я вхожу, вижу – Дашка там. А в палате – ни мебели, ни кроватей. Дашка стоит в пустой комнате и будто меня ждет… Пижамка на ней детская – та, из которой давно выросла, а теперь вроде как опять новая и впору… И вот я вижу, что в руках у нее чаша для причастий, потир. А она улыбается так тихо, спокойно и говорит: «Это – для меня». И чашу показывает. И еще раз: «Для меня». И я сразу понимаю: надо ее причастить, об этом она просит… И вот в тот же день узнаю! что нужно ехать сюда, в монастырь, смотреть фрески. Приезжаю, вхожу в ворота. Никого. Поднимаюсь в надвратную церковь и вижу: там вы стоите и в руках у вас – потир, один из тех, что в тайнике нашли. Вы так внимательно его разглядывали, что меня не заметили. А я – тихонько назад. И тут все у меня соединилось. Получается, что вы здесь – один священник на всю округу. И больница здесь рядом, в десяти минутах…
Он наконец поднял глаза и посмотрел на меня.
Я спросил осторожно:
– Вы хотите, чтобы я причастил вашу внучку?
Николай кивнул, продолжая смотреть мне в глаза. В его взгляде не было просьбы, скорее – уверенность, что иначе никак нельзя.
К тому времени я был рукоположен недавно. Дважды в неделю служил в маленькой церкви в Замоскворечье на пару с пожилым опытным дьяконом, на котором лежала большая часть службы, – вот и вся практика. Я как-то сразу смутился и, может быть, даже начал отнекиваться, если бы Николай не завел речь о деньгах:
– Я понимаю, это треба, она денег стоит, я заплачу…
И тогда я торопливо замотал головой, замахал руками – дескать, что вы, какие деньги! Только объяснил, что мне нужно съездить в свой храм, чтобы взять запасные Дары, нужную утварь и облачение.
Он сказал:
– Давайте я тогда хоть за такси… – Полез в карман, но я отмахнулся – потом, потом…
Мы условились, что я причащу его Дашу в тот же день.
Уже уходя, он оглянулся и после еще одной напряженной паузы сказал:
– Извините, а имя ваше как?
– Глеб.
– Отец Глеб, я вот еще что… Я тогда за рулем был. Пристегнутый. А они – нет. Я не проследил… Тяжело это все… – Сгорбился еще больше в низком проеме и вышел из кельи.
И вот уже вечером мы с Николаем шли по коридору хосписа.
В первый раз я вдыхал этот воздух – густой, тяжелый, даже не разделяемый на отдельные запахи, а просто весь давящий, гнетущий. В первый раз слышал отчаянный звон на сестринском посту – тревожно-пустом, потому что сестры ушли к тем, кто позвал раньше.
Я был в рясе и клобуке. Хотя без них вполне можно было обойтись. Но как же, я ведь священник, и это – причастие… Из-под рясы выглядывали и шуршали о подол зеленые бахилы. Я чувствовал себя неловко под взглядами врачей, сестер и детей, встречавшихся в коридоре. Больно кольнуло, что все дети смотрели на меня со страхом. Некоторые и вовсе шарахались, как от черного привидения. Тогда я впервые увидел, что в больнице священник воспринимается почти как вестник смерти. С тревогой думал, что сейчас девочка, которую я должен причастить, тоже отшатнется от меня и, может быть, даже от самого причастия…
На груди у меня висела старинная, почерневшая серебряная дароносица, которую мы с молитвой собрали вместе с дьяконом. Он было хотел сопровождать меня, но я сказал, что сам справлюсь.
Перед входом в Дашину палату я остановился, коротко помолился и толкнул дверь. Сердце колотилось так, что я невольно придавил его дароносицей, чтобы утихомирить.
Верхний свет в палате не горел. Слабая лампочка над входом не могла рассеять сгустки теней в углах. Черно-серое небо и черные верхушки елей за окном едва угадывались. Я вдруг словно увидел со стороны, как вхожу в своей черной рясе в эту комнату и делаю здесь все еще темнее. В палате стояли три пустые кровати. Две из них были заправлены, на третьей лежал свернутый матрас. На четвертой ровно, как по стойке смирно, лежала Даша, до груди укрытая одеялом с отвернутым краем белой простыни. Я разглядел: на девочке была белая футболка с короткими рукавами, руки, почти такие же белые, вытянуты поверх одеяла, бледное лицо с закрытыми глазами обращено к потолку. Даша казалась частью аккуратно заправленной постели.
Рядом на стуле, склонившись и уперев локти в колени, сидела женщина в накинутом на плечи белом халате. Услышав, что мы с Николаем вошли, она обернулась. Черты ее лица показались мне восточными – темные брови под темной челкой, черные глаза, крупный нос. Она посмотрела на меня, потом на Николая. Ничего не говоря, качнула головой.
– Опоздали, похоже, – услышал я сзади голос Николая.
И в этот момент Даша зашевелилась. Под одеялом обозначились согнутые колени. Легко, словно кто-то толкнул ее в спину, она села на кровати. Взгляд открывшихся глаз был обращен на меня. То, что секунду назад она лежала, сливаясь с белой постелью, теперь казалось игрой в замри-отомри – будто, подглядывая из-под полусомкнутых век, она только и ждала, когда я войду, чтобы сразу «отмереть». Я увидел, что на голове у нее тонкая вязаная шапочка. Не сводя с меня глаз, Даша поправила выбившуюся из-под шапочки прядь рыжих волос. Я разглядел на ее лице россыпи веснушек – тоже, вероятно, рыжих, но сейчас, при этом тусклом свете – бледных, едва заметных. Ее внимательный, но тихий и спокойный взгляд и это движение, которым она поправила волосы так просто и буднично, в одну секунду изменили все – мрачное, темное, болезненное напряжение исчезло. Так бывает во время пробуждения, когда стряхиваешь плохой, тревожный сон.
Дальше я все делал тоже просто и буднично. Взял из оцепеневшей руки Николая свой баул, достал оттуда парчовый плат и покрыл им пустую тумбочку рядом с Дашиной кроватью. Потом снял с шеи дароносицу и поставил ее на плат. Рядом положил небольшие аналойные крест и Евангелие. Достал из баула черную епитрахиль и надел ее. Надел и замотал шнурами поручи.
Женщина, не говоря ни слова, поднялась со стула и встала рядом с Николаем. Мне показалось, она обошла меня с опаской, сохраняя бо́льшую дистанцию, чем нужно.
Даша сидела на кровати с прямой спиной, держа руки на согнутых коленях. Я видел, какая у нее красивая, по-балетному длинная шея, продолжающая стройную линию спины. Она смотрела на меня с каким-то безграничным доверием, а когда я приблизился, прикрыла глаза и опустила голову. Она наперед знала, что нужно делать. Я накрыл ее епитрахилью и лишь теперь нарушил молчание, произнеся разрешительную молитву. Так же спокойно и просто Даша поцеловала поднесенные мною крест и Евангелие. С молитвой я раскрыл створку дароносицы, положил в маленький потир частицы Тела с Кровью Христовой… Даша сидела все так же прямо, держа ладони на коленях, но стоило мне тихо сказать: «Руки…» – и она сразу поняла, сложила руки на груди крестом. И тогда я прочел «Верую, Господи, и исповедую…» и «Вечери Твоея тайныя…» и причастил ее. А она коротко вздохнула и легла на кровать, но теперь – на бок, положила ладонь под щеку и закрыла глаза – тихо и спокойно, как усталый человек, наконец добравшийся до постели.
А я неторопливо причастился сам, опустошив чашу, потом собрал всю утварь, направился к двери и, прежде чем выйти, остановился перед Николаем и его женой. Они стояли в оцепенении – кажется, так и не шелохнулись за все время. Оба смотрели мимо меня – на спящую Дашу.
– Помоги, Господи, – сказал я им и вышел из палаты.
В коридоре меня догнал Николай.
– Отец Глеб, отец Глеб, – твердил он и пытался что-то сунуть мне в ладонь.
Я молча замотал головой и, наверное, посмотрел на него так, что он смущенно отдернул руку.
Николай был вроде как не в себе, шел рядом и вполголоса бормотал:
– Да что же это… Да как же…
И вдруг с какой-то необычной для него решительностью шагнул вперед и заступил мне дорогу.
– Погодите… Тут вот что… Тут же храм. Только в нем никто не служит… Пойдемте, я покажу.
В тот раз я не запомнил дорогу. Я шел и удивлялся тому, что дети в коридорах теперь почему-то смотрят на меня без страха. Потом понял, что, наверное, просто улыбался. Я чувствовал себя странно. Как поется в псалме, «был как бы видящий во сне». Происходило что-то необыкновенное, и я был частью этого необыкновенного, но воспринимал все как должное – спокойно и радостно. И когда мы вошли в пустой храм, почувствовал, что меня здесь ждут. У икон теплились лампадки, в нишах горели неяркие лампы, было чисто и даже сглаженные временем каменные плиты пола казались влажными, будто кто-то только что закончил уборку. Позже я узнал, что здесь время от времени наводит порядок Нина Львовна – пожилая верующая санитарка, она же покупает масло и следит за лампадками – сама, по зову души. И то, что этот пустой храм без священника, без прихожан был необъяснимо обжитым, я расценил тогда как продолжение чудес.
Николай оставил меня одного. Я прошел в алтарь и увидел, что там тоже чисто. Жертвенник, престол и вся утварь на них покрыты белыми простынями, и, заглянув под простыни, я увидел, что все на своих местах… Никогда и никуда я прежде не входил с таким полным, несомненным чувством, что пришел домой. И не просто пришел – вернулся!
Я спустился с солеи и встал в центре храма. Воздух казался густым и искристым, будто я стоял в стеклянном шаре с золотыми блестками и был весь окутан мерцающим облаком радости. И все, что случилось со мной сегодня, все события, которые можно описать словами, были лишь малой причиной для этой радости. А другие – главные и неизмеримо большие ее причины не имели ни имени, ни числа, никакого объяснения, никаких поводов, никакой связи с привычным миром. Впервые я почувствовал эту радость, изливающуюся ниоткуда. Будто в самом себе открыл ее источник. И весь мой путь сюда, в этот пустой храм, был лишь путем к простому откровению: чудо – не событие, не явление, не сенсация. Самое большое чудо – незримо, неизъяснимо, оно – внутри, в новых, невероятных ощущениях. Будто кто-то берет тебя за руку, и ведет во тьме, и снова отпускает. Ты можешь не осознавать цель и смысл этого сопровождения, но саму руку ощущаешь ясно, определенно, несомненно. Я еще не знал, какими сложными могут быть отношения с незримым миром, как много тревог, сомнений, недоступных пониманию тайн мерцают там, за туманной пеленой, – все это будет позже. А в тот миг я был подхвачен горячей волной радости из-за посланной мне благой вести, словно кто-то тихо говорил мне: я – есть, я – здесь, я – с тобой, я – за тебя…
Я хотел молиться, но ум метался от одной молитвы к другой, и я не мог понять, какая из них сейчас нужна, расплакался и только твердил слова, которые, оказывается, звучали во мне все это время, не помню с какой минуты: «Талифа куми… талифа куми…»[16]16
«Талифа куми» (арам.) – «Встань, девочка!»; слова, сказанные Иисусом Христом при воскрешении им мертвой девочки.
[Закрыть]
Даша умерла через два дня. Все это время она мирно спала, а просыпаясь, была тиха и спокойна, немного ела и снова погружалась в сон, словно отсыпалась после тяжелой работы или трудной дороги. И на третье утро не проснулась… Позже я узнал от врачей, что так бывает с некоторыми детьми – в редких случаях им даруются тихие, спокойные последние дни или хотя бы часы. Как и почему нисходит на них эта милость – никто не знает.
…Благословение служить в этом храме я получил от Владыки. Но, давая его, Владыка не догадывался, что я обрету здесь дом и буду отдавать ему все время и все силы.
Я возвращаюсь в храм, подхожу к оранжевому бригадиру, который перебирает в картонной коробке какие-то трубки и краны.
– Пожалуйста, соберите ваших людей. Всех, кто будет здесь работать, – говорю я ему.
Он смотрит удивленно, но, помешкав, говорит другим оранжевым, которые возятся в разных местах храма:
– Так, подошли все.
Потом достает телефон, набирает номер и говорит:
– Толя, подойди-ка сюда, в церковь. И Рашид пусть с тобой идет…
Через минуту в центре храма стоят десять человек.
Я поднимаюсь на солею и говорю им:
– Дорогие мои, прежде всего, примите благодарность за то, что будете облагораживать наш храм. Не первый год я мечтаю сделать его теплым, и вот, наконец, свершится!.. А сейчас, пожалуйста, выслушайте краткие молитвы перед началом доброго дела…
Я вижу, как рабочие переглядываются с недоумением.
– Уважаемый, – раздается неуверенный голос, – не все тут христиане…
Это говорит высокий дядька с седым ежиком и густыми черными бровями. Рядом с ним стоят два чернявых парня, помоложе.
– Мусульмане? – спрашиваю я.
– Мусульмане, да, – отвечает высокий.
– Это ничего, – говорю я как можно приветливее. – Господь у нас один. А послушать добрые слова – не грех. В конце концов, вы собираетесь сделать лучше наш православный храм. Здесь мы молимся о больных детях. Хорошее дело уж точно не грех.
Высокий задумчиво качает головой, но ничего не говорит.
Я читаю предначинательную молитву, сто третий псалом и «Благослови, Господи, и помоги мне, грешному…». Вижу, как все рабочие, кроме мусульман, крестятся на слове «аминь», и удовлетворенно говорю:
– Ну вот, спасибо вам, дорогие. Буду рад, если кто-то из вас придет ко мне на исповедь и сподобится причаститься в этом храме…
Я уже собираюсь сойти с амвона, но высокий мусульманин опять подает голос:
– Простите, уважаемый… Можно мне тоже сказать?
Несколько секунд он двигает бровями, смотрит вверх, потом громко восклицает:
– Иншалла![17]17
Иншалла (араб.) – традиционное восклицание мусульман, призывание Божьей помощи, соответствует русскому «С Богом!».
[Закрыть]
– Ну хорошо, – с улыбкой говорю я. – Теперь уж точно все у нас получится…
На этих словах в дверях храма появляются новые трое. На них мокрые дождевики с капюшонами. Они вносят в храм что-то большое, обернутое слоями пузырчатой пленки. И через миг я понимаю, что это – распятие.
Грузчики останавливаются у входа. Двое идущих позади осторожно опускают основание креста на пол. А передний, подставив плечо под перекладину, продолжает поддерживать крест и вопросительно смотрит на меня. Я не сразу соображаю, что делать с распятием. На помощь приходит оранжевый бригадир. Он указывает на центр храма и говорит:
– Давайте пока тут положим.
Распятие кладут прямо напротив Царских врат, головой к ним. Один из грузчиков, так и не сняв капюшон, подходит ко мне с какими-то мятыми листками, спрашивает, кто отметит доставку. Видя мое замешательство, оранжевый бригадир берет листки и расписывается в них.
Как-то сразу я чувствую, что неимоверно устал за этот бесконечный день и едва держусь на ногах. Я встаю на колени возле распятия – не чтобы молиться, а просто от усталости, и пытаюсь разглядеть через слои упаковочной пленки руки, плечи, лик… И скорее догадываюсь, чем вижу, что фигура Спасителя исполнена в средневековой византийской манере – примитивно, условно, с нарушенными пропорциями… Три года назад Владыка служил молебен у такого же точно распятия в древней тесной монастырской церкви. Было людно, душно, и посреди службы Владыке стало плохо, а я подхватил трикирий, падающий из его руки… Неужели он запомнил тот случай и распорядился привезти в мой храм именно такое необычное распятие?.. Что же – еще один добрый знак?..
Грузчики уходят и вскоре возвращаются, неся тяжелое основание – голгофу, ставят в ногах распятия… Если Святейший собирается дать моему приходу ставропигию, значит, этот крест мы будем водружать на особой, торжественной службе… Ох, Господи, помилуй мя, грешного!..
«Алеша! – вдруг вспоминаю я. – Ведь я обещал ему еще прийти сегодня!..»
Алеша спит. В его палате – никого. Я сажусь в кресло, стоящее у стены. Здесь – удобная новая мебель, купленная, как я понимаю, по особому заказу… В такое кресло было бы незазорно присесть и самой вице-премьерше.
Алеша дышит неслышно. В этой большой полупустой палате, в бледном свете ночной лампы он выглядит еще более худым, совсем бестелесным и таким отчаянно одиноким, покинутым!.. Хотя, конечно, я знаю, что каждые четверть часа к нему заглядывает дежурная сестра… Кто сегодня на первом этаже? Может быть, Ника?..
По экрану монитора возле Алешиной кровати бегает голубая точка, взлетая ритмичными уголками-систолами. Пульс – пятьдесят пять… Пятьдесят шесть… Пятьдесят пять… Я сползаю в кресле поглубже, кладу затылок на мягкий валик, закрываю глаза…
Вот бы и мне увидеть Алешиного ангела!.. Палата, кровать, монитор с цифрами, штатив с капельницей… И опять – кровать, монитор, капельница, повторенные отражениями в черном окне. Все останется таким, как сейчас. Только прибавится фигура в белом одеянии – такая, как рисует Алеша. Не сияющая, не парящая над полом, без нимба и крыльев. Просто худощавая, высокая фигура в белой рубахе до пят, со светлыми волосами, постриженными по старинке в кружок. Будет стоять, склонившись к Алеше, медленно повернет голову, увидит меня…
Что я прочту в его глазах? Что скажу ему?..
Уже в полусне поднимаю руку для крестного знамения, крещусь, не открывая глаз, и замираю, прижав сложенные пальцы к плечу.
7 апреля. Благовещение
Вероника
Я вижу: взлетающие смычки, блеск скрипок, длинные ловкие пальцы на струнах, золотое сияние на трубах и валторнах. Я слышу: оркестр настраивается. Клубятся звуки – пока непонятные. Но уже можно предугадать, какой будет музыка, пока что растворенная в хаосе настройки… Впервые я слышу эти звуки не со стороны, не из зала. Сегодня я – в оркестре. Скоро начнется музыка, и первые такты – мои. Эта симфония открывается переливами моей арфы. Я волнуюсь, потому что не знаю, не уверена – умею ли играть на арфе. Но кажется, это легко – просто пробежать пальцами по струнам, просто погладить, приласкать их, а уж арфа сама поймет, как ей запеть, ведь она – самая умная из инструментов… Ну разве что рояль умнее. На сцену, на оркестр дают полный свет. Цок-цок-цок – где-то вверху дирижерская палочка о пюпитр. Хочу коснуться струн. Но руки не двигаются. Только теперь я понимаю, что струны проходят прямо сквозь мои руки. И что все мое тело пронизано струнами арфы. Я пытаюсь увидеть себя, но и голову не повернуть, не наклонить – лицо, виски, шея тоже проткнуты струнами. С ужасом понимаю: если арфа заиграет – какая это будет боль!.. На лицо ложится тень – кто-то подходит ко мне. Скосив глаза, вижу седовласого человека во фраке – дирижера. Мне страшно. И стыдно, что я всех подвела. Я не понимаю, как это случилось со мной, кто и как сможет теперь освободить меня, вынуть из меня струны?! Дирижер склоняется ко мне. Кажется, он удивлен и раздосадован тем, что я пропустила вступление. Смотрю на него и взглядом пытаюсь оправдаться, показать мой ужас, закричать одними глазами: «А как?! Как мне играть?..» Тогда дирижер поднимает руку, и я вижу, что дирижерская палочка не просто зажата в его пальцах – ладонь проткнута ей, словно длинным шипом, а он просто придерживает ее большим и указательным пальцами, стараясь показать, что все в порядке. Но по запястью течет кровь, и с другой стороны ладони торчит конец палочки, тоже окровавленный.
– Ну что ты? – тихо говорит дирижер. – Что ты?.. Ничего не поделаешь, все равно надо играть.
– Ну что ты? Что ты?
Комната криво выплывает из сна – искаженная и чужая, будто кто-то тянул за углы и сделал все сикось-накось… У меня опять жар?..
– Ну что ты?..
Это Дина. Она со мной уже третью ночь.
– Опять ты стонала… И что за ужасы тебе снятся?
– Ох, и говорить неохота… Такая белиберда… Сколько времени?
Задираю голову, чтобы увидеть часы над изголовьем. Но комната начинает вертеться, и часы уплывают – не догнать… И когда я уже перевешу эти дурацкие часы!..
– Полшестого. – Дина кладет ладонь мне на лоб. – Вроде не горячая…
– Тебе скоро в хоспис?
– Не. Выходная сегодня.
– Так что ж ты! Езжай домой…
– Дом у меня в Казани, – печально говорит Дина. – А в эту мою общагу… Глаза б ее не видели!
Дина подходит к окну, смотрит в темное стекло. В нем отражается моя комната в розовом свете. В дальнем углу горит лампа с накинутой на нее розовой шалью – не моей. На Дине – серый мужской халат, висящий у меня в ванной еще со времен Дэвида.
– Белиберда – татарское слово, – задумчиво говорит Дина.
– Да? А что означает?.. – Глаза у меня слипаются, но засыпать боюсь.
– Не знаю, – пожимает плечами Дина. – Вроде то же самое… Дома у нас по-русски говорили. Только бабушка иногда лопотала по-татарски, и то когда сердилась…
– Скучаешь по своим?..
– Да так… Родителей уже нет. Дочки замужем, у них своя жизнь… И у папаши ихнего – тоже своя…
Длинным рукавом халата Дина стирает со стекла матовый островок, запотевший от ее дыхания. За окном уже можно угадать желтую рассветную полоску.
– Дин, давай еще поспим…
– Ты спи, а я привыкла рано…
Третью ночь, с тех пор как я заболела, мучает меня проклятый оркестр… Осторожно заглядываю в сон, не отпуская явь далеко, чтобы сбежать в случае чего. Но во сне вроде бы тихо, пусто, и я решаюсь остаться там…
Разлепляю веки. Передо мной открытая печь с кипящим в ней золотом – это Дина не задернула шторы, и солнце заливает комнату. Сразу зажмуриваюсь. Под веками горит золотой орнамент на красном фоне – как парчовое шитье на красном шелке… Когда-то я читала про художника, который делал из этого картины – смотрел на солнце, потом закрывал глаза, запоминал узоры и рисовал. Картины раскупали, а критики писали, что они по-особому завораживают. Помнится, эту историю я вычитала в учебнике по психиатрии. Только к чему она там была, не помню… Шарлатанство это чистой воды. Не картины, конечно, а психиатрия. Не более наука, чем гадание по лягушачьим кишкам. Невозможно препарировать душу, как лягушку!.. Ох, всегда у меня с утра сумбур в голове!.. Белиберда…
Ослепляющий свет гаснет, и я открываю глаза. Дина задергивает шторы.
– Дин, сколько я спала?
– Четыре часа.
Дина уже одета, на ней красная кофта и серые брючки. Я раньше не замечала, что Дина вообще-то довольно стройная… Неужели и я выгляжу в больничной робе как кулема?
Сажусь в кровати. Мне намного лучше. Из кухни пахнет чем-то вкусным, молочным. На тахте, где спала Дина, сложены в уголке простыня, подушка и плед.
Дина подходит с градусником:
– Давай-ка померяем.
Хочет сунуть градусник мне под мышку через вырез футболки.
– У-у, мокрая вся, вспотела как! Это хорошо. Переодеться надо.
Она откладывает градусник, выдвигает ящик комода – освоилась у меня. Достает чистую футболку и, держа ее наготове, подходит ко мне, чтобы переодеть. Но я беру футболку из ее рук.
– В душ пойду.
– Какой душ! Вчера было тридцать девять! С ума сошла?..
– Это без душа я уже с ума схожу… Ничего, мне лучше сегодня.
В душе делаю такую горячую воду, какую только могу выдержать. Верчусь под обжигающими струями, заслоняюсь от них ладонями. Почему я заставляю себя терпеть? Не могу до конца объяснить даже себе. Но так было всегда… Помню, лет в десять жила с мамой на даче. За дачами в овражке был малинник. И мы всей ватагой паслись в нем каждый день. Самая спелая малина росла на дне овражка вперемешку с гигантской жирной крапивой. Никто туда не решался лезть. А я лезла, да еще в открытом сарафане. Там можно было рвать ягоды горстями. Сок тек по рукам, крапива жгла мне плечи, локти, подмышки, кусала за ноги, и от этого малина казалась еще слаще. Я шла домой объевшаяся малины, вся в красных волдырях. Другие дети смотрели на меня как на чокнутую… А я не чокнутая, и мне не нравится, когда больно, но это… Это какой-то азарт, желание доказать себе и всем, что я сильнее боли, что могу ее покорить, подчинить. И малина казалась такой сладкой не потому, что жгла крапива, а потому, что ягоды были только моими, а крапива охраняла их для меня!
Может быть, мое желание стать сильнее боли подстегивало и то, что в детстве я была мелким худым задохликом, и меня до злых горячих слез ранило жалостливое сочувствие взрослых и пренебрежение сверстников. Я никому не спускала ни одной, даже самой ничтожной обиды, первой лезла в драку и дралась, как звереныш, – остервенело, безжалостно, презирая дворовые правила «ногами не бить» или «до первой крови». И с гордостью замечала, что со мной боялись связываться даже старшие мальчишки.
А в институте я писала сначала курсовые, а потом и дипломную по мазохизму. Изучила его вдоль и поперек. Моя увлеченность этой темой вызывала нездоровый интерес сокурсников да и некоторых преподавателей. Но мне было плевать. Зато я поняла, что это – точно не про меня. Никогда и никого я не просила сделать мне больно – даже тех, кому абсолютно доверяла и перед кем раскрывалась вся в самые безумные минуты, когда вообще ничего не стыдно и не страшно… Нет и нет! Я не нахожу в боли ничего хорошего и уж тем более ничего приятного. Дело в другом. Мой азарт покорить и подчинить боль идет от главного, что есть во мне, – от жажды свободы.
В конце концов, что мешает нам быть свободными? Наши страхи. А самый страшный страх связан с болью. Получается, преодоление этого страха – и есть путь к абсолютной свободе… Но, боже, если бы все было так просто!..
От горячей воды и пара кружится голова. Ноги дрожат, подкашиваются. Выключаю воду, сажусь на край ванны, прихожу в себя… Уф!.. Когда же я болела в последний раз? Да никогда! А в выходной когда отдыхала? Не помню… Странное новое ощущение: вот сейчас выйду из душа и опять залезу в постель… Это какая-то не я!..
Через четверть часа я не просто сижу в постели, а еще и с тарелкой манной каши на коленях. Со мной даже в детстве так не бывало! А каша-то какая вкусная!
– Дин! Ты что такое в кашу добавляла?
– Ваниль. – Дина выходит из кухни.
– А у меня что, ваниль нашлась?
– У тебя и манки-то не нашлось, и молока тоже. Сбегала в магазин…
Отдавая пустую тарелку, я на секунду задерживаю Динину руку в своей, тычусь головой в ее плечо, мурлычу:
– Мама Дина…
– Эй, какая я тебе мама! Всего-то на десять лет старше.
– На четырнадцать, – ехидно говорю я.
– Ах ты… – притворно хмурится Дина. – Это вместо «спасибо»!
– Дин… Почему ты со мной возишься? Тебе же и в хосписе этого добра хватает!
– Ну как… В больницу ты отказалась. У нас – нельзя. А тут у тебя… Я как зашла, как увидела, что у тебя – шаром покати, одна вода из-под крана, и лекарств никаких… А тебя колотило так, что на кровати подскакивала…
У Дины – круглое скуластое лицо с чистой белой кожей. Замечаю, что она уже подкрасилась – незатейливо, но и не безвкусно, разве что помада ярковата для ее тонких губ. В Дине мне больше всего нравится, что под напускной строгостью легко угадывается ее добродушие.
Дина уносит тарелку на кухню. В комнате светло – шторы уже раздернуты. Солнце косым ромбом лежит на стене рядом с кроватью, захватывает угол большой картины без рамы – наглой Дэвидовой мазни, которую он считал абстрактной живописью.
Дина возвращается, вставляя в уши фонендоскоп. Я задираю футболку, даю себя выслушать.
– Чисто все, – задумчиво говорит Дина. – И горло нормальное. И кровь я отвозила – неплохая… Странно. Надо будет решать с карантином. Но я не понимаю…
– Нервная горячка, – говорю я. – Когда-то ставили такой диагноз.
– Нервная… – повторяет Дина. – Тогда мы все должны пластом лежать с этим диагнозом.
– Вот-вот. А ты выходной на меня тратишь.
– Да ладно тебе! – Дина запихивает фонендоскоп в футляр, говорит, не глядя на меня: – Мне вообще-то было интересно с тобой побыть, посмотреть, какая ты.
– И какая?
– Ну… – Дина медлит. – Не такая…
– Не такая, какой меня все считают?
– Ну не все… Хотя, если честно, все. Мне вот тоже непонятно, чего ты всю дорогу ершишься? Многие от тебя по соплям получают вообще ни за что…
– Дин… Мне самой бывает стыдно за себя, правда!
– Ага, стыдно. Что-то не замечала. Все-то ты рвешься показать, какая ты крутая. Если хочешь знать, тебя бы давно сожрали с потрохами, если бы…
– Если бы – что?
– Если бы дети тебя так не любили – вот что. Только и слышишь: Ника да Ника. Где Ника? Когда придет Ника?..
– Когда придет Ника… – тихо повторяю я и сразу вижу узкий коридор вдоль боксов, стеклянную стену, двери на тугих доводчиках, синий ночной свет… Между собой мы называем терминальное отделение вагоном, а боксы – купе. Вижу себя – как выхожу из бокса и бреду по коридору, чувствуя такую слабость и дурноту, что меня швыряет от стены к стене, как в настоящем вагоне, несущемся на скорости…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































