Текст книги "Химеры"
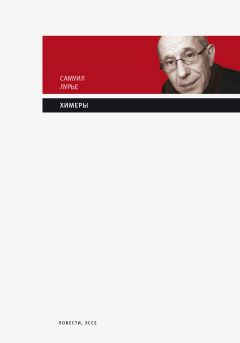
Автор книги: Самуил Лурье
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Самый умный русский писатель. Автор лучшего русского романа. Обладал и пользовался абсолютно всеми средствами русского языка (как Шекспир, говорят, – английского).
Только один недостаток. Не умолкал, пока было что сказать. Не останавливал ни фразу, ни период. Не ставил точку, пока не договорит мысль. Всю ее вбивал – ввинчивал – в предложение. Не любил пауз.
Из людей, писавших русскую прозу в девятнадцатом веке, только Салтыкова читали бы мыслители века двадцать второго. Если бы такой век наступил. А он отчасти оттого и не наступит, что некому было читать Салтыкова.
55
…………………
…………………
И тогда я обернулся и, как мог безмятежно улыбаясь, сказал самому крупному из шедших за мной по пятам дураков:
– Что ты ходишь за мной, как тень отца Гамлета?
За мою не короткую жизнь я всего раза два или три поступил правильно. И это был первый раз. А в остальное время – огромное, вообще-то, – практиковал я главным образом тактику низкого, презренного смиренья. Без всякой, между прочим, выгоды и пользы для себя.
Но ни за что не решился бы я тогда обернуться, если бы не звенел у меня в голове голос Меркуцио – если бы не эти слова: низкое, презренное.
O calm, dishonourable, vile submission!
Холодное, бесчестное смиренье! (Перевод А. Григорьева)
Трусливая, презренная покорность! (Перевод Б. Пастернака)
О подлая, бесчестная покорность! (Перевод А. Радловой)
…………………
…………………
…………………
Такая забава была в 167-й мужской: распинать Христа. В полутемном коридоре человека – того, кто был мной в 1952 году, – два сапиенса постарше и, соответственно, покрупней ставят спиной к стене и к ней же прижимают разведенные руки. А еще один сапиенс берет этого человека за подбородок – и бьет об стену его затылком.
…………………
…………………
…………………
…………………
Тринадцать сотрясений мозга! (За два года насчитала тогда и уверяла меня впоследствии моя мать. Наверное, все-таки меньше.) Я их даже немножко полюбил: не надо было в школу; однажды (наверное, не однажды) купили плитку шоколада; я лежал в постели, и мать читала мне Диккенса: «Жизнь и приключения Николаса Никльби».
…………………
…………………
…………………
Разбитое колено, сломанный нос. Какие пустяки. И даже самый мрачный день – 14 января 53-го – теперь вспоминать почти смешно. Хотя и не смешно.
Эй, однокорытники! Если кто из вас еще жив и если кого иногда, случайно, пощипывает совесть, – не горюйте! Страна боролась с космополитизмом; в частности, вы – со мной. Все нормально. Мне посчастливилось: видать, крепкая была башка. Вам не удалось выбить из меня, как пыль из коврика, – этот самый космополитизм.
…………………
…………………
…………………
…………………
Не то чтобы я этим гордился, гордиться тут нечем, да и не умею я чувствовать гордость (как выяснилось – и страх; да, представьте; сам удивляюсь). Но как-то радует меня, что я жил и умру безродным космополитом. Как всякий разумный человек.
Как лучшие из всех, кого я встретил в жизни; кого читал; про кого читал.
Называю наугад: как Спиноза. Как Лермонтов. Как Шаламов. Как Оруэлл. Как Брэдбери.
Как мой Меркуцио.
56
Без пафоса, без пафоса, пожалуйста. Все равно последнее слово – всегда за Пошлостью:
– Отдельный вид динозавров – пситтакозавр сибирский – открыли палеонтологи из Томска, говорится в статье на сайте Санкт-Петербургского госуниверситета. При раскопках в Кузбассе они обнаружили рядом два целых скелета, один чуть меньше, другой побольше, с выступами на голове. Ученые предположили, что это самец и самка, и назвали их Ромео и Джульетта.
8 декабря 2014 года
Смысл всего
А теперь, значит, начинается травля неверующих. За инакомыслие. Наплевать, что нас – большинство. При социализме – когда было объявлено, что он дошел до восковой зрелости, – тоже большинство понимало, что он гниет, – а все-таки «диссидент» сделалось ругательством, обозначавшим отброс общества.
Давно ли номенклатура увлекалась теннисом и волейболом. Нынче – горными лыжами и православием. Стало быть, и низшим классам положено. Горные лыжи дороговаты. Поэтому откуда ни возьмись тьма православных ораторов и публицистов.
Само по себе это не плохо. Потому хотя бы, что с любого легального дохода взимается налог, поступающий в госбюджет.
Но эти люди подчас позволяют себе проявлять наглость.
Не трогают – хватает же ума (и трусости, и лицемерия) – мусульман и буддистов, зато неверующих оскорбляют совершенно бесстыдно.
Уже один идеологический работник прокукарекал – и хор подхватил: атеист – не человек; атеист – это всего лишь больное животное. (А больных животных – додумывайте, додумывайте, не стесняйтесь, – их усыпляют, не правда ли? лечение, тем более принудительное, вряд ли даст надежный эффект.)
Эх вы, ораторы: ваши собственные бабушки и дедушки, папы и мамы не верили в Бога (и писали это слово со строчной). Вы обзываете их больными животными? Возможно, это по-христиански (или по-православному, вам видней; как там насчет того, чтобы чтить отца и мать?). Но как-то некрасиво. Или вы произошли не от советских граждан?
Миллионы и миллионы воспитанных в атеизме – и хуже того: в сталинизме – не питая, то есть, надежды на загробную жизнь, – рисковали и жертвовали – например на войне – жизнью земной. По-вашему, они были животные? больные?
Андрея Сахарова, Лидию Чуковскую, Василия Гроссмана, Анатолия Марченко – вам уже не усыпить, опоздали. Вам желательно, чтобы такие люди не появлялись в России больше никогда.
Остановить мозги. Установить монополию на истину. Отменив свободу сомневаться.
Так объявите православие государственной религией, что вам стоит? Одно заседание Штемпелевальной Машины, триста, или сколько их у Единой Кормушки, кнопок нажать – и вы в дамках. Слабо?
Покамест вы колеблетесь, я вот что напоследок вам скажу.
Наука и все авраамические религии (к которым, вы ведь не станете возражать, относится и православие) согласны в одном-единственном пункте: объект, именуемый Богом, для человеческого ума невидим. Доказать его существование нельзя.
В Бога можно только верить. Или не верить.
То есть чувствовать Его присутствие, Его участие – в явлениях природы, в событиях истории, в произведениях искусства, в собственной жизни.
Или не чувствовать.
Многим случилось, и не раз, почувствовать. Мистики, поэты, живописцы описывали эту свою интуицию как невыразимое ощущение невыразимого смысла Всего. Как переживание истины.
Многим другим не посчастливилось так. И те из них, кто считает себя верующими, составляют свою картину мира понаслышке, с чужих слов. И те, кто считает себя неверующими, – точно так же.
Но есть еще (и всегда были) и такие люди, которым столь же пронзительная интуиция говорит: есть только то, что есть, и оно не означает ничего другого. А смысл (да, относительный) в жизнь привносит только – да, ограниченный, да, близорукий, да, несчастный – человеческий ум.
Бывает, да, и такое переживание истины. Довольно охотно, кстати, поддерживаемое естествознанием.
Идею авторского права на Вселенную (типа: кто-то же ее создал; подобно тому как культура создана творческими личностями, должен же быть и на природу у Кого-то копирайт) эти люди полагают наивной. Не говоря уже о посмертной перспективе и проч. Другое дело, что тут целый мир – огромный и прекрасный – бесконечно продуктивных метафор.
Невеселое мировоззрение. Малоутешительное. Вас, ораторы, оно тревожит, пугает, оно разжигает в вас интеллектуальную зависть, – а вы успокойтесь. Займитесь своими проблемами. У вас вон Лев Толстой – про которого человечество полагает, что Россия им гордится, – пребывает на положении Салмана Рушди.
А что с Аввакумом Петровым? Вроде бы вы его недавно амнистировали. Но ведь сначала сожгли. За оскорбление ваших чувств. А Михаила Булгакова какой ожидает приговор?
Просто возьмите себя в руки. Потерпите. Когда (и если) РПЦ и ФСБ создадут межведомственную инквизицию, – кому, как не вам, НТВ доверит вести репортажи с площадей, на которых нас усыпят.
Но это не даст вам счастья, вот увидите. Не сплотит вокруг вас послушную толпу навсегда. Человеческий ум – вечный вольтерьянец. Неисправимый, не надейтесь. А человеческая душа, если прав Тертуллиан, – по самой своей природе христианка – и тоже, значит, не любит хитрых и злых.
Октябрь 2012 года
Совсем один
«Ах! как бы мне хотелось, как бы мне хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память на земле русской! Хоть одну печатную страницу, заявляющую о существовании некоего Владимира Сергеева Печерина. Эта печатная страница была бы надгробным камнем, гласящим: здесь лежит ум и сердце В. Печерина».
Ну разумеется. Должна же Россия отдавать себе отчет, что Бобчинский был ни в коем случае не Добчинский, совсем другой индивидуум. Священное право Гильденстерна – отличаться от Розенкранца.
Потрясающая книга. (В. С. Печерин, «Apologia pro vita mea. Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим».) Выдающийся памятник человеческого трудолюбия, самоотверженного прилежания (ред. и сост. С. Л. Чернов). Но также – замечательное, хотя и не веселое, приключение ума, переоценившего себя.
Собственно говоря, не журнальному щелкоперу судить о таком труде. Хвалить (или, допустим, порицать) его имеет право лишь тот, кто хотя бы отдаленно представляет себе, что это такое: разобрать, переписать, подготовить к печати сотни три пространных рукописных документов и осветить их двумя без малого тысячами (!) обстоятельных примечаний.
Я, признаться, не надеялся, что одолею этот томище. Думал: стану про него писать – ограничусь возгласами почтительного восхищения. Если беглое, поверхностное знакомство даст соответствующий повод. Ну а не даст – промолчу.
И что же? Не поверите: прочитал от корки до корки. И не жалею. Верней, жалею – о времени, потраченном в ходе предыдущей жизни на чтение чепухи, написанной про Печерина прежде, раньше, разными другими людьми, начиная с Герцена. Чепухи в общей сложности тоже набралось бы, наверное, с полкило. Описываемая книга весит около килограмма. То есть физическая масса антидота вдвое больше, чем отравлявшего вещества. Пропорция не выглядит оптимальной – но:
во-первых, упомянутая чепуха отныне обезврежена навсегда и впредь употреблять ее никто не станет;
во-вторых, лентяям, желающим поумнеть быстро и легко (выражусь мягче: приобрести разумное понимание некоторого эпизода из истории русской литературы), достаточно пробежать глазами вступительную статью С. Л. Чернова, в которой все главное сказано.
В 30-е девятнадцатого, после смерти Гнедича, в России практически не осталось людей, толком знающих древнегреческий. Министр просвещения, министр юстиции, один профессор Санкт-Петербургского университета – немец Грефе – и всё, обчелся. Всем троим такое положение вещей казалось катастрофическим и нестерпимым. Грефе втемяшивал студентам свой предмет изо всех сил, но они относились – как советские к якобы живым иностранным: на черта учить язык, на котором не с кем общаться; сдать зачет – и забыть. Какова же была радость немецкого профессора, когда один из выпускников вдруг выказал необыкновенные способности к этому языку и продемонстрировал на экзамене превосходные познания. Многообещающего юношу (а это и был Владимир Печерин) тотчас и сверх квоты отправили в Дерпт, на курсы повышения квалификации, наименованные Институтом красной профессуры – шучу: просто Профессорским институтом – и специально созданные для укрепления вузовских кадров. А из Дерпта – вместе с другими будущими светилами отечественной науки – в Берлин, в тамошний университет. Через два, что ли, года они все вернулись на родину и получили распределение; Печерину выпало – доцентом в Москву.
А в Москве ему не понравилось. И там с ним что-то случилось. Нервный срыв, осложненный культурным шоком, или наоборот. Ужаснула перспектива провести всю оставшуюся жизнь в этой огромной деревне, принимая у провинциальных недорослей зачеты и экзамены. Ужаснула тщета, бесцельность и безвестность. А у него были – или казалось ему, что есть – какие-то основания считать себя человеком, заслуживающим лучшей или хотя бы более эффектной судьбы. Он стал копить лихорадочно деньги; стал выпрашивать отпуск и загранпаспорт – под туманным предлогом (для начальства и коллег), что долг чести призывает его вернуться ненадолго за бугор, дабы увенчать законным браком некую историю любви. Министр Уваров к нему очень благоволил, возлагая надежды. Паспорт, в виде исключения, выдали. После первого же семестра, на первых же каникулах Печерин свалил – и не возвратился. Попечитель МГУ написал ему увещевающее послание, типа: вернись, мы все простим. Он, хотя и не сразу, ответил письмом, по-видимому, искренним, потому что совершенно бредовым:
«…Ношу в сердце моем глубокое предчувствие великих судеб. Верю в свою будущность, верю в нее твердо и слепо…
Юношеское ли это тщеславие? Или безмерное честолюбие? Или безумие? – Не знаю. Мой час еще не настал.
Провидение никогда не обманывает. Семена великих идей, бросаемые им в нашу душу, всегда суть верный залог прекрасной жатвы славы… Слава! Волшебное слово! Небесный призрак, для которого я распинаюсь! О Провидение! Прошу у тебя лишь дня, единого дня славы, и дарю тебе остаток моей жизни!»
Может быть, немножко и симулировал (уж больно неумный текст), – но, во всяком случае, никаких, даже стилистических, разногласий с царизмом. Попечитель пожал плечами, Уваров пожал плечами, Николай I пожал плечами: ну спятил бедняга, заучился (в древнегреческом два вида ударений, два знака придыхания), – бывает. Объявлять его в международный розыск (pro forma дело, само собой, завели), требовать экстрадиции, а потом еще лечить в Обуховском дурдоме за казенный счет… Гуманность гуманностью, а целесообразность? Короче, предпочли махнуть рукой.
Затем года три в биографии Печерина покрыты более или менее непроницаемой тьмой. Плана, судя по всему, никакого не было, да и какой мог быть план? Что делать в Европе 1830-х филологу-античнику (пусть даже и отличному) без вида на жительство? Искал (не понимаю зачем) контактов с оппозиционными кружками в разных государствах, просил подаяния, служил, если не ошибаюсь, в лакеях. В 1840-м свел знакомство с каким-то французским священником, потом еще с одним. По их наущению перешел в католичество и вступил в монастырь – и все. Успокоился. Остальные две трети жизни (он родился в 1807-м, а умер в 1885-м) провел на всем готовом, заполняя обильный досуг, остававшийся от различных ритуальных действий, чтением книг и прогулками на свежем воздухе.
И все позабыли бы о нем навсегда, не навести его в Англии Герцен.
Но не мог же Герцен его не навестить – упустить такой сюжет: встречу второй волны с первой. (Пересечение кругов на воде.) И, когда встреча состоялась, не написать блестящего эссе: «Reverend Petcherine!.. И этот грех лежит на Николае» и т. д.
Ну а после этого не могла же загадка Печерина не стать пищей для других пронзительных умов – от Аксакова до Гершензона, далее везде. Духовный самоубийца? Жертва режима (советская делегация дружно аплодирует) или католической пропаганды? Псих-русофоб (двумя-то строчками – в ранней молодости, но фактически много после своей смерти – местную ноосферу пополнил: «Как сладостно отчизну ненавидеть / И жадно ждать ее уничтоженья!») или революционер? или же религиозный фанатик (ведь, как известно, для христиан и пролетариев отечества нет)?
В новейшем словаре формула его фигуры уклончивей: «В 20 в. П. вызывает интерес прежде всего как мыслитель и творец (и в жизни и в литературе) собственной биографии, личность которого выразилась вполне в признании, сделанном в письме к Чижову: “На голове моей ни единого седого волоса, а сердце-то ужасно как молодо! Того и гляди, что я затею какое-нибудь новое преображение. Мне невозможно остановиться: я непременно должен идти вперед”».
Уклончивей – а все-таки сомнительная. Возможно ли, – закрадывается вопрос, – чтобы чья-либо личность выразилась вполне в одной-единственной фразе (да еще явно хвастливой; к тому же описывающей предположение либо предчувствие, насчет которого ничего не известно: сбылось, не сбылось)? Но допустим: перед нами именно такой случай – параметры личности действительно сопоставимы с объемом фразы. Не позволительно ли поддаться соблазну заподозрить и ценовой паритет?
Так вот: здесь, в этой восхваляемой мною книге, собрана вся переписка Печерина с этим самым Чижовым (и с несколькими другими людьми). Составитель читал ее и перечитывал не один год, именно с намерением и надеждой выявить и воссоздать печеринскую личность, штрих за штрихом. И пришел к выводу, который, по-моему, его не порадовал: специалисты всех мастей напрасно в один голос титуловали Печерина «большим ученым, замечательным педагогом, мыслителем, философом, поэтом. В действительности, как свидетельствуют его же письма, он не был ни тем, ни другим, ни третьим, то есть никем».
Это в высшей степени похоже на правду. В этой переписке, продолжавшейся много лет (а кроме нее да нескольких клочков мемуарной прозы и нескольких малоталантливых стихотворений, ничего не осталось), Печерин не роняет ни единой оригинальной мысли, не проговаривается ни о каком сильном поступке. Ему ничто не дорого, ему не бывает больно. Похоже, все, чего он желает, это чтобы его оставили в покое; чтобы никто не приставал; не подходил слишком близко, тем более – не дотрагивался; сутана и граненая шапка гарантируют ему такую неприкосновенность; защищают, как скафандр; избранная роль – устраивает.
Но зачем ему покой? А чтобы мечтать о славе. Теперь уже, конечно, посмертной, но все равно. Вот, например, напечатают когда-нибудь эти письма к бывшему однокурснику, – и потомство догадается, что Печерин был замечательный человек, а что ровно ничего замечательного не сделал – простит.
Короче говоря, перед нами – приложение к роману «Обломов»: переписка Обломова со Штольцем. (Чижов – очень яркий Штольц, гораздо интересней, чем у Гончарова; а сравнение Печерина с Обломовым принадлежит, к сожалению, не мне: С. Л. Чернову.) Эта книга переводит Печерина из литературных деятелей – в персонажи. Да, типичный лишний человек. То есть лишний, оттого что не типичный. Обязан был спиться, а не спился. Выбрал другой наркотик – интеллектуальный. Стал режиссером и единственным актером бесконечного воображаемого кинофильма. (Передернем предложение из словаря: П. был мыслитель собственной биографии.)
Книга его и читается, простите за тривиальность, как роман. На последней странице переписки двух стариков даже чувствуешь как бы укол в область сердца. Бесстрастным эгоистом овладевает – впервые! – невыносимая тревога утопающего:
«Наконец всякому терпению есть конец. Скажи ради Бога, что сталось с тобою, любезный Чижов? Твое последнее письмо лежит у меня на столе. Оно от 10 октября, а теперь, по-вашему, 11 января, стало быть, целых три месяца. Ты никогда не оставлял меня так долго без ответа. Что же это значит? Если ты так сильно болен, что писать не можешь, то ты мог бы уведомить меня через какое-нибудь третье лицо. Не забудь, что ты единственная и последняя нить, связывающая меня с Россиею, – если она порвется, то всё прощай. В крайнем недоумении, не зная ни как, ни что, я больше писать не могу и с нетерпением буду ожидать ответа».
А какой уж там ответ, любезный Печерин. Дальше – тишина.
Так древнегреческий ни на что и не пригодился. Впрочем, нельзя же исключить, что под самый конец Печерин взял и перевел всего, предположим, Плутарха. И рукопись перевода сжег в камине.
Хамелеон и канарейка
Плохое состояние. Плохое настроение. Плохое состояние настроения. (До чего же слова опустошены. До полной прозрачности.)
То ли прилив тоски, переходящий в порывы тревоги, то ли дважды наоборот.
Скажем, – как все и говорят, – депрессия.
Дадим ей имя. Женское. Как если бы я был местность, а она – циклон.
Точечный, одноместный, односпальный смерч.
Назовем – Кармен.
Такая простая вещь. Простая, как сложный фокус. Который не разоблачить.
Что ж, перечитаю в тридцатый примерно, в последний раз.
Про что «Кармен»?
Во-первых (и бросается в глаза) – про никотиновую зависимость. Как приятно вдыхать продукты сгорания правильно обработанных листьев лучшего из пасленовых.
«– Вот эта недурна, – сказал я, предлагая ему настоящую гаванскую регалию.
Он слегка наклонил голову, запалил свою сигару о мою и принялся курить со всей видимостью живейшего удовольствия».
(Перевод М. Лозинского; тоже считается лучшим. Цитирую по шикарному двуязычному изданию – Academia: М. – Л., 1936; в последующих изданиях текст подвергался правке, мелкой, иногда забавной: скажем, вместо «у жида бен Юсуфа хранятся наши деньги» – «у еврея бен Юсуфа…»)
«– Ах! – воскликнул он, медленно выпуская первый клуб дыма изо рта и ноздрей. – Как давно я не курил!»
Какое удобное сюжетное средство: персонаж персонажа угощает табачным изделием – вот и завязка! В условиях государственной монополии, дороговизны и дефицита.
Идеальная взятка. В отсталой, нищей стране. Убогому туземцу.
Разделенное наслаждение моментально сближает.
Проспер Мериме, отправляясь в Испанию в июне 1830 года, набил саквояж под завязку (под бронзовую пряжку, наверное) французским куревом: кто-то, видать, ему подсказал, что испанское хуже и/или дороже.
Ну и его двойник – конфидент дона Хосе, клиент Кармен, по легенде – научный турист, а по функции – просто крючок сюжетный, – оказавшись в Андалусии ранней осенью того же года, имеет в багаже, кроме эльзевировского издания Цезаревых «Записок» и смены белья, коллекцию разноцветных коробочек и лакированных ящичков, а в жилетном кармане – всегда полный портсигар.
Строго говоря – с таможенной точки зрения – он тоже контрабандист, как и те двое. Хотя и фраер. Кстати, наименуем его как-нибудь. Тоже ведь персонаж. Пусть он будет у нас господином М.
«В Испании угощение сигарой устанавливает отношения гостеприимства, подобно тому как на Востоке дележ хлеба и соли».
Ах, эти первобытные, цельнокроенные натуры так простодушны. Так отзывчивы на ласку и подачку. Бросьте доберману кусок вырезки – да и почешите его за ухом. Главное – не бойтесь.
«– Будьте так добры, – обратился я к нему, – спойте мне что-нибудь; я страстно люблю вашу национальную музыку.
– Я ни в чем не могу отказать столь любезному господину, который угощает меня такими великолепными сигарами, – весело воскликнул дон Хосе и, велев подать себе мандолину, запел, подыгрывая на ней…»
А сплясать?
Ничего себе разбойник. Положим, Пугачев Гринева тоже угощает вокалом в стиле country; лично дирижирует хором бандитов. Но дон Хосе вообще-то дворянин; вообще-то офицер (ну, разжалованный; драгунский ефрейтор, я думаю, примерно равен гусарскому корнету); притом по национальности (как сейчас выяснится) баск, а мы все читали про басков, что они не очень-то услужливы.
Вообразим Дубровского: как он, повстречав на постоялом дворе английского, предположим, путешественника и разомлев от еды, вина и гаванской сигары, исполняет романс «Я в пустыню удаляюсь…». Аккомпанируя себе на балалайке.
Какая-то тут непродуманность правдоподобия. Живущий в моей голове, как в клетке, буржуазный попугай критического реализма грассирует: невермор.
А Мериме, юбиляру нашему, на это – плевать. Найдите сами, если сумеете, более экономный способ заставить героя отбрасывать тень. Кратчайший путь в его так называемую судьбу.
«Если я не ошибаюсь, – сказал я ему, – это вы пели не испанскую песню. Она похожа на сорсико, которые мне приходилось слышать в Провинциях, а слова, должно быть, баскские.
– Да, – мрачно ответил дон Хосе.
…Освещенное стоявшей на столике лампой, его лицо, благородное и в то же время свирепое, напоминало мне мильтоновского Сатану…»
Кого же еще! 1830 год на этом постоялом дворе. Г-н М. моложе г-на Мериме на шестнадцать лет.
«…Быть может, как и он, мой спутник думал о покинутом крае, об изгнании, которому он подвергся по своей вине…»
Изгнанник, непременная рифма – странник, все по моде. Проникнитесь, читатель, невольной такой, отчасти тревожной симпатией.
Но, с другой стороны, представить мильтоновского Сатану играющим на мандолине – трудно.
И не идет к свирепой физиономии грудной проникновенный полушепот, каким говорят в русских романах нервные падшие из полуобразованных:
«– Я не настолько уж плох, как вы можете думать… да, во мне что-то есть еще, что заслуживает сострадания порядочного человека…»
(Если только это не нарочно. Если это не отблеск некой задней мысли. Если, допустим, Проспер Мериме не заключил сам с собою пари, что напишет роман, в котором так называемый мужчина и так называемая женщина поменяются ролями, предписанными массовой мифологией. Авось я к этой идее вернусь еще.)
Г-н М., что характерно, отвечает:
«– …Нате, вот вам сигары на дорогу; счастливого пути!»
Крутим дальше рекламный ролик. Надеюсь, какая-нибудь солидная фирма (скажем, «Филип Моррис») заинтересуется.
Простейший дебютный ход: мужчина, угостите папироской.
«Подходя ко мне, моя купальщица (вальяжный какой оборот. – С. Л.) уронила на плечи мантилью, “и в свете сумрачном, струящемся от звезд” (из Расина, подсказали мне, цитата. – А вот и нет, поправляют с другой стороны: из Корнеля! – С. Л.), я увидел, что она невысока ростом (а в мантилье – что, казалась высокой? – С. Л.), молода, хорошо сложена и что у нее огромные глаза. Я тотчас же бросил сигару. Она оценила этот вполне французский знак внимания и поспешила мне сказать, что очень любит запах табака и даже сама курит, когда ей случается найти мягкие “папелито”. По счастью, у меня в портсигаре как раз такие были…»
Ну надо же! Какой портсигар. Просто самобранка.
«…и я счел долгом ей их предложить. Она соблаговолила взять один и закурила его о кусок горящей веревки, которую за медную монету нам принес мальчик. Смешивая клубы дыма, мы с прекрасной купальщицей так заговорились, что остались на набережной почти одни».
Вот еще про что «Кармен»: как хорошо быть двадцатисемилетним и совершенно свободным совершенно одному в чужом городе чужой страны и теплой осенью при свете звезд курить на набережной, вообразим, Гвадалквивира. (Который – нельзя же не припомнить – шумит, бежит.)
Ну и конечно – про запах, ощущаемый скорее как матовый отблеск: про то, как разговариваешь с молодой женщиной, зная, что эту юбку и эту блузку она только что надела на голое, на мокрое тело; поверх тончайших лоскутков речной воды.
Вообще – про эту связь идей: как сверкает испарина на горячей женской коже и как, испаряясь, опьяняет подвергнутый брожению табак. В сигарном цехе севильской Real Fábrico de Tabacos. (Не знаю, впрочем, попал ли туда Мериме; похоже, только полюбовался грандиозным фасадом. Современник, который побывал внутри, утверждает, что тогдашние тамошние работницы почти все были цыганки: труд тяжелый и низкооплачиваемый.)
Насчет испарины согласен: домысел. Как, может быть, вам известно, такая уж моя специальность – домыслы о вымыслах.
Но зато факт – что гаванская сигара спасла г-ну М. жизнь. И она же вместе с papelito (скорей сигарета, чем папироса, не знаю точно) погубила Кармен.
Пересказывая этот сюжет, приходится почти все время вместо «потому что» и «за то что» – проставлять: после того как.
Я не понимаю – или не умею сказать, – за что дон Хосе убил бедную Кармен. (Ясно же, что не за ночь или день с пикадором.) И уж подавно не понимаю почему. Полагаю, никто, кроме Кармен, – даже и сам Мериме – не понимал.
Дон Хосе убил Кармен после того, как она от него отказалась.
Она отказалась от него после того, как провела ночь или день с пикадором.
Она провела ночь или день с пикадором после того, как дон Хосе ее ударил.
А вот почему ударил – понятно. Потому что она в очередной раз сказала ему (несомненно, сказала), что у него цыплячье сердце. Раз ему слабо прикончить терпилу-паильо. Она сказала эти (или другие) обидные слова, и он ее ударил. Поэтому. Но не за это. А за то, что она требовала, чтобы он зарезал г-на М.
Все это передано у Мериме двумя предложениями. «Мы сильно поспорили, и я ее ударил. Она побледнела и заплакала».
Представить – страшно.
Помните ведь? Ночью дон Хосе входит в дом и застает ее с мужчиной. Она бросается навстречу и что-то там тараторит; даже не знающим цыганского нетрудно догадаться что: наконец-то! я уж думала, никогда не придешь! Гадаю ему, гадаю, заговариваю зубы, надоело. Этот тип – интурист, у него при себе куча денег. Гаси его скорей, гаси! Мне нужен его перстень, сейчас же!
Ну и какие у дона Хосе причины ей верить? В смысле – не про деньги, не про перстень, а что ничего не было, кроме гаданья?
Между прочим, и я отчасти сомневаюсь. Вернее сказать, г-н М. заставляет усомниться – нарочито неправдоподобно объясняя, по какой, собственно, нужде он ночь-полночь поплелся за первой встречной в какую-то трущобу:
«По выходе из коллежа, – признаюсь к своему стыду, – я убил некоторое время на изучение тайных наук и даже несколько раз пытался заклинать духа тьмы. Давно уже исцелившись от страсти к подобного рода изысканиям, я все же продолжал относиться с известным любопытством ко всяким суевериям и теперь рад был случаю узнать, на какой высоте стоит искусство магии у цыган».
То есть цель сугубо научная. Повышение квалификации. Тема: к вопросу о пси-феноменах, используемых мигрантами в традиционных бизнес-практиках. Но как же – на грани издевки! – скудно составлен отчет о результатах эксперимента:
«Не к чему излагать вам ее предсказания; что же касается ее приемов, то было очевидно, что она и впрямь колдунья».
Недвусмысленно двусмысленно; кавалеры весело переглядываются, дамы старательно окаменевают; графиня де Монтихо изучает картинку на своем веере.
Только что, две минуты (одну страницу) назад, расписывал красоту этой цыганки. Не сводил глаз и в подробностях разглядел при свече под стеклянным колпачком, пока болтали в кафе, поедая мороженое. Потом «попросил хорошенькую колдунью разрешить мне проводить ее домой; она легко согласилась…». Что-то мне подсказывает, что за старой и страшной, будь она хоть профессор проскопии, не поплелся бы ночь-полночь. Никто не поверит в такую бескорыстную любознательность. А я, кроме того, не верю, что г-н М. настолько храбр.
Но про это – после, после. Про ее красоту, про его отвагу.
А пока что дон Хосе стоит в дверях – и мизансцена ему очень не нравится. Настолько не нравится (хотя, казалось бы, что такого, обстановка самая невинная, из горизонтальных поверхностей только стол да пол), – что и в последний день своей жизни —
«Не буду говорить о последней нашей встрече, – все-таки скажет, с горечью скажет он г-ну М.: – Вы об этом знаете, может быть, даже больше моего».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































