Читать книгу "Химеры"
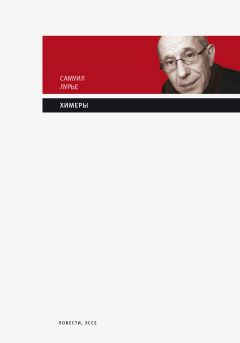
Автор книги: Самуил Лурье
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
31
Будете в Летнем саду – подойдите к ней поближе. Практически голая, в простынке, как бы прямо из сауны. Вся из натуральной мраморной крошки, точная копия той, из советского портландцемента, что была точной копией мраморной, так сказать, кусковой. (С падежными окончаниями разберетесь?) Эффектная такая, высветленная брюнетка. Дочь ночи от кого-то из основных. Жаль, выражение лица несколько тупое и как бы кислое. (Почему-то вспомнилось, как писал Чехов, рекомендуя Суворину заняться подругой Татьяны Львовны: она немножко халда, но это ничего.) А так – фигура гладкая, грудки тугие, прическа – волосок к волоску; носик опять же греческий. В правой руке (виноват, г-н Муратов: в деснице!) меч. Огромный, в половину ее роста (головка эфеса – на уровне пупка) – явно ей, сказал бы С., невподым. Похоже, кто-то, отлучившись (скажем, под предлогом нужды), попросил подержать. (Постой здесь минутку, я мигом. И – с концами. И одежду снес.) Воткнула меч острием в пьедестал, как перевернутый закрытый пляжный зонт, и опирается слегка. Никогда не спит – как акула. В режиме онлайн фиксирует каждую несправедливость. Дескать, ни одна не останется неотомщенной. Аз раздам – якобы недаром прозываясь Неотвратимой – всем сестрам. По серьгам – которая какую заслужила. И мышонок, съеденный кошкой, может твердо рассчитывать на достойную компенсацию и подобающую сатисфакцию за каждую свою невинную слезу. (Раньше надо было думать, кошка! А теперь поздняк метаться и рыдать.)
Гиблое дело. Немезиде ли – дочери ли ночи – не знать, что в мире смертных (принятое у древнегреческих небожителей обозначение нашего брата, нашего вида; да, мы для них – не сапиенсы, а bratoi) идея справедливости абсурдна просто по этому самому определению. Тут уж, знаете, одно из двух: справедливость или смерть.
(Я и сам удивляюсь: кажется, даже у меня, если бы хватило сил создать вселенную, да еще способную к самосознанию, – наверное, нашелся бы и ум для мало-мальски приличного решения проблемы утилизации отработанных нейронов и облегающих клеточных структур. Не погнался бы за дешевизною recycle. Придумал бы что-нибудь поизящней, чем тупо копировать технологии советского мясокомбината.)
Плюс частности и прочие трудности. Наказание подражает преступлению – и практически всегда становится им. Возмездие всегда больше вины – или меньше, это все равно, разность неизбежна, что является залогом бессмертия ненависти.
Кроме того, в реальном мире никто не любит справедливость – хотя бы потому, что там никто не видел ее никогда.
Другое дело, что мы с вами, bratoi, охотно выдвигаем так называемые справедливые (прилагательное) требования – собственно говоря, только два (все остальное выпрашиваем, а на них, бывает, и настаиваем): долива пива после отстоя пены до черты и – расстрелять кого-нибудь, как бешеную собаку. Какого-нибудь отщепенца народной семьи. (Бешеных собак расстреливают, не правда ли? А лес – рубят. И отщепенцы летят.) Но заметьте, bratoi: никто не желает, чтобы справедливо (наречие) обошлись с ним самим. Потому что если каждому по справедливости (существительное, хотя не без предлога), а от каждого всего лишь по способностям либо по труду, то – Вот эта самая мысль и тормозила Гамлета. Серьезный был человек – как все по-настоящему остроумные.
32
Всю дорогу – скоро уже два столетия как – русские литературные критики (что характерно: всё народ худосочный, щуплый) шпыняют Гамлета: отчего не погасил злого дядю в первом же акте? А во втором почему не? А в третьем? Слабак, что ли? Прямо приплясывают за письменными своими столами, ножонками сучат: убей дядю, убей!
Потом уже советские, не все, а которые подобрей, стали изобретать за него всякие оправдания, в смысле – отмазки, вы же видели. Типа он слишком умный, чтобы руки марать индивидуальным террором, а пойти другим путем – скажем, создать партию нового типа – условия не созрели, век недостаточно расшатался.
Или так: заявление (тем более устное) о преступлении, сделанное призраком потерпевшего, для обладателя буржуазного правосознания юридически ничтожно, как анонимный донос. Выпускник Виттенберга (не важно, какого факультета) не мог себе позволить приобщить его к делу без проверки тщательнейшей. На каковую, собственно, и ушли два с половиной акта, ну а потом… Потом он устал, упустил инициативу, и партия двинулась к проигрышу как бы сама собой.
Соображение насчет презумпции невиновности по якобы неведению отчасти резонно. Отчасти даже позволяет разъяснить едва ли не самый загадочный и почти самый позорный факт в истории некоторой страны: что никто никогда ни разу не попытался физически уничтожить Сталина. А ведь он убил миллионы людей, и в каждом миллионе у каждого были ведь родители, у большинства – братья, сестры, у многих – дети, и не все же они сидели – многие, наоборот, ходили по улицам, ели мороженое и так далее. По праздникам таскали на себе портреты и лозунги, кричали «да здравствует» и «ура». Ни один не попытался отомстить за единственного, например, сына, или за любимую женщину, или за родную (простите избитый эпитет) мать.
Или даже оставим в стороне – отвергнем, если хотите, как варварский – обычай кровной мести. А просто чтобы предотвратить новые убийства, спасти другие миллионы других людей. Остановить неутомимого людоеда. Положить, как говорится, живот свой (тут без вариантов) за други своя. Либо ради блага, как говорится, будущих поколений. Не нашлось желающих. Ни одного на сотни опять-таки миллионов.
А вот вы и видите, в чем дело. Дело, видите ли, в том, что так называемые советские люди просто не знали (сами говорили и говорят еще: ну не знали мы), что это Сталин убил у кого мать, у кого сына, у кого дочь или внучку. Не знали даже – знал ли он, Сталин, про эти все убийства. Нельзя было это узнать. Не от кого. (Тени и призраки, конечно, являлись, но их нейтрализовала круглосуточно работавшая в каждой голове глушилка.) Только понять. Извлечь правду из предъявляемых сознанию фактов. Умом. Исключительно своим, личным, уж какой у кого был. И в расстрельных комнатах многие, наверное, понимали. (Что в лагерях – это даже известно точно.) Но у находившихся на так называемой свободе была подавлена и отключена область головного мозга, отвечающая за ориентацию в больших структурах. За пределами семьи, подъезда, отдела, бригады. Таким образом, советские не являлись животными политическими – Аристотель, извините! – а процветали на правах, развивавших веселую дефиницию Платона: двуногие без перьев. Поэтому они, если можно так выразиться, любили Сталина. (Как, должно быть, он презирал их за это!) С некоторыми даже при виде его изображений, даже просто при артикуляции этого псевдонима случался оргазм, так любили. И не только не стерли с лица земли, а – когда за них это сделал некто Кондратий, – оросили труп своего палача мегалитрами искренних слез. (Вот он, зенит позора.)
В день его похорон я не был в школе. То ли накануне опять избили, то ли простудился – не помню. Лежал, короче говоря, в постели (в железной кровати). Совсем один в комнате и в квартире. Родители и соседи ушли на работу; сестру, наверное, отвели в детский сад. Помню, что был один, и тишину. И как взвыли в полдень трубы: заводов – где-то за Невой, а прямо под окнами (выходившими на Калашниковскую – теперь Синопскую – набережную) – речных буксиров.
Я поднялся, встал босиком на пол и стоял – двуногий без перьев читавший Шекспира идиот в исподнем – по стойке «смирно», пока они не кончили выть. Мне было одиннадцать лет – правда, еще не полных.
На днях раскрыл, чтобы перечитать (для этого текста), «Повесть непогашенной луны». На последней странице помета: «Москва, на Поварской, 9 января 1926 года». Последние два предложения последнего абзаца:
«Гудки гудели долго, медленно, один, два, три, много, – сливались в серый над городом вой. Было совершенно понятно, что этими гудками воет городская душа, замороженная ныне луною».
33
Гамлет заскучал в середине третьего акта, в самый опасный момент. Как только убедился насчет Клавдия. Как только сделал то, что было необходимо сделать, чтобы убедиться (с точки зрения литературы – это одно и то же): пустил в упыря серебряную пулю. То есть, конечно же, стрелу.
Без метафор говоря – написал текст. Говоря для чужих ушей – освежил чужую инсценировку некой итальянской новеллы, как делывал Шекспир. Якобы вписал пару монологов, а сюжет, уже готовый – включая убийство ядом, введенным в ушную раковину, – только его и дожидался. Что-то не верится: это значило бы, что Шекспир сам себя (заодно и Клавдия) ловит на плагиате; даже для него это слишком тонкая игра. Да и не нашлось такой новеллы, или похожей, а уж какие доки искали.
Король. Как называется пьеса?
Гамлет. «Мышеловка». Но в каком смысле? В переносном. Эта пьеса изображает убийство, совершенное в Вене; имя Герцога – Гонзаго; его жена – Баптиста; вы сейчас увидите; это подлая история; но не все ли равно?
А я, наоборот, полночи, а потом еще полночи, и еще – думал: а кто еще из авторов вот так, вместе с текстом, бросал и свою голову под топор? Кто еще осмелился – или кому посчастливилось (в кавычках) – публично оскорбить заглавного негодяя? То есть громко сказать (литература не умеет шепотом): не настолько умный вы злодей, чтобы никто не догадался, до чего вы подлый!
Какой-то скальд какому-то конунгу проскандировал (или пропел?) вису, близкую по содержанию, – и немедленно лишился головы.
Один арабский мастер политэпиграммы примерно тогда же, в IX веке, понес заслуженную кару: палкой с отравленным наконечником – по пяткам (само собой, после омерзительных истязаний).
Других прецедентов моя хилая эрудиция не выдает. А также и после Гамлета ничего подобного «Мышеловке» в литературах европейских не вижу, припоминайте сами, я – пас.
Зато в литературе русской, всего-то за 275 лет (считая, как В. Ф. Ходасевич, с «Оды на взятие Хотина»), таких писателей – вот чтобы написал сам себе, своею собственной рукой (притом еще и заботясь о правильности слога), смертный приговор – сознательно написал, исключительно оттого, что не смог стерпеть затмения истины и надругательства над справедливостью, – таких людей набралось трое. Без сомнения, реально было даже больше, но некоторые погибли безвестно, не прочитанные никем.
Прошу понять правильно: храбрых – и даже безумно храбрых – людей, поступков и текстов было больше и в литературе прочитанной. В полном (моем) списке (от Радищева до Политковской) – около дюжины имен.
Но случай Гамлета: когда текст смотрит тирану в глаза и обращен прямо к его совести (которой, допустим, у него нет вовсе), к его самолюбию (чувствительному бесконечно); текст, содержащий презрение и правду, только правду и презрение; текст, после которого тиран должен бы прекратить собственную, сделавшуюся отныне невыносимой жизнь, но вместо этого, конечно, истребит и сам текст, и автора его, – случай Гамлета повторился в русской литературе трижды.
М. Ю. Лермонтов, «На смерть поэта».
Б. А. Пильняк, «Повесть непогашенной луны».
О. Э. Мандельштам, «Мы живем, под собою не чуя страны…».
Неоспоримый (признаю, что и загадочный) факт: «Повесть непогашенной луны» – самый полный и точный аналог «Мышеловки». Подробно описано коварное политическое убийство и указан – едва не назван по имени – заказчик и организатор: фактический глава государства.
Наверное, Б. А. не вполне отчетливо представлял себе, на что идет. Что его ждет, если он посмеет прожить еще двенадцать лет. Во всеуслышание сказать подлеца властителю средневековому – ну да, верная смерть, и пытка тоже возможна, но все-таки перед казнью не будут, как в Москве-1938, —
34
Боже, куда это меня занесло! Отнесло. Кормило отпустил, а шумило непослушно. (Ветрило, я хотел сказать.) Заплутал в окрестностях Немезиды. (Славные там окрестности, между Прачечным мостом и Цепным!) А плыл-то к Мнемозине – но перепутал богинь, за титаниду-бабушку принял декадентку-внучку. Вот мысль и удлинилась, – а была коротенькая совсем – куда же запропастилась? – а, вот!
Видно, звон итальянского колокола донесся до Альбиона, – Шекспир слышал про то, каким образом пятнадцать лет назад умер несчастный Джеймс Крайтон. Тоже и Гамлет представляет себе образ его смерти, да.
– Ну-ка, дети,
Кто подлее всех на свете? (Строчка украдена – мною – из стихов Саши Черного, если не ошибаюсь; и перелицована.)
Неужто Великий Винченцо I Гонзага, герцог Мантуанский, ценитель музыки и физики, щедрый работодатель Рубенса и Монтеверди, спонсор Галилея (подарил ему какую-то золотую цепь) и проч.? Тот самый, на чьих портретах из-под шелка и атласа отовсюду выпирает такой мощный стальной доспех (на груди – просто форштевень; прижав мягкого человека к такой груди, можно разрезать его вдоль пополам; и под штанами-буф наверняка проволочный памперс)? Еще у него детки чудные – трое мальчиков и девочка.
Как вам сказать. Скажем уклончиво (международные осложнения нам ни к чему): люди его фамилии бывали еще совсем недавно устроителями подлых историй. Вот, полюбуйтесь – просто бросьте на сцену взгляд.
Луциан
…Да истребится ныне жизнь в живом.
(Вливает яд в ухо спящему.)
Гамлет. Он отравляет его в саду ради его державы. Его зовут Гонзаго. Такая повесть имеется и написана отменнейшим итальянским языком. Сейчас вы увидите, как убийца снискивает любовь Гонзаговой жены.
Офелия. Король встает!
35
В 1832-м Виктор Гюго написал пьесу «Король забавляется». «Le roi s’amuse». После первого – не то после второго – представления (в «Комеди Франсез») цензура запретила ее. Будто бы за подрыв престижа королевской власти, – а я так думаю – за утонченное порно; в этой пьесе Франциск I (1494–1547) насилует дочь своего шута в режиме реального времени, прямо на сцене – за закрытой дверью, возле которой папаша терзается и скорбит, на злую радость прочим царедворцам. Таков уж неистовый романтизм. А вы бы хотели чего?
Через восемнадцать лет музыкальный композитор Джузеппе Верди, либреттист Франческо Марио Пьяве и опять же цензура (теперь итальянская) превратили эту пьесу в популярную оперу.
Для чего Пьяве пересказал звучные (чеканные, как говорится: сужу по переводу П. Г. Антокольского) французские стихи бесформенными речитативами и примитивными куплетами на итальянском. И убрал пару лишних монологов шута, которые не про его поруганную честь, а насчет, например, роли личности в истории либо эффективности террора. По ходу санобработки понизили короля французов до итальянского герцога; правда, не простого, а владетельного: раз главный терпила сюжета – шут придворный, без двора (и трона) не обойтись. У исторического Франциска шутом был некий Трибуле, – герцогу придумали итальянца с прозвищем Риголетто. Он поет баритоном. А герцог – тенором. Баритон горек. Тенор сладок.
Вдохновенная музыка жадно впитала всю пошлость текста. Арии так мелодичны, что мы хоть и сострадаем баритону, но не в силах не сочувствовать тенору.
Притом что если отключить партитуру – то перед вами два отпетых (каламбур невольный) мерзавца.
Тенор – сексуальный рекордсмен с лицензией на всех, как у Николая или Лаврентия Павловичей. (Но только Николай добросовестно вознаграждал дам, исполнивших свой долг, и поощрял их супругов; а маршал, Герой Труда и член президиума политбюро, прямо из койки, говорят, отсылал на зону; нежноголосый оперный ветреник рядом с этими двумя не более чем невинное дитя, заурядный охотник на самок, тщеславный коллекционер: повалил – позабыл.)
Терпила же баритон – преданный (в обоих смыслах) соучастник, пособник. Бессовестный, но щепетильный; коварный, но чадолюбивый; главное – глуп, как Самсон Вырин: не понимает, какую власть имеют над противоположным полом тенора. Особенно – которые не просят. (Когда в 1882 году эта пьеса вернулась на французскую сцену, Гюго переименовал ее в «Месть глупца»: видать, за полстолетия-то поумнел.)
Герцога в опере на всякий случай не зовут никак. Но в либретто, представьте себе, сказано, что герцог он – мантуанский. А это означает, что, конечно же, фамилия – Гонзага. Крайне сомнительно, что Пьяве или Верди слышали когда-либо про Джеймса Крайтона и про то, как он был предательски умерщвлен. Но когда тенор, невредимый счастливчик, заливается из кулис, покидая сюжет: Но изменя-а-аю им первый я! – а на сцене вместо него, за него умирает преданное (опять же в обоих смыслах) сопрано… Проглядел, короче, неконтролируемую ассоциацию венецианский горлит. Такая вот шутка Мнемозины.
Вообще-то она глуховата и к тому же плохо различает добро и зло. Но упущения Немезиды умудряется иногда восполнять.
Когда бы не склероз, не маразм, не Альцгеймер, не краеведы с экскурсоводами.
Ну разумеется – какие могут быть сомнения? – стоит в Мантуе памятник Риголетто. Бронзовый урод со всеми шутовскими причиндалами. В том числе с погремушкой. Стоит во дворе дома, и это, представьте, тот самый дом, где шут и его дочь жили-были. Casa di Rigoletto, внутри – экскурсионное бюро. Ничего не скажешь, удобно.
Мнемозина, кстати, – не статуя. Река. Берущая начало, как известно, в Лейбадее (Беотия, область Греции), вблизи пещеры Трофония (влиятельный пещерный прорицатель), – там же, где и Лета. Но Лета – полноводная, широкая, холодная, быстрая – как Нева. Мнемозина же – извилистая, с грязной почти стоячей водой, с несметными залежами коммунального хлама на дне, – канал Грибоедова (так называемый), одним словом. По булыжнику его набережной влачились, повизгивая, мои детские санки: в туберкулезные ясли возили меня в 1946-м. От Вознесенского моста, через Вознесенский проспект (так называемый Майорова), к тому дому, к той перекошенной подворотне, где на этот самый булыжник, заливая его кровью, в 1866-м упала Е. И. Мармеладова, – дальше не помню.
36
Я к чему, собственно, клоню. (Пусть это будет мой личный, никому не нужный вклад в теорию трагического. Благотворительный взнос.) Что не бывает (по-моему) трагизма без коварства.
У злодея обыкновенного – глупца свирепого – не та квалификация, чтобы раскрутить трагический сюжет. (Умные свирепые встречаются редко и еще реже успевают реализовать свой потенциал: их убивают до.)
А у простого подлеца – не та хватка. Подлость атакует снизу, всегда готовая поддакнуть коварству, подыграть, но не способная самостоятельно подстроить большую неудачу. (Подлец, по Далеву словарю, – это человек, готовый достигать своих целей низким искательством, в ком нет чувства чести и самоуваженья.)
В трагедии всегда есть место подлости, тем она и похожа на так называемую жизнь. Но в трагедии настоящей, заправской, непременно (по-моему) трудится некто – как определяет его Даль, – лукавый, злорадный, хитрый, скрытный и злобный, замышляющий, двуличный, проискливый на зло. Якобы есть и существительное – коварник, – но почему-то (стоило бы подумать почему) в языке не прижилось.
37
Коварство – наиболее устрашающая способность вида Homo Sapiens. Возможно, именно благодаря ей он обыграл всю остальную природу. Природе было просто нечем крыть.
«Ну, там, скажем, кошки, собаки, петухи, пауки и так далее. Или даже в крайнем случае взять – дикие звери. Слоны там. Отчасти жирафы. И так далее.
Так у этих зверей, согласно учению Брема, ничего подобного вроде того, что у нас, не бывает. Они, как это ни странно, коварства почти не понимают. И там у них этого нету.
И это, вообще говоря, отчасти даже курьезно, что у людей это есть, а у остальных этого нету. А люди все-таки, чего бы там ни говорили, в некотором роде есть венец создания, а те наоборот. И тем не менее у тех нету, а у этих есть. Вот это даже странно. И как-то нелепо».
Отнюдь. Не курьезно и не нелепо, а совсем наоборот – глубоко логично. Сам-то М. М. Зощенко окончил 8-ю петербургскую гимназию, а воспитанием внука интересовался, думаю, не особенно. Вот и не видел захватывающей картинки в учебнике истории СССР для четвертого класса, год издания 1951 и др. Два цвета: густой-прегустой зеленый (доисторическая таежная растительность) и жирный светло-коричневый, так называемый телесный (как чулки советских женщин, как так называемый кофе с молоком из оцинкованного бачка в общепите). Телесного цвета были голые дикари, доисторические соображающие, с копьями и дротиками. Они суетились и копошились по краям глубокой ямы (песок и суглинок потемней телесного), а в яме топтался, размахивая хоботом, кирпично-коричневый меховой мамонт. И смекалистые швыряли в него камнями, кололи его копьями, бросали дротики, стараясь ослепить, и каменными топорами рубили извивающийся хобот.
И так все это было толково нарисовано. Вся стратегия – как на ладони. Выследили, окружили, загнали, заманили вот на эту поляну, где предварительно выкопали яму, а поверх положили крест-накрест жерди и забросали их каким-нибудь лапником – замаскировали. Кто-нибудь из телесных еще и жизнью, небось, пожертвовал для коллектива: поддразнил мамонта, как пикадор – испанского быка, чтобы тот бросился на него прямиком по настилу.
Разделение труда. Вроде передвижной скотобойни, странствующей за свежим мясом вслед.
Вот до чего сильна была сметливость первых людей – объясняла училка. (Не забыл, как звали, но пусть будет NN – вдруг ее правнуки ею почему-либо гордятся. Расхаживала между рядами парт, имея в руках металлическую линейку. И сзади прицельно била ею нерадивых, невнимательных, неуспевающих, списывающих – по ушам, так соблазнительно оттопыренным ввиду стрижки под ноль.) Вот благодаря чему сапиенсы пришли на смену неандертальцам (теперь формулируют тоже культурно, но понаучней: вытеснили; на самом деле, как я понимаю, – истребили, поедая, иногда предварительно насилуя). Те были примитивные. Имели мозг такой же величины, но в нем не было коварства. А туда же: пользовались, например, огнем. Но нерационально: жарить живьем себе подобных даже и не пробовали небось.
Зато наши как изобрели колесо, так почти сразу додумались и до колесования. (См. миф об Иксионе: тоже история по-своему печальная.)
Я ведь разорвал цитату из «Голубой книги». В следующих двух абзацах М. М. фактически обобщает всю проблематику Шекспира. Сделать это лучше, чем он, невозможно (и незачем, и тем лучше для самонадеянного меня):
«Это всегда отчасти коробило и волновало наиболее честных специалистов-философов, проповедующих общее развитие и душевную бодрость.
“Нельзя допускать, – сказал в свое время славный философ Платон, – чтоб птицы и звери имели нравственное превосходство перед людьми”.
Но с тех пор в ужасной, можно сказать, сутолоке жизни прошло что-то там, кажется, две тысячи лет, и эти так и продолжали иметь то, чего не было у зверей».
За мамонтов, между прочим, Немезида рассчиталась с теми, из палеолита, что на картинке: наслав на них (в год смерти Крайтона, между прочим) Ермака, за ним оспу и алкоголь, а впоследствии закрепостив для «Дальстроя»: чтобы снабжали олениной администрацию лагерей и вохру. Были у этих племен языки, а у иных, говорят, и письменность. Нынешний образ их жизни описан в превосходном (да уж получше этого моего) тексте Шуры Буртина на сайте «Русский репортер» (большое спасибо блогеру Татьяне Мэй за наводку).
«Алеуты, айны, камасины, кереки, сиреники, юги уже вымерли. Эскимосы, нивхи, кеты, ульчи, ороки, орочи, негидальцы, нанайцы, наукане, удэгейцы, алюторы, ительмены, энцы, юкагиры – находятся буквально на грани исчезновения. Долгане, эвенки, эвены, ханты, манси, нганасане, селькупы, коряки, шорцы окажутся на ней через десять лет».
38
Что ж, пора оглянуться, то есть перечитать написанное (перечитал; раньше надо было, но не мог) и признать: привычка заходить издалека и доводить до точки с запятой завела меня далеко слишком. Текст растекается, разбегается, как ртуть, вокруг крошечного тезиса. Вот я сейчас его еще раз выскажу, а потом докажу еще на одном наглядном примере, и те из вас (вы ведь помните: это «вы» – фигура речи), кто дочитал до этой страницы, окончательно поймут: не стоило тратить время на такое огромное всего лишь предисловие неизвестно даже к чему.
Зато – кто, как я, имеет привычку читать с середины, может отсюда и начать.
Итак, тезис: да, жизнь каждого состоит в основном из неудач и как целое тоже представляет собой неудачу, если судить по видимым результатам и не забывать про запрограммированный, однообразный финал. Каждую неудачу можно рассказать как печальную и даже прежалостную повесть, – но не любая тянет на трагедию. Сюжет истинно трагический равен неудаче подстроенной. Такими неудачами развлекается искусство зла, творческая фантазия агрессивной воли, называемая коварством. Эта вечная и неодолимая (как жестокость; как глупость; как пошлость; как мать их – смерть) сила, действующая в истории людей, – по-видимому, подражает чему-то, заложенному в механизм обитаемого нами мироздания. Какой-то константе, вроде тех, что вычислены физикой, – но только константе невычисляемой, непознаваемой, трансцендентной (извините). Иначе с какой бы стати, по какой такой мало-мальски разумной причине приговоренные к смерти – bratoi – тратили бы драгоценное время ожидания казни на то, чтобы отнимать его у других приговоренных. Как если бы кто-то там, во Тьме, радовался нашим, bratoi, неудачам, и подстроенным, и не. Впрочем, это всего лишь интуиция агностика (догадка невежды). Кстати: некоторые институты (например, госбезопасность) и болезнетворные идеологемы тщатся представлять на Земле эту темную, скажем, энергию – и ей соответствовать.
Помните ведь: собака, крыса, мышь, кошка могут исцарапать человека насмерть. А без людей – кранты этой вселенной: потеряв сознание, она впадет обратно в никогда и опять станет ничем. Так вот, лично я опасаюсь, что она не прочь. Каждая из вселенных не прочь. Их ведь, говорят, много.
Возвращаясь к изящной словесности: трагический писатель, и прежде всех – сочинитель трагедий, необходимо нуждается в некоем внутреннем соавторе. В играющем драматурге неудачи. Это может быть какой-нибудь мстительный античный бог (или злобная богиня – скажем, Геката), какой-нибудь Яго или Эдмунд, или пусть он возьмет псевдоним: Судьба. Некто коварный.
А также нужен некто глупый – или, как отозвался А. С. Пушкин об Отелло, доверчивый. Злоупотребление доверием – вот на чем держится неудача, подстроенная как следует. Бедный глупый Лир, бедный глупый Макбет. Бедный-бедный, глупый-глупый Тит Андроник! Глупый, гордый, великодушный Кай Марций, Кориолан! Казалось бы: Гамлета голыми руками не возьмешь, уж он-то не доверяет никому; ан доверится, да еще заведомым врагам; ан возьмешь; на что ум, когда жить незачем.
Как только неудача доведена до непоправимого конца – на сцену, предводимая нашей славной Немезидой, врывается кавалерия справедливости, за ней – похоронная команда. Коварному – карачун, желательно – мучительный (Гекату, однако, фиг достанешь), доверчивым и примкнувшим, а также подвернувшимся под руку – Marche Funebre. Занавес.
Первая трагедия Шекспира – «Тит Андроник» – приготовлена в точности по этому рецепту.
(И это трагедия – наука не станет спорить – плохая. Слишком густо в ней кипящее коварство, перебор рубленой человечины, прямо ложка стоит. А уж какой отъявленный там подлец. Зовут, между прочим, – Арон. Не возбуждайтесь, не возбуждайтесь: он черный мавр и атеист. Впрочем, действительно, задуман как клон Вараввы, мальтийского еврея из одноименной трагедии Марло. Но сразу несколько других персонажей, не уступая ему в подлости, превосходят его жестокостью – и это, знаете ли, немного чересчур.)
Четвертая, пятая, шестая, седьмая («Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет») – в общем, соблюдают, хотя и аккуратней, без излишеств, такой же стратегический сюжетный трафарет, обогащая его разными блестящими тактическими новинками.
В восьмой («Антоний и Клеопатра») применена схема с другим передатчиком зла. Не от коварства врагов пропадает ни за понюх табаку великий воин и политический оратор. А оттого, что подкаблучник: рабской зависимостью прикован (сам лучше всех это понимая, страдая от этого, наслаждаясь этим) к созданию, состоящему (как нарочно – то есть именно нарочно – целиком: как сказано известно кем – от гребенок до ног) из вздора, каприза и лжи. Его привязанность помножить на ее стервозность – результат абсолютно тот же самый, что у коварства с глупостью.
В третьей трагедии («Юлий Цезарь»), в девятой («Кориолан»), в десятой («Тимон Афинский») главная причина неудач – та, что жизнь вообще не рассчитана на людей большого размера. Сапиенсы типичные, сбившись в стаю, с энтузиазмом роют им могилы и загоняют туда, как мамонтов.
Само собой, коварства хоть отбавляй и в исторических хрониках Шекспира. В комедиях тоже, но там оно – в виде, скажем, лукавства – применяется в мирных целях. Есть и сложный случай: с подлецом прощенным («Мера за меру»), и особо сложный: когда воплощением свирепого коварства выставлен простак, а за победу справедливости выдана пародия на правосудие («Венецианский купец»). Я сказал бы, что это пьесы нечестные; наука предпочитает термин «проблемные».
Ну вот. А «Ромео и Джульетта» – трагедия по хронологическому порядку вторая. (Года через полтора после «Тита Андроника», тремя годами раньше, чем «Юлий Цезарь».) И в ней как будто ничего этого нет! Ни капли ничьего коварства! Неудача нетерпеливых молодоженов никем не подстроена. Никто не желает им зла, не жаждет погубить. Как же вышло, что они погибают?
А вот и посмотрим.
39
Начать действие с массовой драки. Скоротечной (продолжительность – по вкусу режиссера), без жертв и разрушений, – только чтобы зритель не волновался: заплатил не за фуфло – кровь непременно прольется, и много, и скоро. Трагедия же.
Хотя разговаривающие на сцене, буквально все, – молоды и на вид здоровы. Старухе Капулет, например – не больше 25: говорит, в возрасте Джулиэт «давно уж» была ее матерью. К человеку, женившемуся на ней – 11– или 12-летней, – стоило бы приглядеться внимательней, – но как бы там ни было, старику Капулету максимум лет 45. И старику Монтекки навряд ли намного больше. Меркуцио, Бенволио, Тибальт, Ромео, Парис – вообще юнцы. Возраст девочки четко обозначен – неоднократно оглашен и обсужден. Как на рынке. Короче, ни у кого нет причины скончаться в самое ближайшее. Кроме как у Ромео.
Но сказано: трагедия – значит трагедия. Как если бы автор заключил пари с театральной тусовкой всего мира – ставлю полный сбор от спектакля против цены собрания сочинений: шестеро из тех, кто перед вами расхаживает и разглагольствует, через пять дней будут мертвы. Предположим (и, между прочим, не ошибемся), на сцене воскресное утро, – нет возражений, леди и джентльмены? Так вот – шесть трупов к утру пятницы.









































