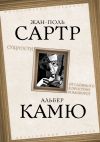Автор книги: Сара Бейквелл
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
4. Они и зов
Глава, в которой Сартра мучают кошмары, Хайдеггер пытается думать, Карл Ясперс в отчаянии, а Гуссерль взывает к героизму
Захватывающие выступления Хайдеггера в 1929 году усилили его философскую привлекательность в стране, которая вышла из войны и кризиса гиперинфляции 1923 года только для того, чтобы снова погрузиться в экономическую катастрофу. Многие немцы чувствовали себя преданными социалистическим правительством, которое пришло к власти в результате своего рода переворота на последних этапах войны. Они ругали евреев и коммунистов и обвиняли их в заговоре с целью подрыва национальных интересов. Хайдеггер, похоже, разделял эти подозрения. Он также был разочарован Германией 1920-х годов.
Послевоенная бедность поражала тех, кто посещал в эти годы Германию, а люди реагировали на нее, обращаясь к экстремистским партиям левого и правого толка. Когда Раймон Арон впервые приехал в страну в 1930 году, его шок немедленно перерос в вопрос: как Европе избежать новой войны? Два года спустя молодой французский философ Симона Вейль после поездки в Германию рассказывала левым газетам, как нищета и безработица разрушают основу немецкого общества. Тех, у кого была работа, преследовал страх ее потерять. Люди, которые не могли позволить себе жилье, становились бродягами или полагались на родственников, чтобы те их приютили, от чего семейные отношения накалялись до предела. Катастрофа могла поразить любого: «вы видите пожилых людей в строгих воротничках и шляпах-котелках, попрошайничающих у выходов из метро или поющих надтреснутыми голосами на улицах». Старики страдали, а молодым, не видевшим ничего другого, даже вспомнить было нечего.
Революционный потенциал ситуации был очевиден, но никто не мог угадать, куда он перейдет: к коммунистам или гитлеровским нацистам. Вайль надеялась на левый поворот, но опасалась, что в отчаянные времена суровая униформа и полковая дисциплина нацистских митингов окажутся более привлекательными, чем смутные социалистические мечты о равенстве. Она оказалась права. 30 января 1933 года слабое коалиционное правительство во главе с президентом Паулем фон Гинденбургом уступило давлению и назначило канцлером Адольфа Гитлера. Когда-то Гитлер был мишенью для насмешек, теперь же он контролировал страну и все ее ресурсы. Выборы 5 марта усилили большинство его партии. 23 марта новый закон о полномочиях дал ему практически неограниченную власть. Он укрепил ее в течение лета. Таким образом, между приглашением Арона к Сартру после беседы за абрикосовым коктейлем и фактическим переездом Сартра в Берлин страна полностью изменилась.
Весной жизнь в Германии начала стремительно меняться: перемены затронули частную жизнь самым радикальным и навязчивым образом. В марте нацисты предоставили себе новые полномочия по аресту подозреваемых и обыску домов по своему усмотрению. Они приняли законы, разрешающие прослушивать телефоны и следить за почтой – сферы частной жизни, которые прежде считались священными. В апреле они объявили «бойкот» еврейским предприятиям и уволили с работы всех считавшихся евреями или имевших антинацистские взгляды государственных служащих. 2 мая были запрещены профсоюзы. Первое зрелищное сожжение книг состоялось 10 мая. Все политические партии, кроме НСДАП, были официально запрещены 14 июля 1933 года.
Многие немцы, как и вся Европа, с ужасом наблюдали за этой стремительной чередой событий, но ничего не могли с этим поделать. Бовуар позже удивлялась тому, как мало они с Сартром тревожились о росте нацизма в Германии в начале 1930-х годов, – и это говорят два человека, которые впоследствии увязли в политике по уши. По ее словам, они читали газеты, но в те дни их больше интересовали истории убийств или курьезы психологии – например, убийство сестрами Папен домовладельца, у которого они работали горничными, или случай, когда некая пара привела домой другую пару для секса вчетвером, а на следующий день покончила с собой. Подъем фашизма казался абстрактной материей, в то время как подобные ситуации – курьезами повседневной человеческой жизни. С итальянской формой фашизма Сартр и де Бовуар столкнулись летом 1933 года, незадолго до переезда Жана-Поля в Берлин. Они поехали в Рим по скидке, которую предоставили итальянские железные дороги, и, гуляя поздно вечером у Колизея, оказались застигнуты громко кричавшими людьми в черных рубашках, которые светили им в лицо. Это их потрясло, однако не слишком политизировало.
Затем наступил год пребывания Сартра в Берлине, но большую его часть он был настолько поглощен чтением Гуссерля и других философов, что поначалу почти не замечал происходящего за окном. Он пил со своими однокурсниками и часами гулял по городу. «Я заново открыл для себя безответственность», – вспоминал он позже в записной книжке. По мере продолжения учебного года красно-черные знамена, митинги СА и частые вспышки насилия настораживали все больше. В феврале 1934 года де Бовуар впервые приехала к нему в гости и была поражена в основном тем, насколько Германия выглядела обычной. Но когда в июне она снова посетила страну и проехала с Сартром из Берлина через Дрезден, Мюнхен и любимый нацистами Нюрнберг, военные марши и мелькавшие на улицах сцены жестокости вызвали у обоих желание уехать из страны как можно скорее. К этому времени Сартру снились кошмары о пылающих городах и крови, забрызгивающей майонезные банки.
Смесь тревоги и ощущения нереальности, которую испытывали Сартр и Бовуар, не была чем-то необычным. Многие немцы отмечали подобное сочетание, а воодушевление было характерно скорее для новообращенных нацистов. Страна была пропитана ощущением, которое Хайдеггер назвал «неестественностью».
Образованные люди были склонны считать нацистов слишком нелепыми и не воспринимать всерьез. Карл Ясперс, как он позже вспоминал, тоже совершал эту ошибку, а де Бовуар наблюдала подобное пренебрежение среди французских студентов в Берлине. Так или иначе, большинство несогласных с Гитлером вскоре научились держать рот на замке. Если по улице проходил нацистский парад, они либо исчезали из виду, либо отдавали обязательный салют, как и все остальные, – убеждая себя, что этот жест ничего не значит, если в него не верить. Как позже писал об этом периоде психолог Бруно Беттельхайм, мало кто рискнул бы жизнью ради такой мелочи, как поднятие руки, – однако именно так у человека исчезает способность сопротивляться, а вместе с ней исчезают чувство ответственности и принципиальность.
Журналист Себастьян Хаффнер, в то время студент юридического факультета, в своем дневнике также использовал слово «неестественность», добавив: «Я словно под наркозом. Объективно ужасные события вызывают вялый, ничтожный эмоциональный отклик. Убийства выглядят школьными проделками. Унижения и моральное разложение воспринимаются как пустяковые происшествия». Хаффнер считал, что отчасти в этом виновата сама современность: люди привязались к своим привычкам и средствам массовой информации, разучившись останавливаться и думать, и не желают нарушать привычный темп своей жизни, чтобы задаться вопросом о происходящем.
Бывшая возлюбленная и ученица Хайдеггера Ханна Арендт в работе 1951 года «Истоки тоталитаризма»[25]25
Скрипториум, М.: 2020. – Прим. ред.
[Закрыть] утверждала, что тоталитарные движения процветали, по крайней мере, отчасти из-за фрагментарности современной жизни, сделавшей людей уязвимыми перед влиянием демагогов. В другом сочинении она использовала фразу «банальность зла» для описания самых крайних перекосов в человеческой морали. Эта фраза вызвала критику – в основном потому, что она применила ее к одному из организаторов Холокоста Адольфу Эйхману, виновному в гораздо большем, чем неспособности взять ответственность на себя. И все же она оставалась верна своему анализу: по мнению Арендт, недостаток реакции на насилие означает недостаток воображения и внимания, что не менее опасно, чем сознательное совершение насилия. А это равносильно неподчинению единственной заповеди, которую она усвоила от Хайдеггера в марбургские времена: «Думай!»
Но что это такое – думать? Или, как Хайдеггер спросит в названии более позднего эссе, Was heisst denken? Это игра слов на немецком, которую можно перевести как «Что называется мышлением?», так и «Что призывает к мышлению?». Можно было бы ожидать, что именно Хайдеггер, без конца призывавший избавиться от забывчивости и усомниться в повседневной реальности, окажется тем самым философом, который сумеет заставить соотечественников мыслить и сохранять бдительность.
Действительно, именно это, по его мнению, он и делал. Но делал вовсе не так, как хотели бы Арендт, Ясперс, Гуссерль или многие более поздние читатели.
В «Бытии и времени» содержится по крайней мере одна большая идея, которая должна была бы пригодиться в борьбе с тоталитаризмом. Dasein, писал Хайдеггер, имеет тенденцию попадать под влияние того, что называется das Man или «они» – безличной сущности, лишающей нас свободы мыслить самостоятельно. Чтобы жить подлинно, нужно сопротивляться этому влиянию или перехитрить его, но это нелегко, потому что das Man туманно. Man в немецком языке означает не «человек», как в английском (это der Mann), а нейтральную абстракцию, что-то вроде «one» в английской фразе «one doesn’t do that» – «так делать не принято» или «they» в «they say it will all be over by Christmas» – «говорят, к Рождеству все это закончится». «Они» – это, вероятно, лучший из имеющихся переводов, если не считать, что это местоимение указывает на неких третьих лиц, существующих отдельно от меня. Вместо этого, по Хайдеггеру, das Man – это и я тоже. Он везде и нигде; он не является ничем определенным, но каждый из нас – это он. Как и в случае с бытием, он вездесущ настолько, что его не заметить. Однако если я не буду осторожен, das Man возьмет на себя принятие важных решений, которые должны быть моими собственными. Он снимает с меня ответственность или «подотчетность». Как сказала бы Арендт, мы погружаемся в банальность, не умея думать.
Чтобы противостоять das Man, я должен подчиниться зову «голоса совести». Этот зов исходит не от Бога, как можно было бы предположить, исходя из традиционного христианского определения голоса совести. Он исходит из подлинно экзистенциалистского источника: моего собственного подлинного «я». Увы, этот голос незнаком, его трудно услышать, потому что это не голос моего привычного «они-сам». Это чужая, неестественная версия моего обычного голоса. Я знаком со своим «они-сам», но не со своим неотчужденным голосом – так что, по странному стечению обстоятельств, мой настоящий голос – это тот, который звучит для меня наименее знакомо. Я могу не услышать его, или услышать, но не понять, что это и есть я. Могу принять его за что-то приходящее издалека, возможно, за тонкий тревожный голос, подобный неслышным крикам о помощи микроскопического героя в фильме 1957 года «Невероятно уменьшающийся человек» – одном из лучших выражений паранойи середины века об исчезающих силах подлинного человечества. Идея призыва к подлинности стала главной темой позднего экзистенциализма, причем призыв интерпретировался как нечто вроде «Будь собой!», в противоположность фальши. Для Хайдеггера призыв более фундаментален. Это призыв принять себя, о котором вы и не подозревали: пробудиться к своему бытию. Более того, это призыв к действию. Он требует действия, требует принять решение.
Легко подумать, что достаточно не поддаваться убаюкивающему пению сирены das Man в общественной сфере, и этого хватит, чтобы противостоять устрашению и общей тенденции к конформизму. Легко сделать вывод, что аутентичный голос Dasein призывает вас не поднимать руку, когда мимо проходит нацистская колонна.
Но Хайдеггер имел в виду не это.
Слухи о политических пристрастиях Хайдеггера ходили уже давно. В августе 1932 года писатель Рене Шикеле отметил в своем дневнике, что Хайдеггер, по слухам, общался «исключительно с национал-социалистами». Гуссерль слышал, что Хайдеггер говорил антисемитские вещи. Ханна Арендт слышала похожие истории. Зимой 1932 года она написала Хайдеггеру письмо, в котором прямо спросила, не нацист ли он. Он отрицал это, в гневном письме подчеркнув, что помогал еврейским студентам и коллегам. Ее это не убедило, после чего они не общались семнадцать лет.
Хайдеггер, похоже, умел при необходимости скрывать свои взгляды. Более того, во время романа с Арендт его нисколько не смущало то, что она была еврейкой; а позже он сблизился с Элизабет Блохман, тоже еврейкой. Он обучал многих студентов-евреев и не возражал против работы с Гуссерлем в начале своей карьеры. Определенная доля антисемитизма была распространена в повседневной речи в то время; так что сами по себе эти слухи о Хайдеггере немногого стоят.
Но, как выяснилось, Арендт была права, предполагая самое худшее. В апреле 1933 года все сомнения относительно Хайдеггера были отброшены: он принял пост ректора Фрайбургского университета – должность, требовавшую от него исполнения новых нацистских законов. Это также обязывало его вступить в партию. Он так и сделал, после чего выступил с рядом пронацистских речей перед студентами и преподавателями. По сообщениям, его видели на сжигании книг во Фрайбурге 10 мая, шагающим в моросящий вечер при свете факелов к костру на площади перед университетской библиотекой. Наедине с собой он заполнял тетради философскими размышлениями, чередуя их с антисемитскими высказываниями с нацистской окраской. Когда эти «Черные тетради» увидели свет в 2014 году, они стали еще одним подтверждением уже известного: Хайдеггер, по крайней мере, некоторое время был нацистом, и не по обстоятельствам, а по убеждению.
О том, что он говорил и думал в это время, можно получить представление, прочитав инаугурационную речь, с которой он выступил в качестве ректора перед собравшимися сотрудниками университета и членами партии в зале, украшенном нацистскими знаменами, 27 мая 1933 года. Большая часть сказанного им отражает линию партии: он говорит о том, что немецкие студенты должны заменить отжившую свое так называемую «академическую свободу» новыми формами трудовой, военной и «интеллектуальной» службы. Но он добавляет характерные хайдеггерианские штрихи, например, когда объясняет, что это служение знаниям подвергнет студентов «самой острой опасности их существования посреди всепоглощающего бытия». Как немецкий народ в целом сталкивается с «крайней вопросительностью своего собственного существования», так и студенты должны посвятить себя «существенному и простому вопрошанию посреди историко-духовного мира народа». Таким образом, Хайдеггер использовал свою речь для пародии на две самые глубокие темы экзистенциалистской философии: самовопрошание и свобода. Он снова подчеркнул это так называемое «вопрошание» в другом обращении в ноябре того же года, на этот раз для сопровождения своей (обязательной) «Декларации о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства». Мыслитель также с увлечением разрабатывал собственные образовательные планы, вызвавшись организовать летние лагеря для преподавателей и студентов в своей хижине Тодтнауберг. Они были разработаны таким образом, чтобы сочетать физические тренировки с семинарскими дискуссиями – своего рода философский нацистский лагерь.
Нацизм Хайдеггера был важен потому, что теперь он обладал реальной властью над жизнями других людей. Из чокнутого профессора в смешной одежде, пишущего прекрасные и малопонятные гениальные произведения не для всех, он превратился в представителя власти, которого должен был обхаживать каждый студент и преподаватель. Он мог при желании разрушить карьеру и поставить под угрозу личную безопасность людей. Хайдеггер говорил, что призыв Dasein будет неузнаваем, но мало кто, читая «Бытие и время», мог предположить, что он будет звучать так похоже на призыв подчиниться нацистам.
Его позиция привела его и к личным предательствам. Среди новых постановлений апреля 1933 года, которые Хайдеггеру выпало исполнять и поддерживать, было одно, отстранявшее от государственных и университетских должностей всех, в ком нацисты видели евреев. Это коснулось и Гуссерля: хоть он и был на пенсии, он потерял статус эмерита[26]26
Лат. emeritus «заслуженный, отслуживший, старый» – титульное обозначение для профессоров. – Прим. науч. ред.
[Закрыть] и связанный с ним привилегированный доступ к университету. Сын Гуссерля Герхарт, профессор права в Кильском университете, потерял работу по тому же постановлению – Герхарт, которого ранили в Первой мировой войне и чей брат отдал жизнь за Германию. Новые законы были чудовищным оскорблением для семьи, которая отдала так много. Единственной помощью Хайдеггеров было послать букет цветов Мальвине Гуссерль с письмом от Эльфриды, в котором подчеркивался патриотизм Гуссерлей. Письмо, очевидно, было задумано для того, чтобы они могли использовать его в свою защиту, если это им когда-нибудь понадобится. Но тон письма был холодным, и Мальвина, которая была не из тех, кто безропотно терпит оскорбления, затаила обиду. В том же году появилось новое издание «Бытия и времени», в котором исчезло посвящение Хайдеггера Гуссерлю.
За новой ролью Хайдеггера с отчаянием наблюдал еще один его друг – Карл Ясперс. Они с Хайдеггером сблизились после встречи на дне рождения Гуссерля – том самом, на котором Мальвина назвала Хайдеггера «феноменологическим ребенком». Хотя Ясперс жил в Гейдельберге и встречались они нечасто, их переписка и дружба на расстоянии были теплыми.
У них было много точек философского соприкосновения. После раннего знакомства с идеями Гуссерля Ясперс продолжил собственную работу, опираясь как на психологию, так и на кьеркегоровский экзистенциализм. Его особенно интересовали исследования Кьеркегора о выборе «или-или» и о свободе – о том, как мы сталкиваемся с дилеммами и как решаем, что делать. Ясперс сосредоточился на том, что он называл Grenzsituationen – пограничные ситуации, или предельные ситуации. Это моменты, когда человек оказывается зажатым в рамки происходящего, но в то же время подталкивается этими событиями к рубежам нормального опыта. Например, вам может потребоваться сделать выбор между жизнью и смертью, или что-то может внезапно напомнить вам о вашей смертности, или какое-то событие может напомнить, что вы должны принять на себя бремя ответственности за поступки. Переживание таких ситуаций является для Ясперса почти синонимом существования в кьеркегоровском смысле. Переносить их тяжело, но они порождают изъяны в нашем существовании и открывают путь к философии. Мы не можем решить их абстрактным мышлением; их нужно прожить, и в конце концов мы делаем выбор всем своим существом. Это экзистенциальные ситуации.
Интерес Ясперса к пограничным ситуациям, вероятно, был связан с ранним осознанием собственной смертности. Карл с самого детства страдал от тяжелой болезни сердца и мог умереть буквально в любой момент. У него также была эмфизема, из-за которой он говорил медленно, делая большие паузы, чтобы перевести дух. Обе болезни означали, что любое физическое напряжение для него смертельно опасно.
В повседневной жизни он полагался на свою жену Гертруду, с которой был очень близок. Как и многие жены философов, она вела его расписание и помогала ему с бумажной работой. Однако, помимо этого, она участвовала и в развитии его идей. Ясперс много с ней дискутировал – почти так же, как Сартр позже дискутировал с де Бовуар – с той лишь разницей, что у де Бовуар была еще и своя философская карьера. Хайдеггер был поражен, узнав о работе Ясперса с Гертрудой; он бы и не подумал о том, чтобы так тесно вовлечь Эльфриду в свою интеллектуальную жизнь. Для него философия была уделом отшельников из хижины в Тодтнауберге – или, в лучшем случае, предметом дискуссий с избранными учениками и студентами.
Ясперс гораздо больше, чем Хайдеггер, понимал ценность совместного мышления. Несмотря на одышку, он много общался с людьми. Ханна Арендт, друг всей его жизни, позже вспоминала об их беседах в 1920-х и 1930-х годах: «Вспоминаю ваш кабинет… кресло за письменным столом и кресло напротив, где вы скрещивали ноги в причудливые узлы, а затем снова их вытягивали». Гейдельберг славился своими академическими салонами и светскими кругами: самый известный вращался вокруг социолога Макса Вебера, но Ясперс стал центром другого. Он с почти религиозным благоговением относился к идеалу университета как центра культурной деятельности, что заставляло его скрупулезно относиться даже к скучным административным задачам. Его коммуникационный идеал питал целую историческую теорию: Ясперс выделил в истории цивилизации «осевое время» в V веке до нашей эры, когда философия и культура одновременно в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии получили мощнейшее развитие. «Настоящая философия нуждается в общении, чтобы появиться на свет, – писал он и добавлял: – Необщительность философа практически является критерием ложности его мышления».
Энтузиазм Ясперса к философским беседам побудил его после встречи с Хайдеггером на вечеринке у Гуссерля пригласить его в Гейдельберг для первой порции «совместного философствования» в 1920 году, а затем еще на восемь дней в 1922-м. Во второй раз Гертруда была в отъезде, поэтому Хайдеггер с Ясперсом вели свои философские дискуссии без нее. Ясперс загорелся идеей совместного издания журнала – два редактора, два автора – под названием «Философия века». Он был бы наполнен короткими, ясными, решительными эссе о современности. Этого так и не произошло, но совместные планы укрепили их дружбу. Начав обращаться друг к другу в письмах как «профессор», затем как «герр Хайдеггер» и «герр Ясперс», к концу 1923 года они приветствовали друг друга как «дорогой Ясперс» и «дорогой Хайдеггер». Хайдеггер был сдержаннее; во время их встреч он мог погрузиться в молчание, что вынуждало Ясперса говорить больше обычного, чтобы заполнить паузу. Однако Хайдеггер писал Ясперсу, что эти первые шаги к дружбе вызвали у него «неестественное чувство» – на языке Хайдеггера это были слова искренней похвалы.
Оба они считали, что философии нужна революция, но расходились в том, какую форму она должна принять. Были у них и стилистические разногласия. Хайдеггер считал скучной манию Ясперса к спискам и столбцам в своих работах, а Ясперс находил черновики «Бытия и времени» невнятными. Были и другие ранние признаки дисгармонии. Однажды Ясперсу сказали, что Хайдеггер плохо отозвался о нем за его спиной, и он решил с ним поговорить. Хайдеггер стал это отрицать и добавил шокированным тоном: «Я никогда раньше с таким не сталкивался». Это оставило Ясперса в еще большем замешательстве. Спор закончился тем, что они оба были обескуражены и оскорблены, но Ясперс замял дело.
Затем непонимание только усилилось. С приходом к власти нацистов в их отношениях появилось нечто «отчуждающее», как выразился Ясперс в написанных много лет спустя частных заметках о Хайдеггере. У Ясперса были все причины для отчуждения от своего друга: сам-то он не был евреем, а вот Гертруда была. Как и многие другие, супруги поначалу относились к нацистской угрозе пренебрежительно. Они руководствовались обычными соображениями: не могут же эти варвары долго оставаться у власти? Даже для выдающегося профессора было бы трудно бежать из страны и начать все сначала в другом месте, вдали от всего, что придавало смысл его жизни. Кроме того, уехать всегда означало уплату «налога на побег из Рейха» и получение виз. С 1933 года Карл и Гертруда регулярно рассматривали возможность бегства, но так этого и не сделали.
В марте 1933 года, перед самым началом ректорства, Хайдеггер посетил Ясперса, и в разговоре произошел неловкий момент. Зашла речь о национал-социализме, и Хайдеггер сказал: «Нужно идти в ногу со временем». Ясперс был так потрясен, что не нашелся с ответом и в свою очередь не стал дальше расспрашивать Хайдеггера, не желая слышать, что еще тот может добавить. В июне того же года Хайдеггер снова побывал у Ясперса в Гейдельберге, чтобы повторить свою речь о новом режиме и университетах. Находясь в аудитории, Ясперс был поражен «громом аплодисментов», которыми студенты приветствовали слова Хайдеггера. Что касается его самого, то он писал: «Я сидел впереди на периферии, вытянув перед собой ноги, засунув руки в карманы, и не двигался с места». Длинные ноги Ясперса, которые производили такое впечатление на Арендт, выразили все эмоции Ясперса по поводу речи Хайдеггера.
После этого у себя дома Ясперс сказал Хайдеггеру: «Как в 1914 году…», намереваясь продолжить: «Снова это коварное массовое помешательство». Но Хайдеггер с таким энтузиазмом согласился с первыми словами, что Ясперс оборвал свою мысль на полуслове. Чуть позже за ужином зашла речь о Гитлере и его недостатке образования, и на этот раз Хайдеггер, как ни странно, сказал: «Образование совершенно не важно, просто посмотрите на его замечательные руки!» Для любого другого человека это прозвучало бы просто эксцентрично. Для Хайдеггера же с его интересом к ручной работе это было действительно значимо. Похоже, его привлекала не столько нацистская идеология, сколько идея о том, что Гитлер умело придаст стране новую форму.
Гертруда Ясперс ожидала приезда Хайдеггера с ужасом, но ради мужа старалась встретить его радушно. Перед его приездом она писала родителям: «Я должна сказать себе: я – дама с Востока, мы знаем о гостеприимстве все! Поэтому я должна просто быть доброй и молчать!» Так она и поступила, но при отъезде Хайдеггер был с ней невежлив: «Он даже толком не попрощался», – написал Ясперс Ханне Арендт впоследствии. Ясперс не мог простить его прежде всего за это. Много лет спустя Хайдеггер сказал, что поступил так из стыда, имея в виду, вероятно, что ему было стыдно за свой нацизм, но Ясперс отнесся к этому объяснению скептически. Их переписка заглохла надолго, и Хайдеггер больше никогда не приезжал домой к Ясперсу.
Позже Ясперс вспоминал, что, быть может, совершил ошибку, слишком тактично обращаясь с Хайдеггером. Когда в 1933 году Хайдеггер прислал ему печатную версию своей ректорской речи, ответ Ясперса был в высшей степени дипломатичным: «Приятно было увидеть авторское изложение речи после того, как я прочитал ее пересказ в газете». Нужно ли было быть более критичным, спрашивал он себя позже? Возможно, именно он мог остановить «опьяненного, воодушевленного Хайдеггера». Возможно, Хайдеггер нуждался в том, что впоследствии получило название «интервенция», и это спасло бы его от самого себя. Ясперс подразумевал, что не смог повлиять на Хайдеггера в должной степени – и он связывал это с общей неспособностью образованных и терпимых немцев принять вызов времени.
Конечно, последующим поколениям (да и тем же самым людям впоследствии) относительно легко увидеть, какие проблемы представляла собой та или иная «пограничная ситуация»; однако проживающим ее в моменте такой ретроспективный взгляд недоступен. Естественная человеческая реакция – попытаться продолжать жить как можно более привычной жизнью, пока это возможно. Бруно Беттельгейм позже заметил, что при нацизме некоторые сразу поняли, что жизнь не могла оставаться неизменной: именно они сбежали быстрее всех. Сам Беттельгейм в их число не входил. Арестованного в Австрии, аннексированной Гитлером, его отправили сначала в Дахау, а затем в Бухенвальд, но затем освободили по массовой амнистии в честь дня рождения Гитлера в 1939 году – невероятное избавление, после которого он сразу же уехал в Америку.
Важность сохранения открытости к происходящему и способности увидеть момент, когда необходимо принять решение, была темой, которую в том же году исследовал другой философ-экзистенциалист, на этот раз французский – Габриэль Марсель. Христианский мыслитель, сделавший себе имя как драматург и излагавший свои идеи в основном в эссе или на встречах со студентами и друзьями в своей парижской квартире, Марсель разработал глубоко теологическую ветвь экзистенциализма. Его вера отдаляла его от Сартра и Хайдеггера, но он разделял с ними чувство того, как история предъявляет требования к человеку.
В своем эссе «Онтологическое таинство и конкретное приближение к нему»[27]27
Издательство гуманитарной литературы, М.: 1995. – Прим. ред.
[Закрыть], написанном в 1932 году и опубликованном в роковом 1933 году, Марсель писал о человеческой склонности застревать в привычках, принятых идеях и бездумной привязанности к имуществу и знакомым сценам. Вместо этого он призывал своих читателей развивать способность оставаться «доступными» для ситуаций по мере их возникновения. Подобные идеи disponibilité или доступности рассматривались и другими писателями, в частности Андре Жидом, но Марсель сделал это своим основным экзистенциальным императивом. Он осознавал, насколько это редкое явление и как непросто с ним жить. Большинство людей впадают в то, что он называет «кристаллизации»: скованную, зажатую форму жизни – «будто каждый из нас скрывает в себе некий панцирь, который постепенно затвердевает и заключает его в тюрьму».
Марселевский «панцирь» напоминает понятие Гуссерля о накопленных и негибких предубеждениях, которые следует отбросить в эпохé, чтобы открыть доступ к «самим вещам». В обоих случаях отбрасывается жесткое, и трепетная свежесть того, что находится под ним, становится объектом внимания философа. Для Марселя научиться оставаться открытым к реальности таким образом – главная задача философа. Это под силу каждому, но философ – это тот, от кого прежде всего требуется бодрствовать, чтобы первым забить тревогу, если что-то не в порядке.
Хайдеггер тоже верил в бдительность: он намеревался потрясти людей, чтобы вывести их из забытья. Но для него бдительность означала не привлечение внимания к нацистскому насилию, государственной слежке или реальным угрозам для его сограждан. Она означала решительность и твердость в выполнении требований, которые история предъявляла Германии с ее самобытным бытием и судьбой. Это означало идти в ногу с избранным кумиром.
Для Хайдеггера в начале 1930-х годов речь шла исключительно о немцах.
Этот аспект его работы легко забыть; мы привыкли считать философию универсальным посланием для любого времени и места – или, по крайней мере, предполагаем у нее стремление к этому. Но Хайдеггеру не нравилось понятие универсальных истин или универсального человечества, он считал это фантазией. Для него Dasein не определяется общими способностями разума и понимания, как считали философы эпохи Просвещения. Тем более он не определяется какой-либо трансцендентной вечной душой, как это принято в религиозной традиции. Мы вообще не существуем на более высоком, вечном плане. Бытие Dasein локально: оно имеет историческую ситуацию и формируется во времени и месте.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!