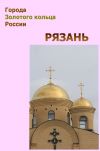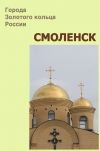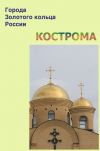Автор книги: Сборник статей
Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
2. За освобождение урбанистики из тесных рамок парадигм информационного общества и общества услуг
На пути к изучению комбинаций “город+знание” необходимо прежде всего отличать друг от друга данные, сведения, знание и обучение. Данные будут здесь вводиться как наблюдаемые различия; сведения, в таком случае, это различия, имеющие значение (differences that make a difference, как выразился Вацлавик с его любовью к сдвоенным структурам); для этого данные нужно рассматривать в такой системе определения релевантности, которая позволяет увидеть различия. И, наконец, знание – это когнитивная операция с гораздо более притязательной избирательностью.
Одна из важнейших функций знания – упорядочивание и структурирование экспоненциально растущей массы сведений посредством релевантных данных, помещение их в обозримые контексты и исключение иррелевантных сведений с целью обеспечить акторам способность к деятельности. Здесь я опираюсь на работы ключевых представителей американского прагматизма (Пирс, Мид, Дьюи), которые установили, что формы знания – это формы компетенций, открывающие, в свою очередь, пространства и опции для действия (“knowledge as practice”, Knorr Cetina 1999); точно так же установлено – по крайней мере со времен появления теории речевых актов (Остин, Серль), – что речь систематически связана с уровнем деятельности (ср. обещание, информирование, утаивание, обман). Знание во всех своих формах при этом систематически связано с процессом социального установления смысловых связей (sense-making). Таким образом, знание включает в себя в качестве важнейших составляющих сравнения, выводы, ассоциации и диалогические практики; оно связано с опытом, суждением, интуицией и оценкой, одним словом – со “смыслом” в структурно-логическом понимании (т. е. не в том значении, в каком мы говорим о “смысле жизни”). В то же время знание всегда представляет собой результат процессов обучения. Поэтому категории “обучение” и “процессы обучения” можно ввести, определяя их как “созданную и подтвержденную в процессе коммуникации, т. е. проверенную и одобренную, практику, в которую в подходящей точке встраиваются сведения [и данные – У.М.] и в которой социальные практики спрессовываются в связанные с действием и направляющие его паттерны” (Willke 2002: 17). Отсюда становится отчетливо понятно, что любое производство знания и любая его передача связаны с процессами обучения. Несколько огрубляя, можно охарактеризовать знание как продукт, а обучение как процесс. Эти определения понятий, опирающиеся на данные исследований, как мы увидим далее, имеют непосредственные следствия для установления отношений между городом и знанием.
Space of place / space of flowsПрежняя, доминировавшая в 1980-х и в первой половине 1990-х годов, парадигма информационного общества оценивала политику правительств в области инноваций, коммунальную политику и городские исследования прежде всего под углом зрения форсированного строительства коммуникационно-технологических инфраструктурных сетей. Кодифицированные информационные процессы и квантитативные потоки данных и сведений в мировых сетях считались ultima ratio и главным содержанием сегодняшнего (на тот или иной момент) дня. В том, что касалось структуры расселения и муниципальной политики, при господстве информационной парадигмы в градостроительной теории и практике решительно делался выбор в пользу изолированного размещения учреждений, работающих со знанием, – “в чистом поле”, а не в контекстах кампусов и техно-парков. Конкретные места и городские пространства в центре с их возбужденной и возбуждающей активностью (“buzz” – см. Storper/Venables 2004) считались, по сути, реликтами виртуализирующего действия медиатехнологий. Социальное пространство всё больше съеживалось до пренебрежимого, временного места расположения (location) аппаратуры средств коммуникации и информации. При господстве парадигмы информационного общества казалось, что пространственные дистанции и отношения между местами (равно как и транзакционные издержки) уменьшились до маргинальной величины. “The Death of the Distance” (Cairncross 1997) может рассматриваться как одна из обобщающих формул и одновременно перспективных лозунгов этого периода расцвета информационно-технологических концепций развития. Целый ряд влиятельных теорий медиа, начиная с тезиса Маршалла Маклюэна о “world connectivity” и вытекающих из него изменениях общества и знания, внесли свой важный и долговечный вклад в эту информационную парадигму[50]50
См. Maar, Burda 2004; Huber 2004; Fassler 2001; о структурных границах деспатиализации см. также Daniela Ahrens 2001.
[Закрыть].
Фундаментальный трехтомный труд Мануэля Кастельса о появлении “сетевого общества” в “информационную эпоху” во многих отношениях явился и самой блестящей попыткой синтеза, и самым драматичным свидетельством неудачи этой парадигмы – не говоря уже, разумеется, о важном вкладе в анализ более специфических предметов, таких как роль медиа. Были и менее амбициозные попытки осмыслить последствия экспоненциального увеличения потока информации в результате технологической революции, которые сосредоточивали внимание на отдельных секторах, преимущественно в экономической сфере. В отличие от них, Кастельс претендует на то, чтобы ни много ни мало проанализировать общественные трансформационные процессы в информационную эпоху в целом, в мировом масштабе и во взаимосвязи друг с другом. Способность искать, находить, сохранять, обрабатывать и генерировать релевантные сведения независимо от местонахождения он рассматривает как главную компетенцию в новой общественной формации, имеющую весьма важное значение и для экономической производительности, и для вопросов культурной гегемонии, и для отношений власти в политической и военной сферах (Castells 1996). Информация в этом систематическом смысле – как главное сырье для общественных процессов – оказывается, как демонстрирует Кастельс на примерах, почти полностью пространственно непривязанной и нигде не “поставленной на якорь”. Новые информационные и медиа – технологии, по его мнению, сводят к нулю расходы на преодоление расстояний. В глубинной теоретической подоплеке этого анализа (которая не раскрывается) – новый/старый технологический детерминизм, который, подобно прежним моделям “базис-надстройка”, на главном уровне построения теорий все еще не принимает в достаточной степени всерьез культурные коды. Мировая информационная сеть и ее параллельные структуры (space of flows), утверждает Кастельс, перекрыла пространство с его конкретными точками и местами (space of places). Образцовым примером такого “поточного пространства” служит циркулирующий по всему миру финансовый капитал, рядом с ним – глобальные информационные потоки и одновременное совместное присутствие аудиторий медиа во всем мире.
Самое потрясающее в картине “информационной эпохи”, изображенной Кастельсом, – то, что он пытается нейтрализовать необычайно усилившиеся эффекты деспатиализации пространства потоков с помощью политико-социальной контрпрограммы, предусматривающей столь же необычайно нагруженные политики идентичности для конкретных пространств, социальных движений и всемирных сообществ мигрантов (space of places). Одно усиление глобализированных без сопротивления и технологически реализованных информационных поточных пространств порождает другое – усиление глобально-локальных сопротивлений и контратак в области политики идентичностей со стороны общественных и этнических протестных движений, что вызывает, естественно, значительное “нагревание от трения” с обеих сторон, а также много аналитического шума.[51]51
В работах, написанных после “Информационной эпохи”, Кастельс пытался с большей или меньшей степенью убедительности вновь интегрировать аналитический автоматизм поляризации своего учения о двух мирах. Делает он это с помощью понятия культуры, о которой раньше у него систематически речи почти не велось. А теперь всё же “культура осмысленной, интерактивной коммуникации, осуществляемой мультимодальным интерфейсом между пространством потоков и пространством мест” должна свести всё воедино (Castells 2002: 382). Но, поскольку парадигматического сдвига от “информации” к “знанию” у Кастельса не происходит, именно эта стратегия использования понятий оказывается не очень убедительной. Это проседание, вызванное сложной теоретической ситуацией, в которую попал автор.
[Закрыть] Для нашей же постановки вопроса главное значение имеет то, какие прорывы к новому знанию и какие слепые зоны порождает эта крайне дихотомически устроенная дуальная схема “пространство потоков vs. пространство мест” и какие решения в области политики градостроительного развития подсказывает этот дуализм гипердоминантному фокусу “пространства потоков” с его информационными и медиа – сетями, непрерывно перерабатывающими эффекты совместного присутствия. М. Сторпер первым заметил, что диагноз Кастельса, задуманный как критика, перекодирует города, некритично обобщая, в “универсальные точки базирования глобальных бизнес-организаций” (Storper 1997: 236f.). На сегодняшний день уже многое говорит против этой гипотезы Кастельса о тенденциях гомогенизации городских структур в условиях господства “пространства потоков” в информационном обществе, отдающем предпочтение соответствующим политическим стратегиям под лозунгом “one size fits all”. Контртезис, который, как будет показано, вытекает из наших исследований социальных сред знания, сводится в конечном счете к тому, что динамика обострившейся глобальной конкуренции порождает одновременно и пространственную гомогенизацию, и дифференциацию/гетерогенизацию. Соответственно, один из центральных тезисов парадигмы “общества знания” заключается в том, что, перемешиваясь друг с другом, процессы гомогенизации и гетерогенизации именно в городах складываются во все более индивидуально профилированные сочетания. Поэтому перед муниципальной политикой, основанной на знании, прежде всего встает задача укреплять индивидуализированные профили компетенций и индивидуальные таланты городов и городских регионов, а не сальдировать тенденции гомогенизации информационных и медиа – технологий (которые, несомненно, тоже работают). Таким образом, на повестке дня муниципальной политики вместо глобальной технологической гомогенизации оказывается индивидуальный профиль компетенций и привлекательности уникальных городов. Теперь необходимо подчеркивать в конкуренции с другими городами различия и признаки неповторимости; локальные обособления и специфические таланты, отличающие одни точки и места от других, – вот что стоит на повестке дня городов. А принципиальное подчеркивание разрыва между space of flows и space of places, – которое, как было показано выше, продиктовано в основном парадигмой информационного общества и тем, что она говорит о медиатехнологиях, – не поможет адекватно понять эту дифференцированную палитру типов конкретных структур взаимосвязей, гибридных смесей и структурных связок в обширном поле между этими двумя теоретически заданными полюсами.
Более точному пониманию нового потенциала привлекательности специфически городских ландшафтов знания весьма способствовала дискуссия вокруг “sticky knowledge places”. Выражение “клейкие места” (“sticky places”) ввела в оборот американская исследовательница экономической географии Энн Маркузен в 1996 г., чтобы обозначать с его помощью двойную силу конкретных мест и промышленных районов: во-первых, специфическую привлекательность городских регионов, т. е. их способность притягивать экономических акторов; во-вторых – их умение удерживать таких акторов на месте. Понятие “клейкости” заимствовано из области домашнего хозяйства, где оно относится к не очень мирному приспособлению: клейкой полоске бумаги для ловли мух, которая вешается под лампу и обладает в качестве своего сущностного свойства двоякой способностью. Как известно, благодаря ароматическим добавкам она может, во-первых, привлекать мух, а во-вторых – потом их надежно удерживать на месте, так что спасения им в большинстве случаев нет. Эдуард Малецки (Malecki 2000) взял эту базовую идею двоякой силы преуспевающих пространств и промышленных районов из экономической регионалистики и перенес ее на специфические логики – логику привлекательности и логику агломерации – в основанных на знании экономических системах и городских регионах, т. е. расширил ее до “sticky knowledge places”. Благодаря этому – в условиях отсутствия адекватной теории локальности в глобализированную, основанную на знании эпоху – можно продвинуться далее в сторону более точного анализа гибридно сросшейся структуры локальных, региональных и глобальных пространств в посттрадиционных обществах знания. Вместе с тем намеченная таким образом эвристическая схема помогает окончательно вывести урбанистический анализ из тесных рамок информационной парадигмы[52]52
Подробно говорить об этом здесь, конечно, нет возможности.
[Закрыть].
Небольшой исторический экскурс: Разве так было не всегда?
Историки, этнологи, специалисты по географии образования и по истории науки к сегодняшнему дню накопили гигантский эмпирический материал, который еще отчетливее показывает, что – самое позднее со времен социальной эволюции городов – эффекты пространственной концентрации, централизации и неравномерного распределения знания образовывали фундаментальную структурную характеристику всех обществ. В особенности Дэвид Ливингстон (Livingstone 2003) и Питер Бёрк (Burke 2001: 69ff. и др.) доказывают, что “кластеризация” знания в специфических местах имела надлокальное значение для развития общества в самые разные периоды истории рода человеческого, причем это относится как к микроуровню (“местоположение знания”), так и к мезо – и макроуровню городов как “коммутаторов” нашего мира (Burke 2001: 73). Приведем три небольших примера, которые одновременно показывают степень распространенности явления:
1. Ибн Рушд (Аверроэс) и его “переводческая школа” в районе Кордовы-Севильи – локально зафиксированные посредники и комментаторы классического греческого знания, транслировавшегося в раннесредневековое европейское пространство.
2. Непреходящая роль ранних университетов в ренессансных городах Италии.
3. Инкубационные эффекты региональных и национальных культур знания в их локальных концентрациях, включая опережения и запаздывания в процессе модерна, – от Парижа (XIX в.) до Берлина (1920-е гг.).
В последнее десятилетие наука таким способом исследовала целый ряд имевших глобальное значение локальных “горячих точек”, в которых происходили научные прорывы и т. д. Поэтому с точки зрения истории знания и истории науки многое говорит в пользу многозначно-программного заголовка книги Ливингстона: “Putting Science in its Place” (Livingstone 2003). Пусть это прозвучит тривиально, но продолжающая доминировать геральдика научного знания эпистемологически, методологически и содержательно по-прежнему исходит из того, что знание доступно повсюду (в том числе благодаря новым медиа), может генерироваться повсеместно и давно переросло пространственные релятивирующие условия, заявляя притязания на транслокально-универсальную значимость. Эта слепота в отношении пространства, это “повсеместничество” в интерпретации коэволюции знания, науки и пространства, проходит от неоклассической экономической науки через различные этапы движения “за единство науки” (со времен Оппенгейма и Патнэма), через неомарксизм и критику постфордизма с ее “технократией движения” – вплоть до “методологического” фальсификационизма и конструктивизма: “контекст открытия” (“чувствительность к контексту”) в аргументации затушевывается “контекстом оправдания” (“в отрыве от пространства”).
На другом конце континуума комбинаций “знание+пространство” тоже происходит большое движение. От школы Нонаки (Nonaka/Konno 1998) до структурных фондов и программ ЕС и до управлений градостроительного планирования восточногерманских провинциальных городов – всюду в последние годы поют хвалебную песнь “tacit knowledge”. Оно уже стало главным понятием дискурса “базирования на знании” и кластеризации инноваций и компетенций в городских регионах. Одновременно повсюду махровым цветом расцветает надежда на полную кодификацию этого “неявного” знания, так что философия “персонального знания” Майкла Полани через 47 лет после того, как он ее сформулировал, переживает просто сенсационный ренессанс. Полани (Polanyi 1958) считал, что неявные, персональные формы знания, помимо всего прочего, играют важнейшую роль в инновационных прорывах. Для применяемых в области политики безопасности технократических стратегий противодействия утечке мозгов, которые обычно ставят себе целью исчерпывающую экспликацию, кодификацию и эксклюзивное хранение знания, важного для тех или иных институтов, идеи Полани неизменно служат источником раздражения и жестоких разочарований! Кодифицированное знание, пригодное для распространения с помощью медиатехнологий, согласно Полани, оказывается сразу в нескольких отношениях урезанным без структур “неявного знания”, которые задают ему контекст и место, предвосхищают его и обеспечивают его холистический синтез. В особенности для парадигмальных прорывов в высоком смысле этого слова кодифицированное знание годится плохо.
Именно эта структурная дилемма и заставляет так удивляться по поводу моды на заимствование комплекса идей “tacit knowledge” в новых концепциях планирования городского развития, ориентированных на парадигму знания, а также в сопутствующих им инновационных стратегиях региональной экономики. Ведь на самом деле теория Полани – антипод надежд на полную кодификацию. Кроме того, возникают огромные методологические проблемы – например, в виде вопроса о том, на основе каких данных и какими когнитивными средствами, собственно, сочиняется эта хвалебная песнь имплицитному знанию, принципиально не поддающемуся ни полной кодификации, ни всеобъемлющему изложению. Это не могут быть стандартные наборы данных региональной экономики, экономической географии или организационного и институционального анализа, ведь их релевантные массивы данных по определению ограничиваются кодифицированным знанием. А этнографический метод “follow the case” или детальные структурно-герменевтические реконструкции кейсов, которые действительно способны перейти через порог между эксплицитными и имплицитными смыслами, между явными и скрытыми структурами, чтобы потом в рамках более масштабных исследовательских программ прочесывать сети акторов целых обществ знания и городов знания, пока не получили известности.
Резюмируем наш вводный очерк. Острота и напряженность процесса коэволюции пространства и знания до самых последних лет либо вовсе игнорировались в господствовавших общественно-научных и социологических диагнозах эпохи и теоретических концепциях, либо решительно объявлялись делом прошлого. При этом происходило неблагоприятное наложение двух тенденций:
1. Во-первых, сорокалетнее “забвение пространства” (Konau 1977), характерное для большей части социологических и социально-экономических теорий современного общества – от расхожих теорий действия и коммуникации (которые обычно исходили из приоритета фактора времени, а не пространства, и уж точно не пространства-времени) через неомарксизм, теорию систем и теории дифференциации вплоть до неолиберальной экономической теории. В Германии эта слепота в отношении пространства, естественно, сохранялась особенно долго (для здешнего стиля основой послужила поздняя рецепция, которая сразу была окрещена “пугающим ренессансом” пространства, – например, в критической социологии (Maresch/Werber 2000) и в немецкоязычной социально-экономической географии (Miggelbrink 2002)). Социология, которой полагалось бы этим заниматься (социологическая урбанистика и регионалистика), помешала в этом сама себе, непоколебимо зафиксировавшись на таких священных концепциях, как “постфордизм” или “общество услуг”. И даже новейшая попытка критики с позиций “переднего края науки” (Häußermann/Kemper 2006) и близко не подошла к тому, чтобы увидеть эволюционную взаимосвязь пространства и знания.
2. Вторая парадигматическая ошибка связана, как мы видели, с длинной тенью, которую отбрасывает парадигма информационного общества. При поддержке концепции, изложенной во влиятельном фундаментальном трехтомнике Кастельса, взаимосвязи между пространством и знанием были схематизированы за счет почти полной, если не совсем полной глобальной виртуализации критериальных форм пространства. Вследствие этого при построении теорий процессы обмена и перевода (“knowledge spillovers”) представлялись упрощенно по принципу всемирных – и в этом смысле не имеющих своего места – потоков информации как потоков знания (“space of flows”). Для немецкоязычного ареала, например, Хартмут Шпиннер конструировал “порядки знания”, фиксированные на информации, в которых принципиальное различение информации и знания даже бичевалось как специфически немецкий гуманитарный дуализм, подлежащий окончательному преодолению. Интересно, что недавно о центральном моменте коэволюции пространства и знания напомнил Билл Гейтс (Gates 2006: 100): “Если информация хочет быть свободной [в смысле – внепространственной – У.М.], то знание гораздо более «липко» – его труднее передавать, оно более субъективно, его не так легко определить”. Поэтому Гейтс совершенно справедливо формулирует действительно главную проблему, стоящую перед новым поколением программного обеспечения: выйти за пределы информационной парадигмы в направлении парадигмы знания, в частности – в направлении распознавания структур релевантности, паттернов, оценок и отборов информации. Остается посмотреть, в интересах каких режимов знания затевается этот парадигмальный скачок. Во всяком случае, здесь нет и следа того эссенциализма немецких гуманитариев, о котором заявляет Шпиннер.
В этом смысле забвение пространства и парадигма информационного общества до конца 90-х годов XX в. образовывали “ось зла”. Под их влиянием тема взаимосвязи пространства и знания была забыта, лишена легитимности, и в дискурсе ей отводился статус иррелевантной. Элементами этой могущественной дискурсивной “оси” были, как показано выше, во-первых, предположение об универсальности эпистемического знания (под знаком квазиплатоновского универсализма истины); во-вторых – технократический подход (“слева” или “справа”, от Шельского до Хабермаса); в-третьих – интерпретация стремительно возрастающих скоростей передачи данных под углом зрения парадигмы информационного общества; в-четвертых, теоремы модернизации, продиктованные теориями дифференциации и времени действия; и наконец, тривиализация пространственных факторов средствами массовой коммуникации, говорившими о “глобальной деревне” (McLuhan 1964). Кульминацией сочетания этих дискурсивных модулей стала краткая, как короткое замыкание, формулировка теории информационного общества, провозгласившая окончательную “смерть расстояния” (Cairncross 1997).
Есть, разумеется, похвальные исключения из этой общей картины, нарисованной выше. Назову хотя бы (взяв для примера немецкоязычный ареал) три дисциплинарных контекста таких исключений, в которых сохранялась возможность построения концепций, исходивших из коэволюции пространства и знания:
1. Против всеобщей слепоты социальных наук в отношении пространства уже давно выступали авторы подходов, которые либо напоминали о нарастающем доминировании вещей и техники в социальных связях и отношениях (Linde 1972), либо подчеркивали в целом и в частностях двойственную структуру тела (как одушевленного человеческого тела Leib и как пространственно-физического Körper) в качестве отправной точки при построении людьми социальных пространств (Schütz 2004; Berger/Luckmann 1967 [рус. изд. Бергер/Лукман 1997 – прим. пер.]), либо же более точно фокусировали анализ пространственного аспекта социальных сред (Keim 1979; Matthiesen 1998; Matthiesen/Bürkner 2004).
2. В экономической науке уже давно выступал за структурирующую пространство экономику знания Фридрих фон Хайек (Hayek 1948). Что интересно, его позиция сложилась в критическом диалоге со вновь формировавшейся тогда в эмиграции “социально-феноменологической” социологией знания Альфреда Шюца (ср. комментарии последнего на доклад Хайека “Знание и экономика” 1936 г. в Schütz 2004).
3. Против слепоты социологической урбанистики и регионалистики по отношению к теории знания выступали, в частности, представители подходов, ориентировавшихся в большей степени на региональную экономику (ср. Läpple 2001; 2003; 2005, а также работы Гернота Грабхера о проектной экологии и эволюциях сетей): они стремились и сумели присоединиться к международным дискуссиям об основанных на знании формах экономики городских регионов. Взаимосвязи между новыми экономиками знания и городскими регионами были в последние годы более обстоятельно проанализированы эмпирически (ср. Matthiesen 2004a).
В англо-американском дискурсивном ареале слепоту гуманитарных наук по отношению к пространству удалось, начиная с середины 1990-х гг., шаг за шагом преодолеть за счет двойной смены парадигм:
1. В социальных науках – экономике, социологии, истории и политологии – на новые глобально-локальные пространственные процессы и проблемы отреагировали “пространственным поворотом” (“spatial turn”).
2. Одновременно с этим науки о пространстве в более узком смысле – от социально-экономической географии до наук о планировании – с их традиционным объективизмом и нормативным инструментализмом столкнулись с вызовом “культурного поворота” (“cultural turn”), подразумевавшего более точный учет пространственных кодов.
Сегодня эта двойная смена парадигм (spatial/cultural turn) обостряется и поднимается на новую ступень за счет намеченных выше пространственных эффектов, характерных для тенденций развития, присущих обществу знания. Невозможно не заметить, как на первый план в актуальной общественной политике выходит роль образования, знания и обучения как факторов, формирующих пространственные структуры. В то же самое время культурные коды динамики развития пространств – например, зависящие от пути эволюции процессы повышения или резкого понижения ценности тех или иных подпространств, а также связанный с этим рост пространственного неравенства – играют всё более значимую роль в развитии городов и регионов. Тенденции запаздывания и функции авангарда в деле продуктивного присвоения обоих этих взаимодополняющих поворотов, перенесенных из дискуссий в англосаксонском мире в немецкоязычный ареал, доказывают, что по-прежнему существуют сильные (и порой весьма плодотворные) национальные и региональные культурные различия между “географиями научного знания” (Livingstone 2003).
С 1989 г., если не раньше, тема “пространство и знание” заявила о своем возвращении и во всемирную историю. Это тоже причина, по которой здесь необходимо избрать более широкий, интегрирующий фокус, который объединил бы дозированный “knowledge turn” в изучении пространств общественными науками и “spatial turn” в исследовании знания. Тогда перед нами открывается увлекательное и в то же время взрывоопасное поле коэволюций и примеров избирательного сродства. В диапазоне между опережением и запаздыванием здесь по-прежнему наблюдаются отчетливые национальные и пространственно-культурные различия ландшафтов знания и их дискурсивных контекстов. Отдавая предпочтение дозированному “knowledge turn” в изучении пространств городских регионов, мы одновременно обращаем внимание на такие темы, как процессы институционализации и обучения, которые сопровождают сложную траекторию процессов коэволюции знания и пространства. Поэтому изучение вариантов социоэпистемической динамики знания поставит новые вопросы и перед урбанистикой, и перед исследованием знания.
Не менее важно и то, что тема взаимосвязи знания и пространства по-прежнему справедливо считается недостаточно теоретически обеспеченной (“undertheorized” – Amin/Cohendet 2004: 86). Эти два понятия-контейнера – “знание” и “пространство” – настоятельно нуждаются в скорейшей совместной дифференциации по формам и типам, по институциональным констелляциям и вариантам динамики интеракций (в разных социальных средах, сетях, процессах фильтрации и обмена), в которые они встроены и в порождении которых они сами непрерывно участвуют. Только так вопросы о взаимосвязи между городом и знанием во множестве индивидуализированных констелляций можно будет понимать, уточнять, теоретически обеспечивать и более адекватно вводить в контексты муниципального управления.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?