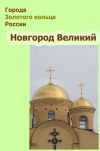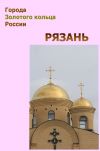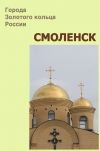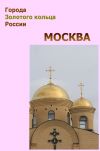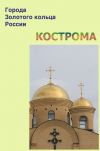Автор книги: Сборник статей
Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
В концепции т. н. “ландшафтов знания” (KnowledgeScapes) понятие “габитус города” применяется к городским регионам (city regions) для того, чтобы таким способом включить в рассмотрение и те “разнообразные варианты «города как целого»” (Matthiesen 2005: 11), которые не вписываются в некие городские границы. Автор этого подхода Ульф Маттизен описывает его следующим образом: “Мы заимствуем понятие «габитус [большого] города» у Рольфа Линднера (Lindner 2004) [sic!], применяя его к знанию и операционализируя его дополнительно, вводя наши три аналитических уровня”[45]45
Там же (Matthiesen 2005: 11) Маттизен добавляет: “Разумеется, мы полностью осознаем опасности, связанные с понятиями “большого субъекта””. На фоне уже неоднократно упоминавшейся соотносительности габитуса и поля это опасение можно как минимум смягчить. Возможно, для того, чтобы избавиться от подобных опасений, надо было бы вместо понятия “антропологии города” (Lindner 2005; Lindner/Moser 2006: 7) в будущем, следуя примеру Бурдье и Вакана (Bourdieu/Wacquant 1996), использовать скорее термин “рефлексивная антропология города”
[Закрыть]. Те “аналитические уровни”, о которых здесь идет речь, относятся к различным “основанным на знании” (Matthiesen 2005: 8) формам кооперации, которые располагаются на разных уровнях взаимодействия с точки зрения их социально-пространственной динамики[46]46
См. об этом обзор “Levels of Interactional Dynamics: Options and Conflict” (Matthiesen 2005: 9).
[Закрыть].
На первом уровне располагаются “социальные среды знания” (Knowledge Milieus, KM), которым, как правило, не уделяется достаточного внимания в общественном восприятии. Они ориентируются на формы коммуникации и организации, типичные для данного жизненного мира, и представляют собой важный креативный потенциал. На том же самом уровне интеракций кроме них имеются еще так называемые “сети знания” (Knowledge Networks, KN), которые с ясными намерениями преследуют стратегические цели и ради этого уже образуют определенного уровня формальные организации. Смесь этих двух типов интеракции мы находим в “ландшафтах знания” (KnowledgeScapes, KS), ориентации и организационные формы которых могут сильно варьироваться и представать перед нами и как “мягкие”, и как “жесткие интеракционные сети”.
Локализуемые на среднем уровне “культуры знания” (Knowledge Cultures, KC) репрезентируют “гетерогенные множества культур знания”, которые образуются в результате взаимодействия в городском регионе между “специфичными для каждого случая интеракционными сетями, разными констелляциями форм знания и гибридными ландшафтами знания (KnowledgeScapes)” (ibid.: 10). В этот процесс оказываются вовлечены различные формы знания, которые уже систематически переводятся в соответствующие направления действия – в “культуры инноваций и креативности в обучении и конкуренции” (ibid.: 11).
Города и городские регионы, по мнению Маттизена (ibidem), различаются тем, как они интегрируют и/или используют формы знания, релевантные для того или иного интеракционного уровня, – “на системном уровне экономики и политики, равно как и в контекстах городской культуры и социальной жизни”. Чтобы категориально и концептуально описать очевидные различия в том, что касается обращения с основанными на знании стратегиями городского и регионального развития, на третьем интеракционном уровне (“the holistic integration level”) вводится наконец “габитус определенного городского региона” (ibid.: 9): “С помощью этого понятия мы хотим сфокусировать анализ и городскую политику на специфическом, основанном на знании, хотя и гетерогенном, «гештальте», который в первую очередь влияет на то, как мы в обыденной жизни различаем разные варианты «города как целого» («Париж – о ля-ля!»)” (ibid.: 11; курсив в оригинале).
Особенность этого подхода следует видеть в том, что наряду с намеченными здесь уровнями взаимодействия учитываются и связываются друг с другом также разнообразные формы знания[47]47
К этим формам знания относятся, в частности: “1. Знание повседневной жизни (имплицитное/эксплицитное)”; “2. Экспертное/профессиональное знание”, “3. Знание продуктов”; “4. Знание об управлении/менеджменте/руководстве”; “5. Институциональное/рыночное знание”; “6. Знание социальной среды”; “7. Локальное знание”; “8. Рефлексивное знание”. См. Matthiesen 2005: 5.
[Закрыть], которые каждая своим специфическим образом формируют “гештальт” или “габитус городского региона”, “по которому мы можем опознать тот или иной город и сказать, чем он отличается” (ibid.: 11). Поэтому автор говорит о “познавательном повороте в исследованиях пространства” (ibidem, курсив в оригинале), преимущество которого он усматривает в том, что в нем учитывается “эвристическая комбинация вырабатываемых форм знания со специфическими уровнями интеракционной динамики” и используются ее возможности для изучения и/или различения городов и городских регионов.
На первый взгляд кажется, что использование понятия “гештальт” для характеристики “габитуса городского региона” подтверждает те сомнения, которые автор сам высказывает по поводу “категорий большого субъекта” (ibid.: 11). Однако это понятие не призвано воскрешать какие бы то ни было органические или холистические представления: оно лишь указывает нам на то, что знание о различиях между городами и городскими регионами не выводится из единичных феноменов и специфических особенностей городов, а наоборот, предполагает такое понимание их взаимосвязей, которое для каждого конкретного случая вырабатывается заново. И важен здесь не “хороший гештальт”[48]48
Ср. предпринимаемые в гештальт-теории усилия с целью преодолеть отдельные противоречия и конфликты ради гештальт-фактора “хорошего гештальта” – например, Köhler 1968.
[Закрыть], как в холистических концепциях: перечисление разнообразных “конфликтов знаний” (ibid.: 13–14) показывает, насколько антагонистичным и динамичным может оказаться взаимодействие разных форм знания в городских регионах. Таким образом, терминологическое употребление слова “гештальт” не унифицирует и не гармонизирует заранее того, что еще только предстоит свести вместе, – оно указывает на взаимосвязь “между разными вариантами «города как целого»” (ibid.: 11), которая в исследованиях, посвященных отдельным кейсам, или в сравнительных работах эмпирически нащупывается, однако на концептуальном уровне не учитывается.
Намеченный здесь “контекст совместной эволюции пространства и знания” (ibid.: 15), может, к тому же, рассматриваться как указание на то, что различные “сети”, “культуры знания” и “габитусы конкретного городского региона” находят свое специфическое для каждого случая выражение в том, как распределяется социальный капитал. Ведь характер отношений обмена на вышеназванных уровнях взаимодействия зависит не только от “релевантных типов совместной эволюции пространства и знания” (ibid.: 10): согласно Бурдье, наоборот, конкретное распределение структуры капитала определяет “возможность или невозможность (или, точнее говоря, большую или меньшую вероятность) того, что состоится тот обмен, в котором существование сетей себя проявляет и увековечивает” (Bourdieu/Wacquant 1996: 145). Значит, в данном случае “габитус городского региона” следовало бы объяснять логикой образования социального капитала, поскольку под ним имеется в виду “сумма актуальных и виртуальных ресурсов, которые достаются индивиду или группе в силу того обстоятельства, что они располагают устойчивой сетью связей, более или менее институционализированным взаимным знанием и признанием” (ibid.: 151–152). Согласно предлагаемой здесь интерпретации, так называемые “ландшафты знания” именно это и выражают применительно к городам и городским регионам специфичным для каждого случая образом.
4. Резюме
Все вышеизложенное строится на следующих соображениях:
1) Исходная проблемная ситуация заключается в том, что ни анализ единичных случаев, ни обобщающие утверждения – например, по поводу “Больших городов и духовной жизни” – не дают адекватного понимания “города” как предмета изучения. При этом отсылки к “логике практики” показали, что как логика отдельных волевых решений (“субъективизм”), так и логика подчинения особых случаев общим гипотетическим моделям (“объективизм”) приводят к односторонне искаженному пониманию предмета. В отличие от них, предложенная Пьером Бурдье концепция габитуса/поля дает возможность корректировки, поскольку в ней на примере отдельного случая демонстрируется, как созданные в практике схемы и общественные структуры взаимодействуют специфичным для каждого случая образом. При взгляде с позиций теории практики созданные габитусом “систематически занимаемые позиции” не поддаются ни интенциональному, ни структурно-аналитическому объяснению, но их специфическая логика (“собственная логика”) становится видна лишь во взаимодействии между структурированными и структурирующими диспозициями в социальном пространстве.
2) При помощи определения “социальный габитус” было разобрано взаимодействие габитуса и среды обитания. В этой связи стало очевидно, что городские пространства не только обеспечивают внешнюю рамку для действий, но и должны пониматься как место опосредования между объективными структурами и различными практиками. С точки зрения этого конститутивного значения действия, для концептуализации предмета изучения, обозначаемого как “город”, необходимо понимать все условия и отношения городского пространства в их взаимосвязи. Это относится к материальным, институциональным и символическим ресурсам города в той же мере, что и к социальным практикам и формам присвоения. Только после этого, как можно предполагать, станет понятно в каждом случае значение городского поля для отношений между позициями конкурирующих друг с другом акторов и институций.
3) Если формула “городской габитус” еще ничего не говорила о том, следует ли интерпретировать габитусы специфично для каждого города и имеют ли города собственный габитус, то в концепции “габитуса города” оба варианта уже связаны друг с другом. При таком подходе габитусные особенности того или иного “города как целого” еще не распознаются по индивидуальным привычкам, вкусам и свойствам: они раскрываются только в соотнесении с сопоставимыми признаками других городов. Однако необходимым условием для этого является знание специфической логики подлежащего изучению поля, а она, в свою очередь, тоже может быть идентифицирована лишь за счет анализа господствующих в том или ином случае габитусных признаков и диспозиций. Эта задача с герменевтическим кругом не поддается решению ни с помощью одних лишь концептуальных моделей, ни с помощью чисто эмпирического изучения отдельных случаев. Габитус города раскрывается только в совместном взаимодействии всех релевантных индивидуальных и структурных признаков, определить которые можно лишь in concreto.
Эту задачу не обязательно сразу рассматривать как неразрешимую: перспектива решения – в том, что и при изучении собственных логик городов исследователь постепенно обретает “систему вновь и вновь повторяющихся вопросов, которые можно задавать реальности” (Bourdieu/Wacquant 1996: 142).
Литература
Bourdieu, Pierre (1976), Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft, Frankfurt am Main.
– (1983), Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital // Kreckel, Reinhard (Hg.), Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt. Sonderband 2, Göttingen, S. 183–198.
– (1989), Mit den Waffen der Kritik… // Bourdieu, Pierre, Satz und Gegensatz. Über die Verantwortung des Intellektuellen, Berlin, S. 24–36.
– (1990), Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen Tauschs, Wien.
– (1991), Physischer Raum, sozialer und angeeigneter physischer Raum // Wentz, Martin (Hg.), Stadt – Räume, Frankfurt am Main/New York, S. 25–34.
– (1993), Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt am Main [рус. изд.: – в кн. Бурдье, Пьер (2001), Практический смысл, СПб, с. 49 – 280. – Прим. пер.].
– (1994), Zur Soziologie der symbolischen Formen, Frankfurt am Main.
– (1997), Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft, Konstanz.
– (1998a), Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns, Frankfurt am Main [рус. изд.:. Бурдье, Пьер (2001), Практический смысл, СПб. – Прим. пер.].
– (1998b), Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Soziologie des wissenschaftlichen.
Feldes, Konstanz.
– (2001), Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft, Frankfurt am Main.
– (2006), Sozialer Raum, symbolischer Raum // Dünne, Jörg/Günzel, Stephan (Hg.), Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt am Main.
Bourdieu, Pierre/Wacquant, Loïc J. D. (1996), Reflexive Anthropologie, Frankfurt am Main.
Dangschat, Jens S. (2004), Konzentration oder Integration? – Oder: Integration durch Konzentration? // Kecskes, Robert/Wagner, Michael/Wolf, Christof (Hg.), Angewandte Soziologie, Wiesbaden, S. 45–76.
– (2007), Raumkonzept zwischen struktureller Produktion und individueller Konstruktion // Ethnoscripts, 9, 1, S. 24–44.
Dirksmeier, Peter (2007), Mit Bourdieu gegen Bourdieu empirisch denken: Habitusanalyse mittels reflexiver Fotografie // ACME: An International E – Journal for Critical Geographies, 6, 1, S. 73–97.
Foucault, Michel (1974), Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frankfurt am Main [рус. изд.: Фуко, Мишель (1994), Слова и вещи. Археология гуманитарных наук, СПб. – Прим. пер.].
Geipel, Robert (1987), Münchens Images und Probleme // Geipel, Robert/Heinritz, Günter (Hg.), München. Ein sozialgeographischer Exkursionsführer, Kallmünz/Regensburg, S. 17–42.
Heinrich, Klaus (1986), Anthropomorphe. Zum Problem des Anthropomorphismus in der Religionsphilosophie, Dahlemer Vorlesungen, Bd. 2, Basel/Frankfurt am Main.
Köhler, Wolfgang (1968), Werte und Tatsachen, Berlin.
Korzybski, Alfred (1973), Science and sanity. An Introduction to Non-Aristotelian systems and general semantics, New York [orig. 1933].
Lee, Martyn (1996), Relocating Location: Cultural Geography, the Specificity of Place and the City Habitus // McGuigan, Jim (Ed.), Cultural Methodologies, London/Thousand Oaks/New Delhi, p. 126–141.
Lindner, Rolf (2003), Der Habitus der Stadt – ein kulturgeographischer Versuch // Petermanns Geographische Mitteilungen, 147, 2, S. 46–53.
– (2005), Urban Anthropology // Berking, Helmuth/Löw, Martina (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte, Soziale Welt, Sonderband 16, S. 55–66.
Lindner, Rolf/Moser, Johannes (2006) (Hg.), Dresden. Ethnografische Erkundungen einer Residenzstadt, Leipzig.
Löw, Martina (2001), Raumsoziologie, Frankfurt am Main.
Matthiesen, Ulf (2005), KnowledgeScapes. Pleading for a knowledge turn in socio-spatial research, Berlin IRS Working paper, Erkner (www.irs-net.de/download/KnowledgeScapes.pdf. Letzter Zugriff 06.02.2008, 19 Seiten).
Molotch, Harvey (1998), Kunst als das Herzstück einer regionalen Ökonomie. Der Fall Los Angeles // Göschel, Albrecht/Kirchberg, Volker (Hg.), Kultur in der Stadt. Stadtsoziologische Analysen zur Kultur, Opladen, S. 121–143.
Park, Robert E./Burgess, Ernest W. (1984), The City. Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment, Chicago/London [orig. 1925].
Pinçon, Michel/Pinçon-Charlot, Monique (2004), Sociologie de Paris, Paris.
Simmel, Georg (1984), Die Großstädte und das Geistesleben // Simmel, Georg, Das Individuum und die Freiheit. Essais, Berlin, S. 192–204 [orig. 1903] [рус. изд.: Зиммель, Георг (2002), Большие города и духовная жизнь // Логос, 2002, № 3(34), с. 1 – 12. – Прим. пер.].
Schütz, Alfred (1974), Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie, Frankfurt am Main [orig. 1932].
Sennett, Richard (1997), Fleisch und Stein. Der Körper und die Stadt in der westlichen Zivilisation, Frankfurt am Main.
Taylor, Jan/Evans, Karen/Fraser, Penny (1996), Tale of Two Cities: Global Change, Local Feeling and Everyday Life in the North of England. A Study in Manchester and Sheffield, London.
Weigel, Sigrid (2002), “Zum topographical turn” – Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften // KulturPoetik, 2, 2, S. 151–165.
Текстура, воображаемое, габитус: ключевые понятия культурного анализа в урбанистике
Рольф Линднер
Вместо довольно затруднительного вопроса “какова сущность места?” зачастую следовало бы задавать другой вопрос – “какие мечты могут быть связаны с ним?”.
Пьер Сансо
Человек, который редко бывает в Париже, никогда не будет до конца элегантным.
Бальзак
В том, что города – это образования индивидуальные, каждый со своей биографией (т. е. историей), со своим образом мыслей (state of mind) и присущими им паттернами жизненных стратегий, никакого сомнения быть не может. Из нашего личного опыта мы знаем об этой индивидуальности, причем иногда с первой минуты нашего знакомства с городом. Кому не случалось, приехав впервые куда-нибудь и выйдя на привокзальную площадь, почувствовать желание тут же сесть в обратный поезд и уехать оттуда? Если научный подход к городам обычно называют бесстрастным, то личное наше соприкосновение с ними носит всегда сугубо чувственный характер: одни нам “нравятся”, другие мы “терпеть не можем”, одни нас “заинтересовали”, другие – “не тронули”, в одни нас “тянет”, а другие нас “выталкивают”, а какие-то просто “пьянят”. Поэтому сам факт индивидуальности вопросов не вызывает – вопрос скорее в том, почему нам так долго было столь трудно признать его и научным фактом. Для литературы, например, это никогда проблемы не составляло. Возможно, дело в ослепляющей профессиональной деформации – в том, что социология города в Германии есть порождение послевоенных десятилетий и с самого своего возникновения была вовлечена в градостроительное планирование, обусловленное необходимостью срочно восстанавливать разрушенное войной. В таких условиях вопросы индивидуальности были непозволительной роскошью.
По словам урбаниста-теоретика и градостроителя-планировщика Дитера Хофмана-Акстхельма, индивидуальности городов – это “культуры, которые определяют паттерн движения города; их нельзя создать искусственно – они произрастают” (Hoffmann-Axthelm 1993: 217). Понятно, что в эпоху, когда у городов есть художественные руководители, как у театров, и существует профессия “воображателя” (imagineur), слышать такое никому не нравится. Но в этом – не только беда городов, но и их потенциал, или, если угодно, культурный капитал каждого из них.
В своем наброске элементов теории городских индивидуальностей я воспользовался тремя аналитически различными, но перцептивно переплетенными друг с другом категориями: “текстура”, “воображаемое” (imaginaire) и “габитус” (Lindner 1996; 1999; 2003; 2006; 2007). Идею текстуры я позаимствовал из пребывавшего долгое время в забвении символически-репрезентативного подхода в урбанистическом анализе. Этот подход неразрывно связан с именем Ансельма Стросса, который в конце 50-х – начале 60-х годов опубликовал сначала статью, написанную совместно с историком Ричардом Волем, а затем монографию “Образы американского города” (Wohl/Strauss 1958; Strauss 1961) и тем самым открыл для социологии города целое новое поле. Воль и Стросс тоже говорили об индивидуальности городов, об их личности, их характере, который – особенно в США – выражается в использовании эпитетов, например “бурный, хриплый, задиристый” (“stormy, husky and brawling”), как в стихотворении “Чикаго” (1916) Карла Сэндберга. Для постижения города как живой сущности (living entity) необходимо учитывать его способность пробуждать воспоминания и его экспрессивные качества. Соответственно, Стросса интересовали то субъективное значение, которое город приобретает для жителей, и те представления, которые у них с ним связаны. Он показал, что эти представления не возникают мгновенно, а становятся результатом длительных процессов, в ходе которых каждое новое поколение горожан добавляет к символике города новые элементы или варьирует старые, – Стросс говорит в этой связи о “кумулятивных коннотациях”. Таким образом возникают и накапливаются тексты, и эти тексты со временем образуют текстуру, ткань, в которую город буквально вплетен и закутан, – это показал чикагский социолог-урбанист Джералд Д. Саттлс, подхвативший и развивший символически-репрезентативный подход Стросса в своей статье под программным заглавием “Кумулятивная текстура локальной городской культуры” (The Cumulative Texture of Local Urban Culture, 1984). Саттлс рассматривал локальную культуру в качестве одного из конститутивных факторов экономики. Чтобы понять биографию города, иными словами, понять, как он стал тем, что он есть в определенный момент времени, в том числе и с экономической точки зрения, необходимо учитывать кумулятивную текстуру локальной культуры, находящую свое выражение в образах, типизациях и коллективных репрезентациях как материального, так и нематериального рода, – от знаменитых туристических достопримечательностей, памятников и уличных табличек до исторических анекдотов, песен и городского фольклора. Текст Саттлса и по сей день сохраняет свое фундаментальное значение благодаря открытию той специфической логики, которой подчиняется “узор” городской текстуры. Важнейшая идея Сатллса – это “характерологическое единство культурных репрезентаций”, которое образуется из многоголосных вариаций на некую основную тему, задаваемую градообразующим сектором экономики, и ведет к формированию стереотипного образа, отличающегося большой долговечностью. Эти вариации возникают благодаря мнемонической связи, создаваемой, по мнению Саттлса, прежде всего журналистами, использующими клише (formulaic journalists), и прочими культурными экспертами. Эти акторы вновь и вновь пользуются старыми добрыми штампами, но чуть-чуть изменяют их за счет сравнений, вариаций и частичного добавления нового: “Эта мнемоническая связанность и предполагаемое характерологическое единство – одна из причин постоянства городской культуры” (Suttles 1984: 296). Я неоднократно говорил о примере Чикаго – он обладает тем преимуществом, что у этого города имеется очевидный “пратекст”, который по сей день, несмотря на все экономические перемены, определяет восприятие его своими и чужими: это уже упоминавшееся стихотворение “Чикаго”, в котором Карл Сэндберг воспевает его как “Город Широкоплечих” (City of the Big Shoulders) – абсолютное воплощение рабочего города: “Смеющийся бурным, хриплым, задиристым смехом Молодости, полуголый, потный, гордящийся быть Мясником, Инструментальщиком, Укладчиком снопов, Железнодорожником и Грузчиком Нации” (Sandburg 1948: 24). Это стихотворение намертво вписано в коллективную память города. Еще в 2005 году Леон Финк, профессор истории труда в Иллинойском университете, приветствовал делегатов Второго всемирного конгресса профсоюзного объединения “Union Network International”, проходившего в Чикаго, в “Городе Широкоплечих”, словами:
Хотя делегаты UNI увидят город, совсем не похожий на тот, который воспел в 1916 году Сэндберг, они, тем не менее, почувствуют пульс самого “рабочего города” нашей страны. Ведь даже после того, как глобальная коммерция вытеснила производство, свидетельством чему является смерть трех китов индустрии – железных дорог, мясокомбинатов и металлургических предприятий, – на которых раньше держалась экономическая жизнь города, все равно в гражданской культуре Чикаго по-прежнему доминирует характерная эгалитарная этика “синих воротничков” (Fink 2005).
Гимн “Городу Широкоплечих”, характеристика его как “самого рабочего города страны” (без работы!) и сам тот факт, что именно в нем, а не в каком-либо другом американском городе проходит всемирный профсоюзный конгресс, – всё это парадигматический пример характерологического единства культурных репрезентаций.
Город как культурно кодированное пространство, пронизанное историей и историями, образует универсум представлений, который перекрывает физический город постольку, поскольку являет собой пространство, познаваемое и переживаемое сквозь сопровождающие тексты и изображения. Города – не чистые листы, а нарративные пространства, в которые вписаны определенные истории (о значительных людях и важных событиях), мифы (о героях и негодяях) и притчи (о добродетелях и пороках). Эта нагруженность смыслами может быть настолько велика, что достаточно бывает произнести название города (Берлин!), чтобы вызвать целый набор представлений. В своей совокупности такие представления, насыщенные историей, образуют “воображаемое” города – “набор смыслов, связанных с городом, которые возникают в конкретный момент времени и в конкретном культурном пространстве” (Zukin et al. 1998: 629). Воображаемое города (imaginaire urbain, urban imaginary) в последние годы стало важным дискурсивным полем (примеры: Bélanger 2005; Bloomfield 2006; Lindner 2006). Канадский географ Пьер Делорм пишет: “Подобно многим другим исследователям – и таких становится все больше и больше – я полагаю, что город можно понять через функцию центрального понятия воображаемого. Понимание города начинается с понимания того представления о нем, которое складывается у его жителей. Это подводит нас к самой сердцевине анализа города” (Delorme 2005: 22). Такой интерес к воображаемому объясняется не в последнюю очередь быстро возросшей в ходе глобализации конкуренцией между городами, в контексте которой воображаемое города превращается в ту символическую сферу, “где идет соревнование за пространство и места” (Bloomfield 2006: 45). Конечно, если связывать дискурс воображаемого с глобальной конкуренцией городов, то легко можно приравнять воображаемое (imaginaire) к имиджу (image). Но между ними есть разница: имидж планируется и создается; с экономической точки зрения он рассматривается как релевантный для развития города инструмент управления. В качестве такого инструмента имидж сродни политической идеологии, о которой Теодор Гайгер сказал, что она представляет собой “убеждающее содержание”, которое может распространяться. Поэтому мы можем сказать, что имидж – это идеология товара. Приравнивать воображаемое к имиджу – значит неверно толковать его как сознательно сотворенное, пронизанное коммуникативными стратегиями представление вместо того, чтобы видеть в нем скрытый слой реальности. В отличие от идеологии, воображаемое не знает слова “зачем”, настаивал французский антрополог и социолог Пьер Сансо, оно никогда не служит никакому делу, в чем бы оно ни заключалось. Но именно поэтому оно делает из произвольного места особое. Имидж – это только поверхность, а воображаемое, в отличие от него, сродни коллективным представлениям, как описывал их Эмиль Дюркгейм, т. е. как сумму латентных диспозитивов. При таком понимании мы можем по аналогии с порождающей трансформационной грамматикой Ноама Хомского говорить о глубинной грамматике городов. Она существует до имиджа, или, точнее, до имиджевой кампании; она – фильтр, который определяет, убедителен ли “образ”. Кампания по созданию имиджа, равно как и политическая идеология, может быть успешной только в том случае, если она встраивается в некое смысловое целое (в том значении, какое придавал этому выражению Эрнст Кассирер). Мой тезис заключается в том, что все стратегии инсценирования, репрезентации и перекодирования должны ориентироваться на критерии убедительности, т. е. на то, насколько представимы и правдоподобны “утверждения”, которые связаны с воображаемым. Последнее не является ни противоположностью реальности, ни ее простым воспроизведением (в смысле отображения): воображаемое – это другой, поэтически-образный способ вступать в контакт с реальностью. Воображаемое возвышает, сублимирует и уплотняет свой объект (город, место), так что мы оказываемся в состоянии видеть его с большей ясностью, резкостью и “глубиной” (Sansot 1993: 413). Это “supplement d’ame” (Cherubini), которое нас охватывает – дополнение, благодаря которому мы не просто остаемся жить в городе, но и грезим о нем.
На примере очерченных здесь текстуры и воображаемого становится очевидно, что “культурный поворот” в урбанистике означал усиление внимания к сравнительно устойчивым “диспозициям” городов. Это относится также – и даже в особой мере – к нашей третьей категории – “габитусу”. Как бы мы ни определяли “габитус”, это понятие всегда подразумевает нечто сложившееся, направляющее действия и управляющее причинностью вероятного за счет того, что оно “подсказывает” нечто определенное на основе вкуса, склонностей и предпочтений, короче говоря – диспозиций. Говорить о габитусе города в таком смысле – значит утверждать, что и городам, в силу закрепившихся “биографических” паттернов, одни линии развития ближе, другие – более чужды. “Габитус” описывали с помощью различных аналогий и метафор: как интеллектуальный канал между былым опытом и будущими действиями, как матрицу паттернов восприятия, оценки и действия, или как призму, в которой преломляется всякий новый опыт. Какие бы аналогии и образы ни применять (а к уже упомянутым можно было бы добавить еще образы фильтра и шлюза), главное всегда в том, чтобы подчеркнуть, что существует некая инстанция, которая предшествует всему и поэтому управляет реакцией на внешние воздействия и влияния, проверяя их на адекватность и совместимость. Несомненно, здесь бросается в глаза сходство с концепцией “зависимости от пройденного пути”, и нынешняя популярность этой концепции в социологии хозяйственной жизни и в экономической науке следует рассматривать как свидетельство возросшего учета роли культурных факторов. Для габитуса характерны два эффекта: во-первых, это эффект гистерезиса (инерции), который может проявляться, помимо всего прочего, в том, что габитусные диспозиции и культурные схемы “ковыляют следом” за экономическим и технологическим развитием – или, скажем более изящно, “вторят ему с интервалом”; этот эффект подобен “культурному запаздыванию”, о котором говорит социолог Уильям Ф. Огбёрн. Во-вторых, это эффект направления (формула создания, как выразился Бурдье), подсказывающий определенный выбор вариантов и направлений. В одном из своих последних текстов, опубликованном посмертно, Бурдье сравнивает габитус с тем, что традиционно называют “характером”, – “набор приобретенных [курсив в оригинале] характеристик, которые являются продуктом социальных условий и которые по этой причине могут быть полностью или частично одинаковы у людей, являющихся продуктами одинаковых социальных условий” (Bourdieu 2005: 45). Эта аналогия верна сразу в двух смыслах: она указывает на относительную устойчивость габитуса как системы унаследованных предрасположенностей (в смысле инкорпорированного фамильного культурного наследия) и приобретенных установок, а также указывает на то, что Ульф Маттизен назвал “гештальтом”, – это холистическая (ужасное выражение!) концепция, обращающая наше внимание на практическую систематичность (practical systematicity) габитуса:
[…] во всех элементах его или ее поведения есть нечто общее, какая-то стилистическая родственность, как в произведениях одного художника или, если взять пример из Мориса Мерло-Понти, как почерк человека, в котором мы всегда сразу узнаем его стиль, даже если он пишет такими разными инструментами, как карандаш, ручка или мел, на таких разных поверхностях, как лист бумаги или доска (Bourdieu 2005: 44).
Когда Бурдье говорит о габитусе как характере, он указывает на то, что существует нечто вроде красной нити, проходящей через все действия, или сигнатуры, типичной для всех текстов, чем бы и на чем бы они ни были созданы. Можно ли это просто взять и перенести на города? Я думаю, что Бурдье сам дает нам решающую подсказку: разве сами его рассуждения не являются рассуждениями парижанина? Ведь они кружат вокруг понятия, ключевого для всего истинно парижского: вокруг “стиля”.