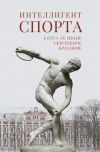Читать книгу "Жизнь языка: Памяти М. В. Панова"
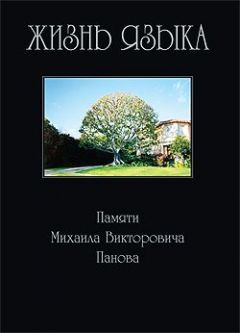
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Т.: Да, вообще ситуация сложная, конечно, была.
П.: Но Бархударов [нрзб. ] себя хорошо вел.
К.: А вот вы записываете, это очень здорово, это просто для себя или…
Т.: Нет, это…
З.: Для истории.
Т.: Для истории.
К.: А вот жалко, что я не знала. Может быть, было бы в следующий раз, если вы будете еще это делать, на видеокамеру записать.
(Перерыв в записи.)
П.: Что бы я просил – вот то, что вы сегодня записали, при моей жизни не публиковали.
Т.: Хорошо.
П.: Это не наука, а где-то около, рядом.
Т.: Да, это вокруг. Так и договоримся.
П.: Отдельным лицам – пожалуйста, читайте. Но не общественности.
Т.: Нет-нет. Даже отдельным людям, я думаю. Ну, вот Елена Андреевна, Леночка свидетель этого. Так что мы… <…>
П.: Лена, а как вы узнали, что у меня сегодня гости?
К.: Я никак не узнала, просто я записана на сегодня.
П.: А-а!
Т.: А вы часто бываете, простите?
К.: Ну, стараемся.
Т.: Да? Это дежурство?
К.: Нет, это любовь.
Т.: А-а! замечательно. (Смеются с К.) Простите!
П.: Разных конфет много. Там пряники есть на столе.
К.: Ага, хорошо, Михаил Викторович.
Т. (полувопросительно): У вас каждый день кто-то бывает?
П.: Нет, раз в четыре, в пять, в шесть дней.
Т.: А! Над чем вы сейчас работаете, кроме вот этого школьного словаря?
П.: Я хочу закончить работу, которой занимаюсь всю жизнь, а именно: написать историю русской поэзии как чистое движение эстетических форм. Как не политика движет поэтом, не религия, не медицина, не, там, то-сё, не физкультура, не экономика, а переживание – эстетическое переживание произведения искусства, именно поэзия. Вот я хочу об этом написать.
Пока их нет, а то они запретили бы. Я первый раз написал такую работу… Я был знаком с Корнеем Ивановичем Чуковским, и он иногда более или менее любезно реагировал на мои всякие рукописи – ну, более именно, так сказать, в силу любезности, – и я первую свою вот такую работу «История поэзии как эстетического феномена»… Но я не знал, что он все время спорит и ссорится с формалистами… с обэриутами, а у меня был сплошной… (не с обэриутами, а с опоязовцами…) сплошной ОПОЯЗ. Он жил в Ленинграде, иногда приезжал в Москву в гостиницу «Националь». Ну, я узнал, что он приехал в Москву, и позвонил ему – как ему моя тетрадочка, страниц сорок, о развитии русской поэзии. И вдруг вместо приветливого голоса слышу: «Я ваше писание разорвал и выбросил». ОПОЯЗ ему был непереносим. Вот, это была первая попытка.
Вторая попытка. Будучи студентом в Мосгорпединституте, я на литературоведческом кружке два занятия этого кружка занял своим докладом. Это уже был другой доклад, но в том же направлении: поэзия развивается не по велению политики, не по велению экономики… А вульгарный экономизм был очень силен, что есть поэзия дворянства, революционеров, потом Чернышевский, Белинский… потом революционная поэзия и так далее. Ну вот, значит, а я говорю, что, нет, самостоятельно движется, самодвижение поэзии. Ну, меня громили, но, я бы сказал, свои, свой брат-студент (это студенческий кружок), и они не говорили ни один, что ко мне надо принять меры. Это второе явление.
Третье явление. Был я командиром взвода. Я говорю, что в целом хорошее было время, когда я в Мосгорпединституте учился. Грустное время было – я четыре месяца занимался в училище артиллерийском, получил звание младшего лейтенанта, это была полоска черная. И вдруг я стал командиром взвода противотанковых пушек. Это означает, что мне дают карту и говорят: «Поставишь пушки вот здесь». Я ставлю пушки вот здесь, ко мне никакое начальство не ходит, я совершенно [один] со своими братишками-солдатами (очень хорошие были братишки, большей частью крестьяне) и спокойно жду немецких танков (смеется).
Т.: А какое отношение к поэзии это имеет?
П.: А отношение к поэзии вот какое. Пушки таскали студебеккеры. Это вот такая машина, такой высоты, и между землей и днищем – вот такое расстояние.
Т.: Полметра.
П.: Туда можно залезть, и больше никто туда не лезет.
Т.: Ты один.
П.: А у меня две толстенные тетради, и я эти две толстенные тетради за войну исписал целиком. Это уже не сорок страниц и не сто страниц, как во время доклада, а это страниц триста (тетради эти сохранились) о том, как движется… самодвижение поэзии.
Т.: То есть это ваши размышления о поэзии?
П.: Да. Об истории поэзии. Почему появился Некрасов? Вот каждый скажет: «Да потому что был Белинский, а он у Белинского учился, а потом Чернышевский, а потом было крестьянское движение, а потом революционные демократы». Я отвечаю: все это было, все это имело значение, но была кроме того поэзия, и поэтика Некрасова есть продолжение поэтики поэтов предшествующих поколений. Лежу я это, занимаюсь писанием, ко мне лезет под студебеккер полковник. Во-первых, он по комплекции довольно… (Г. смеется), а я-то был так, фитюлька. Он говорит: «Лейтенант (даже повысил в звании), чем это ты тут все время занимаешься? Вот мне рассказывают, ты все пишешь» (значит, осведомители все уже ему сообщили). На мое счастье, я не эту теорию писал в это время, так очень трудно было бы объяснить артиллерийскому полковнику, что такое хориямб, что такое пиррихий…, что такое…
Т.: Амфибрахий.
П.:…размеры с трехударной стопой. Но я писал записи своих артиллерийских стрельб. Надо пристрелять так называемые реперы, чтобы потом от них вести отсчет стрельбы по танкам. Ну, он посмотрел: «Ну хорошо, хорошо. Артиллерийские стрельбы нужны». Так что я таким образом получил возможность до конца войны писать. Это какой [раз]? Это… Чуковскому – раз, Мосгорпед – два. Это третий. Четвертый раз – это читал лекцию в Московском университете.
Т.: Да.
П.: Ну, и одновременно… я потом работал еще там, где сейчас работает Открытый пединститут. Открытый – это означает, что можно не сдавать экзамен, а заплатить деньги.
З.: Да-а? Разве это это означает?
П.: Что?
З.: Это разве в таком смысле?
К. (из глубины комнаты): Елена Андреевна, вы взяли ложечки?
П.: Да, да, да. Ну, только если сплошь двойки получил по экзаменам, то даже за деньги… (Смеется с Т.)
П.:…А если получил тройки, то доплати тысчонок пять – я не знаю, сколько, ну, какую-то сумму, больше, чем билет в метро. Поэтому он называется Открытый.
Т.: Поэтому открыто действует.
З.: Нет, Михаил Викторович. А ваше шоссе Открытое почему называется?
П.: Потому что его одна сторона не застроена. Одна его сторона уходит просто в поле, там Москвы уже больше нет.
Т.: Михаил Викторович, есть такая детская игра – вот спрашивают, кого вы ставите на первое место, кого – на второе, кого – на третье. Вот некоторые играют в эту игру и взрослые. Скажите, есть поэты, которых вы поставили бы на первое место? или на вершину треугольника? (усмехается) вот кто у вас?
П.: Их очень много. Перечислять их не стоит. Я… мне… не кто лучше… а кто мне ближе. Мне очень близок – и, наверно, потому, что все время приходилось за них сражаться, но и просто человечески близок, – конечно, Хлебников, конечно, Пастернак, конечно, Маяковский (я его не разлюбил), ну, а дальше… и некоторые другие футуристы. Конечно, Асеев. Асеев очень много дряни написал, но он написал и замечательные вещи.
Т.: Да.
П.: Конечно, Ахматова – хотя бы потому, что я целиком ее собрание стихотворений переписал. Конечно, Мандельштам – я его переписал целиком. Я же был уверен, что, конечно, врага народа издавать не будут.
Т.: Никогда не будут.
П.: Вот.
Т.: А из классики?
П. (зычно): Ха-армс!
П.: Вот я и говорил, что я человек журнала «Ёж», я человек стихов Хармса. Какой-то дурак написал статью о Хармсе, что его детские стихи были халтура, вот взрослые стихи – это настоящие. Я не драчун, но если бы я его встретил и была бы под рукой палочка, я бы ему показал, какая это халтура. <…> Как вы здорово угадали, что сегодня попали на футуристов!
К.: Да, Михаил Викторович. Ну, видите, жалко, что не знала, я хотела бы камеру взять… Видеокамеру, хорошо снять было бы все. Между прочим, вы были бы настоящий артист.
З.: Да.
Т.: Спасибо.
П.: Не хочу я быть артистом.
З.: Лен, вы запишите мой телефон…
К.: Да, хорошо.
З.:…и можно будет и созваниваться, когда…
К.: Даже кажется, что он у меня есть.
(Перерыв в записи.)
П.:…Какая-то моя акция, а я не хочу никаких поэтических акций.
З.: Ладно, не будем, не будем публиковать.
П.: Это нечто вроде политической акции получается. Всю-то жизнь мне гадили эти самые большевики (Г. усмехается).
П.: Я бы хотел написать рассказ, который основан у меня был… Мальчишечка, с которым я когда-то учился, – то ли он это выдумал, то ли на самом деле было – он говорит: «Я вырос в семье непререкаемо большевистской. Отец сколько раз мне говорил, что «Сталин – это величайшая фигура мировой истории, ты должен его» то-сё, пятое-десятое. Мама все время мне говорила: «Помни, что это наше счастье, что мы живем в сталинскую эпоху». Но, – он говорит, – я, – говорит, – был не дурак, и я его, Сталина, не любил». Сталин умер, пришел Горбачев, стало нестрашно некоторые свои мысли высказывать, и оказалось, что отец все время был ярым антисталинистом. Он очень любил свою жену, вот мать этого мальчика, очень любил, «но, – говорит, – я не был уверен, что, узнав, что я против Сталина, она не пойдет в НКВД».
З.: Ну и отношения в семье, скажу я.
К.: Да.
П.:…Говорит, что его глупость, Сталина, у нее вызывала дрожь, но она не решилась ни сыну, ни мужу сказать, что она антисталинистка. Вы представляете состояние нервное. Значит, жена все время это говорила, чувствуя отвращение, и муж все время восхвалял Сталина, чувствуя тошноту, а маленький мальчик же должен был (смеется)…
Т.: Да. (Пауза.) Страшно.
П.: Я ему сказал, что все-таки они пересолили, и если они любили друг друга, то могли бы на ушко друг другу сообщить.
К.: Да.
Т.: А может быть, они и чувствовали это? (пауза) Потому и жили вместе?
З.: Могу сказать, что мне в таком случае повезло.
П.: Что?
З.: Я говорю, мне в таком случае повезло. Во-первых, мои родители были откровенны друг с другом. Они не были настолько откровенны, чтобы говорить, что Сталин негодяй и так далее, но и никогда не говорили, что он хороший, и я вот помню, что, когда начиналась какая-то официальщина, отец подходил и выключал радио. Я очень хорошо помню, совсем я была маленькая. А потом уже, когда мы были постарше, он говорил: «Да плюс еще, – как-то он говорил, – грузинская кровь» или что-то в этом духе.
П.: У меня тоже особенно отец совершенно не переносил вот антирелигиозную пропаганду… Как армеец он встречался со своими однополчанами по царской армии. Я вам рассказывал, что те были очень сильно антисоветски настроены, и он их утихомиривал – говорил: «Ну не кричите же „сволочи-болыпевики"» (усмехается). Вот. Но были и красноармейцы, те тоже Советскую власть не хвалили, а все говорили, что их недооценили. Так что я рос в окружении людей нехвалительных.
З.: Добавлю, что мой отец был репрессирован, так что все это было на определенном фоне.
Т.: Он погиб там, да?
З.: Нет, слава богу, не погиб.
Т.: Вернулся?
З.: Нет, у нас более оказалась таинственная история. Он был арестован рано и выпущен, не будучи реабилитирован, в тридцать четвертом году.
К.: И всё – и потом он с семьей уже был? Или скрывали?
З.: Могу рассказать, это вообще история, полная тайн… (Вздыхает.) Значит, он был арестован в двадцать девятом году, сидел в Бутырках, потом был сослан и был в Красноярске, потом в Казахстане, в Кзыл-Орде. И мама со мной и моей сестрой старшей ездила его навещать. Мне тогда было лет семь, наверно, шесть, может быть, но я помню, что мы ездили к папе в Казахстан…у меня отдельные картинки остались… потом я помню, что мы встречаем папу на Ярославском вокзале, а газетчики-мальчишки кричат: «Сегодня похороны Сергея Мироновича Кирова!» – такими истошными голосами.
Т.: Тридцать четвертый.
З.: Значит, тридцать четвертый год.
П.: Они переживали это как потерю?
Т.: Нет, мальчишки.
З.: Они газеты продавали.
П.: У меня такое впечатление, что сталинщина сильно преувеличена, а на самом деле людей, которые Сталина сильно не любили, было очень много.
З.: Нет, ну я вам доскажу уже, раз я начала.
Т.: Да.
З.: Потом, значит, когда он вернулся… он был доцентом того, что тогда называли Ленинским пединститутом. Его взяли туда работать, он работал… Да, еще одна такая полоса. Когда началась война, он пошел в ополчение. Он работал с Виктором Владимировичем Виноградовым, очень его любил, и Виктор Владимирович тоже пошел в ополчение, и, как потом говорила жена Виктора Владимировича и сам он, они говорили: «Андрей Михайлович отхлопотал Виктора Владимировича», потому что он ходил и всюду говорил, что нельзя такими учеными, значит, вот так вот распоряжаться, на передовую посылать.
Т.: Это Надежда Матвеевна говорила?
З.: Да. Вот. И Виктор Владимирович очень нежно относился к моему отцу, у меня даже хранятся его письма, которые он ему писал во время войны. И, значит, Виктор Владимирович был возвращен. А отец мой попал в окружение. Они были… вот это те люди, которые погибали, потому что там были минометы, а они даже не умели ими пользоваться, были минометы, но не было мин, понимаете, вот все это под Москвой было. Он попал в окружение и вышел, насколько я помню, в Тулу, без документов, еще с каким-то солдатом, без всего, заросший (у меня есть фотография, где он заросший бородой)… Его стали спрашивать – мол, кто? Мало ли, может, немецкий шпион. Значит, он зашел в книжный магазин и сказал: «Я доцент Земский, автор учебника. Спросите кого-нибудь из Пединститута, вот меня должны знать». И действительно, его как-то опознали – он приехал в Москву. А мы в это время с мамой (она была директором школы-интерната) были в Рязанской области, и мы на каком-то… в товарном поезде примчались тоже в Москву, оказались все вместе. Значит, это был… какой?., сорок второй, наверно, год. Да, и мы эвакуировались, потом вернулись (ну, это я все опускаю, так сказать, там много всего было интересного), потом он тяжело заболел и в сорок шестом году умер. Значит, осталась мама, я была студентка. Дальше были такие события. Сейчас я вспомню, в каком это может быть году. Ну, может, в шестьдесят четвертом. Да? <…>
З.: В шестьдесят четвертом. То есть отца уже нет в живых давно. Умер он от саркомы, очень тяжело. Да. Мы жили в коммунальной квартире на Гоголевском бульваре, вот недалеко от этого Института русского языка, в котором я работаю. Звонок в дверь, солдат с ружьем. «Гражданка Земская». Значит, меня соседи вызывают. Вот. Ну, дает письмо под расписку, где написано: «Явиться к 10 ч. утра на следующее утро в военную прокуратуру», и адрес указан: Кропоткинская, там, что-то такое. Значит, у меня маленькая дочка, муж, в страхе мы, конечно, естественно, особенно муж (я так понимаю, мужчины более нервные люди): «В чем дело? Что?» Он решил так, такая версия была, что… он как раз какой-то рассказал анекдот, а вызывают меня потому, мол, с женщиной легче дело иметь.
К.: А он тоже лингвист, ваш муж?
З.: Нет, он был вообще химик, это был нормальный человек, ну, конечно, мог рассказать в каком-нибудь шестьдесят четвертом году… нет, он не был никакой не диссидент, ничего, обыкновенный человек. Вот. Он меня туда провожает, я подхожу к этому дому. Ничего – ни вывески, ничего вообще. Дом – просто особняк (вот с левой стороны, как входишь на Кропоткинскую). Вхожу – опять там человек с ружьем. Показываю письмо. «Ждите». Значит, такая огромная приемная, стою, довольно долго жду. Я думаю, что все это специально они так, да. Через, может, полчаса спускается человек с лестницы и говорит: «Пройдемте». Мы проходим. Колоссальный кабинет, трудно мне даже представить, но такой, что вот я сижу, а там этот человек…
Т.: Маленький.
З.: Да, где-то за огромным столом вот такой вот…
К.: Гоголь такой.
З.: Да, сидит военный (я плохо разбираюсь в чинах, но, наверно, в чинах) и говорит: «Вы догадываетесь, зачем вас вызвали?»
З.: Я говорю: «Нет». Он мне снова: «Ну подумайте». Я говорю: «Нет». – «Что ж вы, так и не понимаете?» <…> Ну вот. Значит, ну так раза три он меня спросил, я раза три ответила, что «нет», и он сказал: «По поводу вашего отца». Я говорю: «Мой отец умер в сорок шестом году». Он говорит: «Да, нам это известно». Да, и надо еще сказать при этом, что мой отец похоронен на Новодевичьем кладбище, потому что там похоронены два его брата, которые были военными, и один был даже генералом, ну, значит, вот такая семейная могила. Да, он спросил: «А что вы пишете в анкетах?» Я говорю: «Что отец реабилитирован». – «Ваш отец не был реабилитирован, вы пишете неправду. Мы сейчас разбираем все дела, ну, значит, вы можете… вы, по-моему, даже не можете, а вы должны обратиться с просьбой о пересмотре дела».
Т.: То есть это шестьдесят третий – шестьдесят четвертый год? Примерно так.
З.: Да, я думаю, что шестьдесят третий скорее даже. Вот. Я говорю: «Хорошо». Причем сами понимаете, насколько я ошарашена, еще жива моя мама, она живет отдельно, там надо вместе все… Я говорю: «Мама еще…» – «Мы не стали ее трогать, она человек старый, решили обратиться к вам». Я еду к маме, значит, все ей рассказываю, мы пишем такое заявление… Да, значит: «Напишите заявление и принесите». Да, а я хочу сказать, какая у нас была дома легенда. Значит, во-первых, конечно, это все скрывалось, что отец наш был репрессирован, мы все-таки старались никому не говорить, во-вторых, было такое мнение, что… муж родной сестры моей мамы, который был белым офицером, у нас ночевал вот где-то, там, в двадцать девятом или в каком-то году, и вот донесли соседи, и отца поэтому арестовали.
Да. На следующий день я прихожу – приношу это наше заявление, опять, значит, жду, опять этот человек спускается, на этот раз я уже все-таки немножко пришла в себя и спрашиваю – говорю: «А за что был арестован мой отец?» Он говорит: «По делу об участии в Белой армии в Самарской губернии». Я говорю: «Ну, это…» – «Он был в Самарской губернии?» Я говорю: «Да, он был, но он там работал по линии просвещения» (отец и мама оба были филологи). Вот. Он говорит: «А это совсем неважно, – знаете, так цинично, спокойно, – это совсем неважно. Мы закрываем все эти дела. Нам надо закрыть…». И через, там, сколько-то времени, может быть, через месяц-два, я получила письмо, что он, значит, посмертно реабилитирован.
Т.: А! все-таки реабилитирован.
З.: Да. Нет-нет, «закрываем…».
Т.: «Закрываем» – это значит реабилитация.
К.: Они уже его реабилитировали.
З.: Да.
К.: В шестидесятые годы.
З.: Даже независимо от того, значит, был ли он в Белой армии, не был, и всё. Вот такая история.
(Перерыв в записи.)
К.: Есть какие-то вот такие рассказы, очень интересные…
З.: Да.
К.: Например, Михаил Викторович рассказывал про «Арабески» – ну согласитесь, что это почти художественное произведение…
З.: Ну, конечно.
К.:…Это не просто так.
З.: Ну, конечно, конечно.
Т.: Это новелла.
З.: Да, да-да-да.
К.: Этот человек с ружьем…
Т.: Новелла, да.
К.:…и этот огромный гоголевский стол… <…>
К.: Какая-то символика есть, что-то больше…
Т.: Поскольку у нас момент исторический, немножко… скажите два слова о себе – то, что мы не знаем. Вы закончили…
К.: Я закончила тоже филологический факультет…
Т.: МГУ?
К.: МГУ. Вот. И Михаила Викторовича я слушала на первом курсе, лекции по фонетике, а потом весь этот вот курс по истории языка.
Т.: Поэзии?
К.: Поэзии, да. И не один год, а мы слушали, уже когда я даже закончила университет. А на последнем курсе я снимала фильм об университете, и мы снимали лекции Михаила Викторовича Панова. И он пришел к нам на просмотр фильма – назывался этот фильм «Реплика», об университете фильм – и Михаил Викторович мне сказал: «Вы возродили немой кинематограф». Я подумала: «Это комплимент или нет?» Так и не поняла.
З.: В устах Михаила Викторовича это похвала.
К.: Да.
Т.: Да, конечно.
К.: И через неделю, через вот тоже одну мою подругу, он пригласил нас в гости. Мы пришли всей нашей группой, это был, наверное, восьмидесятый год, и вот с тех пор мы стали ходить к Михаилу Викторовичу в гости очень часто… и большими компаниями, и малыми компаниями, и разными компаниями, и очень любим Михаила Викторовича. Вот я еще рассказала Елене Андреевне, что мы издавали журнал – и он хранится у меня – «Трамвай 13».
К.: И я была как бы старостой этого журнала, и все эти номера находятся у меня. <…>
З.: Лен, а где вы работаете?
К.: Я работаю в Language Link, в «Альфа-банке» и в Менделеевском университете, и немножко в РГГУ.
(Перерыв в записи.)
Т.: А где сейчас этот фильм хранится?
К.: У меня дома. Дело в том, что он снят на шестнадцатимиллиметровой пленке. <…>
П.: Сейчас я особенно остро чувствую, что ушла какая-то эпоха… И очень ценно то, что от нее что-то успели оставить.
Т.: Да, да. Это очень важно. Будем надеяться, что это останется.
К.: Мы снимали об университете. Лекция Михаила Викторовича нам нужна была только, чтобы показать наш восторг от того, что, вот… там же сесть негде было, на этих лекциях, мы снимали толпу, ну и Михаила Викторовича, поскольку мы уже тогда его очень любили. Вот. А сейчас если вы будете что-то делать, я серьезно предлагаю, вы мне позвоните, вы это как-то с Еленой Андреевной… я принесу камеру и вам отдам пленку.
З.: Нет, это действительно стоит.
К.: Это, по-моему, интересно очень.
Т.: Это очень важно, да, это наша мечта!
К.: Потому что это мимика, это все уже совсем по-другому, это уже кино. Пока телевизионщики раскрутятся, уже ничего не будет.
З.: Давайте не откладывая, где-нибудь в конце марта мы, в самом конце.
К.: Вот. Давайте.
Т.: Вот все зависит от вашего расписания и от состояния, конечно, Михаила Викторовича.
З.: Ну, я могу сказать, что числа с десятого…
К.: Давайте.
Т.: А кроме вот этого фрагмента о Михаиле Викторовиче что еще есть в этом фильме?
К.: А-а! это мы уже снимали такой ассоциативный ряд. И вот, кстати, я хотела сказать, за что Михаил Викторович хвалил. Мы поставили камеру… а там, знаете, дорога вот к гуманитарному корпусу, там яблони цветущие, это май был, и где-то, наверное, в восемь сорок пять мы поставили камеру и снимали толпу, просто долго снимали толпу. Там идея была безвременья, там были часы без стрелок, которые были все там, в университете, там было – полет, ну ощущение наше, вот мы кончали МГУ, что будет, и что было, и что нам дорого, ассоциативный ряд, что такое МГУ, у нас был свой театр, ну и так далее. И Михаил Викторович сказал, что очень интересный вот этот кадр, когда они все идут. Мы даже не поняли, почему. Он говорит: «Потому что ровно через пять лет все изменится: будут другие походки, будут другие лица, будут другие люди».
Т.: Так оно все и было.
К.: Так и произошло.
(Конец записи).