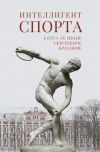Читать книгу "Жизнь языка: Памяти М. В. Панова"
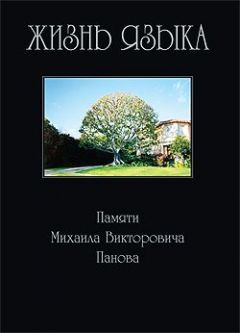
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Данная эскизная работа является скорее некой эмоциональной репликой, чем систематическим изложением давно и спокойно обдуманных мыслей. Дело в том, что «спокойно обдумать» и «систематически изложить» метафизику языка и личности М. В. Панова сможет, как мне кажется, кто-нибудь, во-первых, гениальный, а во-вторых, минимум через несколько десятилетий. Тут должны будут совпасть два обстоятельства.
Обстоятельство первое. Масштаб и структура, или, если угодно, тональность, личности исследователя должны совпасть с масштабом и структурой (тональностью) личности М. В. Панова. Например, так, как М. М. Бахтин «совпал» с Франсуа Рабле. Глубинно (метафизически) Рабле и Бахтин, несмотря на кажущиеся различия, очень схожи. (С параллелью «Бахтин – Достоевский» сложнее. Но это отдельный разговор.)
Обстоятельство второе. Должны совпасть все те же масштабы и тональности эпох, в которые жил М. В. Панов и будет жить исследователь «глубинных структур» его личности. Потому что, как это ни банально, эпоха выражается через личности. Эпохи личностны. Когда поэт сказал, что «большое видится на расстояньи», он имел в виду, в частности, это. Прибегая к предыдущему сравнению: «кроваво-карнавальная» эпоха 20–30 – 40-х годов XX века, которую пережил Бахтин, более чем созвучна не менее «кроваво-карнавальной» эпохе, в которую жил Рабле. Об этом, например, убедительно писал Н. Турбин.[5]5
Турбин В. Н. Незадолго до Водолея. М.: Радикс, 1994.
[Закрыть] Писал, опять же, скорее эмоционально, чем «систематически».
Дело не в том, что современники М. В. Панова, среди которых немало людей «масштабных» и «созвучных» ему, не могут его понять. То, что М. В. Панов глубоко понимаем, свидетельствует данный сборник. Дело в Эпохе. Даже чисто «технически». Во второй половине XX века идеи и личность М. В. Панова и благодаря, и вопреки специфике эпохи были широко востребованы. Благодаря – потому что существовала отлаженная и вполне эффективная система лингвистического и гуманитарного образования, в которой М. В. Панов занимал видное место (достаточно вспомнить аншлаги на его спецкурсах в МГУ), и потому что труды ученого печатались достаточно большими тиражами и входили в списки обязательной литературы для студентов-филологов.[6]6
Могу утверждать как свидетель, что самой, как бы сейчас сказали, «рейтинговой» книгой, «хитом» для студентов-первокурсников в течение двух с лишним десятилетий был пановский учебник по фонетике. Зеленый. Так и говорили: «зеленый Панов».
[Закрыть] Вопреки – потому что существовала официальная идеология, которой М. В. Панов не то чтобы противостоял. Скорее, он ее презирал. Так или иначе, М. В. Панов был «отдушиной» для окружающих, таким же «глотком свободы», как С. Аверинцев, Ю. Кудрявцев и другие.
В конце XX века и в начале века нынешнего, и это приходится со стоической горечью признать, М. В. Панов – скорее достояние «цеха», чем широкой публики. Десятки тысяч студентов-лингвистов, будущих специалистов по какой-нибудь «лингвистике и межкультурной коммуникации» не только не знают, кто такой М. В. Панов, но и не слышали, что такое, например, фонема или Московская школа фонологии. Все это (и многое-многое другое) просто «не проходится» в вузах. «Коммуникативистика» (я тоже не очень хорошо понимаю, что это такое) «проходится», «культурная антропология» (судя по всему, есть, соответственно, и «некультурная антропология») тоже «проходится», а М. В. Панов – нет.[7]7
Русистам, как мне кажется, было бы интересно подробно исследовать текст «Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования». Там много интересного. Например, в требованиях, предъявляемых к культуре речи, содержится следующее словосочетание (т. н. дидактическая единица): «Понятливость речи». Есть в этом, согласитесь, что-то от восхитительной корявости языка Андрея Платонова: «речь» олицетворяется через нарушение законов лексической сочетаемости. М. В. Панову понравилась бы эта «понятливая речь».
[Закрыть] В целом же о «тональности» нынешней эпохи умалчиваю: боюсь слишком эмоционально выразиться.
Одним словом, «открытие» М. В. Панова неизбежно в будущем. Потому что он там нужен. И прежде всего в силу специфики той самой «метафизики языка и личности» ученого, освещение которой заявлено в данной статье. Сразу оговорюсь: употребление слова «метафизика» не есть претензия на некие недоступные другим головокружительные глубины. Это обычный философский ракурс, не более того. Термин «личность» употреблен здесь преимущественно как лингвофилософский, хотя без «аллюзий» к социологии и психологии обойтись нельзя.
Традиционно, как известно, в философии метафизика как наука о «сверхчувственных принципах и началах бытия»[8]8
Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 356.
[Закрыть] противопоставляется диалектике как «учению о наиболее общих закономерных связях и становлении, развитии бытия и познания и основанному на этом учении методу мышления».[9]9
Там же. С. 163.
[Закрыть] Типологически метафизика противопоставлена диалектике так же, как, например, язык в лингвистике противопоставляется речи. Если смущает термин «метафизика», его можно (в рабочем порядке) заменить термином «онтология». Онтология, как и метафизика, – «общие сущности и категории сущего».[10]10
Там же. С. 443.
[Закрыть] Иногда онтологию отождествляют с метафизикой, иногда считают ее частью, но для нас это не принципиально.
Любой лингвист понимает, что система языка эволюционирует, хотя и медленно, но, изучая синхронный срез, он как бы становится «метафизиком». Изучая же историю языка (диахрония) или актуальные речевые реализации системы, он становится «диалектиком». Можно сказать, что история языка – это своего рода «большая лингвистическая диалектика», изучение же стихии речи, «тенденций» и т. п. – «малая лингвистическая диалектика». Понятно, что этим двум диалектикам друг без друга не обойтись. Хотя часто они делают вид, что друг друга не замечают. Структурализм, «разведя» синхронию и диахронию, словно бы создал некие правила игры, при которых «метафизики» и «диалектики», занимаясь разными вещами, не должны встречаться. Русская лингвистика конца XIX–XX века (Ф. Ф. Фортунатов и И. А. Бодуэн де Куртене) с самого начала заговорила о том, что, хотя у «диалектиков» и «метафизиков» разные компетенции, тем не менее друг без друга им не обойтись. Характерная черта русской лингвистики – философский, я бы сказал, подспудно религиозный синтетизм. И это закономерно, поскольку существует теснейшая связь между русской лингвистикой XX века и русским Серебряным веком. По моему глубокому убеждению, наша лингвистика есть неотъемлемая часть нашего Серебряного века.[11]11
См. об этом: Елистратов В. С. О философском подтексте фонологии // Вестник МГУ. Сер. 19. № 1. 2000. С. 30–35.
[Закрыть] Кроме того, в силу сложившихся обстоятельств, серебряный век русской лингвистики просуществовал на несколько десятилетий дольше. Можно сказать, он продолжается до сих пор. По крайней мере, М.В.Панов – человек Серебряного века. Прежде всего своей синтетичностью.
Наверное, если выбирать на чисто интуитивном уровне между словами «метафизик» или «диалектик» применительно к имени М. В. Панова, то как-то сразу больше склоняешься к определению «диалектик». Действительно, сам стиль этого человека (поведения, устной и письменной речи,[12]12
В устной и письменной речи М. В. Панов, будучи, конечно же, абсолютно уникальным феноменом, тем не менее типологически близок таким языковым личностям, как В. Шкловский или Л. Гумилев. Он в большей степени «ритмичен», чем «мелодичен». Это проявляется в короткой, «упругой» фразе, в широком использовании синтаксической парцелляции и в ряде других черт, которые начали «входить в моду» в научном и научно-публицистическом стиле лишь в конце 80-х – начале 90-х гг. Стихи ученого – «Тишина. Снег» (1998) и «Олени навстречу» (2001), – написанные преимущественно верлибром, опять же, внутренне невероятно динамичны и обладают сложным внутренним ритмом.
[Закрыть] реакций и т. д.) скорее «диалектически динамичен», чем «созерцательно статичен». Проблемы, которые он изучал, терминология, которой он пользовался и которую вводил в научный обиход, казалось бы, скорее сродни диалектическому Огню-Логосу Гераклита, чем «неизменному и шарообразному» миру элеатов-метафизиков. Сами семантика и стилистика терминов говорят о многом. Антиномии развития системы языка, позиционная морфология и вообще постоянный интерес к динамике и нюансам позиционных мен на всех уровнях языка (введение понятия «эквиполентная оппозиция» и т. д.), функциональная социология, динамика развития жанров речи, диалогизм, движение системы русского языка к аналитизму[13]13
Здесь, как мне кажется, очень показательный момент для характеристики личности М. В. Панова: он словно бы настаивает на том, что движение к аналитизму пусть небольшое, но все-таки есть. М. В. Панов вводит соответствующие термины («аналитические прилагательные»), словно бы «торопя» события, словно бы «подстегивая» систему. Лишь наметившуюся тенденцию (рост числа «аналитических прилагательных») он тут же замечает и широко освещает. И идея становится пророческой.
[Закрыть] и т. д. – все эти термины, за каждым из которых целая сфера научных интересов, всё это скорее «диалектика», чем «метафизика».
И все же, рискуя вызвать массу возражений, я настаивал бы на глубинно метафизической сущности личности М. В. Панова. Выдающийся «диалектик», М. В. Панов – еще более выдающийся «метафизик».
М. В. Панов сформировался как ученый в недрах Московской фонологической школы. И нельзя не согласиться с тем утверждением, что «обобщение идей Московской фонологической школы в виде целостной концепции, отражающей ее состояние в 60 – 70-х гг., осуществлено М. В. Пановым».[14]14
Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 316.
[Закрыть] Сюда можно было бы добавить, что в 80 – 90-е гг. М. В. Панов активно переносит основные (по сути не только лингвистические, но и философско-лингвистические) идеи М. ф. ш. из фонологии на другие уровни.[15]15
Прежде всего речь идет, конечно, о морфологии: См.: Панов М. В. Позиционная морфология русского языка. М.: Наука – Школа ЯРК, 2000. Интересно, что перенос, применение идей М. ф. ш. М. В. Пановым идет и по «метафизическому», и по «диалектическому» направлениям. Законы позиционных отношений в языке, согласно М. ф. ш., по сути своей универсальны, а значит, возвращаясь к нашей проблематике, метафизичны (онтологичны). Они продуцируют бесконечные изменения, но сами они неизменны. В своей книге 1990 г. «История русского литературного произношения XVIII–XX вв.» (М.: Наука) М. В. Панов разворачивает «большую лингвистическую диалектику» русской звучащей речи, опять же исходя из идей М. ф. ш. Таким образом, М. В. Панов создает свою «диалектическую фонетику» и «метафизическую морфологию».
[Закрыть]
Суть, «сердцевина» концепции М. ф. ш. – учение о фонеме. Неслучайно во время записи (см. приведенный в данном сборнике диалог с ученым) М. В. Панов, произнеся слово «фонема», тут же иронично добавил: «Ну, вы пропали… <…> Потому что я как сел на фонему… так вы меня и не отгоните от нее…».
М. ф. ш. в отличие от «ленинградцев» («петербуржцев») и «пражан», вкладывает в фонему, на мой взгляд, глубочайшее метафизическое содержание. «Московская» концепция фонемы – глубоко «платоническая».[16]16
См. об этом подробнее: Елистратов В. С. Указ. соч.
[Закрыть] Фонема, которая имеет множество реализаций, – своего рода идея, «эйдос», «дух» (можно назвать ее и более «приземленно» – «абстракцией», «отношением», как и назвал ее М. В. Панов во время записи, но это не меняет сути). «Ощутить» фонему нельзя, можно «ощутить» лишь ее воплощения. «В фонему можно только верить». Эта «вера в фонему» по своему духу близка ко многим, казалось бы, совершенно «идеалистическим» учениям Серебряного века, например учению В. С. Соловьева о Софии, которое (на этот раз осознанно) ведет свою родословную от Платона и платонизма. Концепция фонемы, которую полностью разделял и страстно проповедовал М. В. Панов, будучи полнокровной научной (т. е. вроде бы «метафизической» концепцией), тем не менее глубоко идеалистична и метафизична. Московская фонология – «лингвистический извод» объективного идеализма, т. е. веры в нечто неизменное, вечное, находящееся вне нас. Именно поэтому она (московская фонология), по словам М. В. Панова, «отряхнула со своих ног прах ничтожного эмпиризма» (см. диалог).
И здесь есть еще одна важная составляющая личности М. В. Панова.[17]17
Здесь и далее см. текст диалога с М. В. Пановым.
[Закрыть]
Ученый настойчиво сближал фортунатовцев и формалистов (тоже «продукт» Серебряного века). При этом подчеркивая, что «формалисты» – неверное название. Верное же – «спецификаторы» (определение М. Эйхенбаума). Что это значит? Это значит, что формалисты-спецификаторы ставят перед собой одну глобальную задачу: определить, в чем специфика искусства по сравнению с другими областями человеческой деятельности. Фортунатовцы же в отличие от «других» структуралистов ставят своей задачей определить и отстаивать специфику языка как знаковой системы по сравнению с другими знаковыми системами. И там, и там – культ специфики, уникальности, неповторимости. Чрезвычайно русская идея! Созвучная идеям Ф. Достоевского, Н. Розанова, «цветущей сложности» К. Леонтьева и др. М. В. Панов (отдавая должное) не мог не принять, например, «семиотического глобализма» в науке, как не мог принять и перенесения идеологических схем на искусство вульгарными социологами. И очень характерно, что от разговора о фонеме, фортунатовцах и «спецификаторах» он тут же переходит к разговору о достоинстве личности («самостоянии», как говорил Д. С. Лихачев), о «профессиональном» чувстве достоинства и о национальном языке: «Профессиональное чувство достоинства допускает только одно: то, чем я занимаюсь, бесконечно важно, ценно, и я в своих воззрениях не подчинюсь никому, кроме объекта изучения. А мой объект изучения, в свою очередь, он совершенно самостоятелен и представляет величайшую ценность, потому что он приносит людям радость и счастье. Ни одного человека нет такого, который прочел бы какую-нибудь басню Крылова и перестал бы врать, и перестал бы воровать… Басни Крылова почему радостны? Да по языку своему родному радостны! По меткости характеристик, по наблюдениям! Ничему они не учат кроме того, что они учат любить русский язык и любить искусство».
«Метафизику» М. В. Панову, глубоко осознававшему глобальные, интегральные законы языка, был, тем не менее (а вернее – именно поэтому), свойственен культ специфичности, «самости», будь то та или иная сфера человеческой деятельности, сфера национального или сфера личного. Именно М. В. Панов первым, еще в 60-е гг., веско выдвинул идею разработки методов описания речевого портрета личности и осуществил идею, развернув ее в «Истории русского литературного произношения XVIII–XX вв.». «Специфичное» же может существовать только в условиях свободы, свободного диалогизма. Отсюда, в частности, и отстаивание М. В. Пановым взгляда на языковую норму в наши дни как на «выбор», а не как на «запрет».[18]18
См.: Панов М. В. Из наблюдений над стилем сегодняшней периодики // Язык современной публицистики. М., 1988.
[Закрыть]
Культ «личного», неповторимого и специфичного при отчетливом видении единой метафизической глубины мира и веры в нее – может быть, все это и есть подлинная сущность интеллигентности.
4. Разговор М. В. Панова с Е. В. Красильниковой и Л. Б. Парубченко. 10 декабря 1998 гТекст представляет собой расшифровку магнитофонной записи беседы М. В. Панова с Е. В. Красильниковой и Л. Б. Парубченко, происходившей в квартире М. В. Панова. Была записана средняя часть беседы, за чаем.
Запись, компьютерный набор и подготовка текста к печати Л. Б. Парубченко.
Оригинал хранится в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН.
Принятые сокращения:
М. В. – Михаил Викторович Панов.
Е. В. – Елена Васильевна Красилъникова.
Л. Б. – Любовь Борисовна Парубченко.
М. В.: <…> В свой университет когда писал заведующей кафедрой, сказал, что Вы совершили подвиг – переписали лекции. И я возгорелся желанием доделать эту книгу. Потому что, конечно, книжка – это одно, а лекции – другое, там кое-что изменить, очень многое добавить, но Вы меня вдохновили на эту работу. Чтобы получилась книжка. Может быть, не «Лингвистика и преподавание русского языка», а просто «Преподавание русского языка», а там из содержания они увидят, что есть еще и лингвистика.
Л. Б.: У меня эту книгу уже многие читали, многие учителя читали (я авторские права Ваши ставлю все время под угрозу), студенты читали и слушали. Вы знаете, она очень нужна, эта книга, я это поняла.
М. В.: Спасибо. А вот я сейчас хочу ее доделать. Стал смотреть свои методические материалы, я же всю жизнь их собираю… Ох, я боюсь Вашего шевеления на этом стуле, лучше вот сюда…
Л. Б.: Нет-нет, все нормально.
М. В.: Так вот. Всю жизнь все собираю, и вдруг стал рассматривать, и заметил там любопытные вещи. Ну вот, например. Приходит учитель, новый учитель, в новый класс, знакомится с учениками. Ну, как всегда, он строгость напускает, спрашивает, проводит опрос, чтобы узнать, каковы знания. Говорит: «Что такое существительное?» – Ученик: «Слово, которое изменяется по родам, числам и падежам». – Учитель: «Вот слово стол. Измени по родам». – Ученик отвечает быстро: «Парта!» (Смеются.) Началась игра. Я думаю, после этой игры дети хорошо запомнили, что существительное не изменяется по родам.
Приходит он на следующий день, учитель этот, в класс, спрашивает: поезд – как женский род? Ученик, в ус не дуя, говорит: «Электричка!» (Смеются.) А потом говорит, что мы узнали, что это называется тематические группы слов. Иначе говоря, приемы введения веселого духа на уроке русского языка очень могут быть разнообразны.
(Пауза)
И вы, отчаянные люди, чаю не хотите!
Е. В.: Нет, обязательно выпьем. Просто надо паузу, у нас уже столько перемен.
Л. Б.: Михаил Викторович, знаете, чем в Ваших лекциях студенты оказались покорены? Они слушали несколько лекций в курсе истории преподавания русского языка в школе, ну, и когда фонетику изучают, я тоже даю им про историю Московской фонологической школы слушать… Вот я даю им слушать Ваши лекции, потом мы с ними беседуем. И самое сильное впечатление на них произвело, даже неожиданно для меня, – они были поражены тем, что Вы очень хотите, чтобы студентам было ясно, о чем Вы говорите, что Вы очень об этом заботитесь, постоянно…
М. В.: Это очень редкий случай! (Все смеются.)
Л. Б.: Да! Я из этого заключила, что не все лекторы так себя ведут с ними…
Е. В.: Абсолютно!
Л. Б.: И они были вот этим потрясены. Несколько раз мне говорили: как он заботится о том, чтобы поняли, чтобы студенты поняли! А второе – они знаете еще чем потрясены? Они были потрясены тем, что Панов любит студентов.
М. В.: Честно вам скажу: люблю! (Смеются.) Вот ко мне ходят студенты разных выпусков. Вот сейчас выпуск, были один раз студенты православного университета. После того, как они у меня несколько часов пробыли, я чувствую себя помолодевшим. На самом деле. И сил прибавляется, и, в общем, и жизнь все-таки неплохая: если были сомнения, то они исчезли.
Л. Б.: Михаил Викторович, а можно я Вам вопросы буду по лингвистике задавать? Потому что есть вопросы, на которые мне никто не ответит.
М. В.: Если я знаю. Потому что… вопросы есть, на которые ответить нельзя.
Л. Б.: Вначале у меня вопрос про Пешковского. Вы в статье «Московская лингвистическая школа. 100 лет» Пешковского не назвали в числе «москвичей».
М. В.: Это ведь очень сложный вопрос. Я думаю, что его надо называть в Московской школе. Он фортунатовец, он близок ему. Но в последних работах он стал очень сильно пропагандировать Потебню, и у многих появилось такое впечатление, что он отошел от Московской школы к потебнианцам.
А в чем это сказалось? В том, что Потебня был психологист, то есть он думал, что язык – это особый способ мышления, то есть это тема психологии. У нас было три больших ученых-психологиста: это Потебня, это Бодуэн, это, наконец, Поливанов. А потом пришла Московская школа и начала с борьбы против психологизма. Это очень любопытно.
Почему Потебня был психологист? Вот почему. Идея Потебни – то, что язык течет. До него компаративисты Востоков, Буслаев – строгие законы, соотношения строгие между славянскими языками: одна эпоха, другая эпоха, между ними – границы. Старославянский язык один, соотносится таким-то образом с русским языком, с другими. Получилось так, что все в клетки заключено. Строгие закономерности, строгие квадраты таблиц.
Потебня сделал колоссальный шаг. Уже у Буслаева значительное влияние именно исторического взгляда: вот было то, а стало так. У Потебни язык все время течет. Его спрашивают: что такое – я имею в виду в работах, конечно, спрашивают – что такое предложение? А сказать, что такое предложение, невозможно. В разных языках по-разному, в разные эпохи по-разному, и даже у разных людей предложение наполняется разным содержанием. Его, скажем, спрашивают: а что такое вид глагола? А вид глаголов – это неясно. Потому что в XII веке одно, в XVI веке другое, а у нас третье. Ну, и что у него не спросят…
Е. В.: Такая мудрость глубокая, да?
М. В.: Это глубокая мудрость! Что язык непрестанно течет. Язык есть какое-то решето, сквозь которое протекает, язык – несколько решет, и, перетекая из одного решета в другие, он представляется каплями одними – то более крупными, то более мелкими…
А как ему доказать это? Как обосновать, что язык – непрестанное течение? А он сказал, что так же, как мысль непрестанно течет и мысль все время меняется: человек думает, он новые доказательства приводит, новые факты, одни факты сталкиваются с другими… Мысль есть непрестанное действие, работа. Вот он и на язык смотрел как на непрестанное действие, аналогичное мышлению. Поэтому он был психологист, считал, что надо рассматривать язык как психологическую деятельность.
При этом он выиграл одно очень важное. Во-первых, новый взгляд сам по себе был плодотворен когда-то, а с другой стороны, он первый заметил, что в разных говорах гласные изменяются по-разному. Ну, например, в русском языке: гълава, хъдуном, а в каком-нибудь там говоре NN по-другому, другое решето, а в каком-нибудь еще третьем говоре по-другому гласные изменяются. Гласные все время преобразуются, они протекают сквозь решета диалектов. Получается так: единый взгляд на язык – как то, что постоянно изменяется и зависит от физической деятельности человека, от возраста, от того, какое мышление в каждом регионе, чуть ли не в каждом говоре – в общем, он был психологист.
Дальше пришел Бодуэн. Он стал высказывать мысли совершенно непривычные. Ну, например, вот эти самые [гълава]: в ударном – [о]: г[ó]ловы; [а] – в первом предударном: г[а]лов; во втором предударном – г[ъ]лова – [ъ]. А почему? Как можно в одну фонему объединить столь разные единицы: [о], [а], [ъ]? Это и сейчас многие не признают, а тогда это был просто, я бы сказал, скандал в честном лингвистическом семействе! Как это так? Объединяет в одну единицу то, что совершенно непохоже! И Бодуэн отвечал: в сознании это объединяется. Мы должны обратиться к сознанию говорящих, а в сознании объединяется все, что чередуется позиционно. Как бы ни было, по-разному ни произносились, вообще, как бы единицы ни изменялись, но если они в сознании единство, они единство в языке.
Для него, значит, совсем по-другому встал психологизм. Надо было обосновать новые идеи, доказать, что объединяются в одно целое совершенно непохожие единицы. Раньше, как там ни говори, это было все-таки представление натуралистическое: звуки объединяются, потому что похожие, формы объединяются, потому что они имеют общее значение, омонимы различаются с полисемией, потому что омонимы не имеют общего значения, а полисемия имеет общее значение – то есть речь шла о сходстве. Обычном, примитивном сходстве. О элементарном наблюдении.
А Бодуэн показал, что в языке есть очень неэлементарные связи. Как доказать, что эти разные факты надо объединить? Он обращался к сознанию. В сознании говорящего они объединяются. Спросите человека грамотного, но не филолога: голова – какие там гласные? – О, о, а. – Почему о? – Потому что у него в сознании это. Почему там, скажем, не слышат, что кость с мягким [с'] произносится? Какое же там [с'] – мягкого знака-то нету! Потому что объединяет кость и косточка – в сознании у него объединено. И тысячи таких примеров! Горсть – нет, здесь всегда будет мягко. Кость – косточка – мягкое [с'] и твердое [с] размещаются позиционно, объединяются – где? Функционально, можно сказать, а функция отражается в сознании. В сознании объединяются единицы, функционально тождественные. Вот Бодуэн.
И кроме того, у Бодуэна была еще одна важная причина: он разделял синхронию и диахронию, не менее твердо, чем Соссюр. Так-то у него этих терминов не было – синхрония и диахрония – забыл я, вылетело из головы, у него какой-то другой термин. Делит факты, соотносящиеся в одно время друг с другом, – и факты меняющиеся. А как? Критерий того, что это к одной системе относится? – Есть в одном и том же сознании. Вот кричали: как можно избавиться от буквы ять, это особый звук, вот он дифтонгично произносился! – В сознании современного говорящего есть это дифтонгическое ять? Нет, в современный язык тянется то, что было когда-то. Значит, вот требование строгой синхронности выдвигал как такой критерий. Синхронно то, что есть в сознании говорящего в определенную эпоху.
Ну и наконец Поливанов. Во-первых, как ученик Бодуэна де Куртенэ и как человек, занимающийся орфографией, он подхватил идеи Бодуэна де Куртенэ о том, что в сознании есть – значит, надо отражать в письме. А то, что в письме не отражается – возьмите вон, взял он тему, которую все мы с вами любим, – ошибки. Человек, если его специально, искусственным правилом не научить, где ять, он делает бесконечно ошибки. Почему? У него в сознании нет разграничения ять и е.
После этого пришел Николай Феофанович… правильно я его имя называю? Вот до чего я постарел…
Л. Б.: Яковлев?
М. В.: Яковлев.
Л. Б.: Феофанович.
М. В.: Николай Феофанович, да. Он взял этот самый… пику тореадора – и пошел на психологизм. Говорит: психология – это не лингвистика. Психология летуча, колеблется, у разных людей по-разному. И самое главное, в эпоху начала материализма, марксизма у него был довод: это субъективизм в языкознании. Психология у всех разная, а язык один для всех. Поэтому надо освободиться от психологизма. И фонема – это не то, что объединяется в сознании, а фонема то, что объединяется в языке. Путем че-ре-дований. Вот Яковлев начал антипсихологизм.
Это подхватил Рубен Иваныч Аванесов, Владимир Николаич – они все антипсихологисты. И так как они узрели у Пешковского какую-то, я думаю, очень незначительную, склонность к психологизму, они Пешковского вывели за, они его не упоминают обычно в составе учеников Фортунатова.
М. В.: Но я думаю, это была все-таки кампания, которая прошла. Сейчас вопрос о психологизме не стоит, сейчас мы опять можем говорить: надо учитывать психологию учащегося – не потому, чтобы мы отказывались от взглядов Бодуэна де Куртенэ, Аванесова, Сидорова. Так что можно считать, я бы Пешковского считал «москвичом», и только из страха перед учителем Аванесовым я его не упоминаю иногда. (Смеются.)
Л. Б.: Михаил Викторович, а почему – я, может быть, в этом неправа, но вот я читаю литературу 30-х годов – мне показалось, что Пешковского ругают больше всех. Или это не так? А если так, то почему именно Пешковского? Его до 50-х, еще в 55-м году ругали, как имя такое вот…
М. В.: Пешковского, его не ругали, а с ним спорили. Спорил Сергей Осипович Карцевский, ну, и многие другие. Я думаю, что с ним спорили именно когда он… Человек скажет, не предвидя из сего никаких последствий, что ученики воспринимают какие-то формы как… Ах, воспринимают какие-то формы как – о-о-о! это отступление! Они считали, что… во-первых, он по поколению гораздо старше. Вот. А старшие, например я, все любят рычать на младших, например на вас (смеется).
Л. Б.: А он своей смертью умер, Пешковский, в 33-м году?
М. В.: Что?
Л. Б.: Как умер Пешковский?
М. В.: Лег в постель, (со смехом) а встать не смог (все смеются).
Л. Б.: Да? (Смеется.) Понятно.
М. В.: Нет, его никто не репрессировал, <…>.
Л. Б.: Не успели. Михаил Викторович, а как правильно… (снова смеются) как правильно говорить: основную принадлежность или основную принадлежность слова?
М. В.: Наверно, основную принадлежность.
Л. Б.: Основную, да? Михаил Викторович, а вот теперь у меня вопрос, который я вам два года подряд боялась задавать; думаю, скажет: совсем ничего не знает, а еще фонетику читает. Вопрос вот какой. Михаил Викторович: что такое позиционный ряд фонемы. Ну, допустим, вот фонема (а). Вот у нее позиционный ряд вот такой: <а>: [ρ] // [á] // [ä] // [и]… и так далее. А как тогда быть с единством морфемы? Потому что вот, допустим, вот этот звук: [а] и этот звук: [и] – они ведь не встретятся в одной морфеме…
М. В.: Они встретятся в одной морфеме. Пять – …нет, не это. Сел – сидя – сяду: это чередование не позиционное, потому что это чередование именно морфонемное, да, Леночка?
Е. В.: (Кивает головой.)
Л. Б.: Ну, вот я хочу сказать: вот это: [а] между мягкими и [а] между твердыми – не встретятся в одной морфеме. А почему тогда…
М. В.: Посадка – сядь. (Улыбается) Но это редкий случай. Ну, я думаю, что… важно вот что. Что есть, значит, пять и [п'и]тм – попарно их соединять можно. Посадка – сядь. Попарно их можно свести к сильной позиции под ударением между твердыми.
Л. Б.: Ну, а вот посадка – и сиди: они почему попадут в одну фонему?
М. В.: Они встречаются не в одной позиции, они чередуются с [а], которое… ведь никто не говорит, что эти звуки должны в одной позиции встречаться, они должны позиционно чередоваться. А эти звуки позиционно чередуются. Знаете, когда [а] и [и] будут в одной и той же морфеме? Это в каких-нибудь аффиксах. Какой-нибудь чужак – вот суффикс – ак.
Л. Б.: Босяк.
М. В.: Бос'[а]к. О бос'[ш]ке. Бос'[ä]ческий. Вот: бос'[ä-ä-ä-]ческий1 Вот они могут встречаться все в одной морфеме. А позиции у них будут разные. А какое-нибудь окончание – ами и – ну, это уже нахальный обман: – ам – дательный падеж и – ами творительный. Если вы скажете вот: плечами – (утрируя): плеч[ä-ä-ä-]ми (Е. В. и Л. Б. смеются), а какое-нибудь там ногам – [ä] и [а] чередуются. Ну, правда, это разные падежные окончания, так что это не в одной морфонологической позиции.
Л. Б.: Михаил Викторович, а какой фонемный состав у слова след[уш':]гш? Кто след[уш':]ий?
М. В.: Вот так, значит. Если вы след[ущ]ий связываете со словом следует…
Л. Б.: Не связываю.
М. В.: А есть вариант: след[yjy]щий. Такой есть. Значит, все-таки есть полное произношение этого слова и краткое. И если след[yjy]щий, тогда… Вот для меня все-таки следовать – это связывается со словом следующий. Но если не связывается, тогда следующ– есть корень. Если следующий не тот, кто следует, а тот, кто за мной.
Л. Б.: То есть для вас связывается со следующий, да?
М. В.: Связывается. Кто за вами следующий? Раз за вами – значит, очевидно, следовать за кем-то. А без за вами – это сокращенный оборот.
Л. Б.: И тогда получится, что здесь две нулевые фонемы, да? В произношении? Мы же след[уш':]ий говорим.
М. В.: Да. Если след[уш':]ий?
Л. Б.: Да, след[уш':]ий.
М. В.: Тогда, значит, они факультативно бывают нулевыми. А если зануда говорит: след[y-jy]щий! (утрируя) – то они у него проясняются. У него два фонемных варианта этого слова.
Л. Б.: Понятно. Михаил Викторович, а вот еще два вопроса у меня. Мы с Еленой Васильевной ехали и говорили. Она говорит, что очень трудно аспирантами руководить, что она лучше бы лекции читала. Я хотела бы Вам вопрос задать: вот как Вы руководите дипломниками, как Вы руководите аспирантами, что они у Вас пишут все, и пишут хорошие работы?
М. В.: Вот в прошлом году, Вы помните, эта неблагодарная моя дипломница, и я поступил так же неблагодарно – я фамилию ее забыл. Она писала на тему: «Переводы Катулла в русской поэзии». И даже не пришла, и не сказала «спасибо» после защиты. Да. Ну, и я решил ей отомстить – я ее фамилию забыл.
Но мы с ней, наверное, раз двадцать встречались. Она приезжала, привозила переводы Катулла. Причем так как я латынь в студенческие годы знал на «хорошо», а сейчас знаю на «минус пять» – не на единицу, а гораздо меньше, так у нее был второй руководитель, который проверял ее переводы с латинского на русский. А дальше мы с ней беседовали. Она очень девочка была хотя неблагодарная, но работящая, она нашла, она взяла десять стихотворений Катулла, и каждое стихотворение в пяти, шести, семи переводах. И она эти переводы сравнила: что ближе к тексту латинскому, что дальше, чем вызвано отдаление, какие есть тенденции в переводах – ну очень интересная работа.
И вообще дипломники в прошлом году один раз всего приехали, вот. Нет…
Е. В.: Курсовые они писали.
М. В.: Курсовые. Они мне просто сами написали и принесли. Спасибо, оказалось, что ничего написали, и я им поставил пятерки, по-моему, заслуженно. Вот я так и руководил: поставил им отметки. (Смеются.)
Е. В.: Ну, это зависит от человека.
М. В.: Что?
Е. В.: Я говорю, зависит от студента: кто хочет получить, тот получает. Кто не хочет, ну…
М. В.: Вот, значит, сейчас мне две, нет, одна, не знаю точно, моих дипломницы, не дипломницы, а курсовики, так их можно назвать, курсовые работы, – я им пожаловался, что есть страшно редкая книжка, автора ее я не помню, я им назвал – «Методология творчества Мейерхольда». И вдруг они позвонили Гале Якимчик, сказали, что они эту книжку нашли. Ну, я надеюсь, они ее не загонят (Е. В. смеется) и мне все-таки когда-нибудь отдадут? Но, может быть, и загонят. Но вот я ожидаю, что все-таки они будут ездить. Это для Катулла надо было ездить бесперечь туда-сюда, туда-сюда, а так – три-четыре раза приехали, и все.