Текст книги "Жизнь языка: Памяти М. В. Панова"
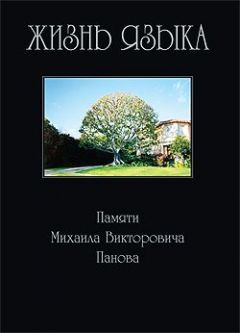
Автор книги: Сборник статей
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
О.А. Седакова (Москва). Михаил Викторович Панов. Последняя встреча
Слава Богу, я успела его повидать. До этой, последней, встречи мы не виделись несколько лет. Иногда, случайно, когда он ехал в библиотеку или из библиотеки.
У подъезда я спросила старушек, тот ли это дом и корпус.
– А, к Михаилу Викторовичу? Идите, идите, он с утра ждет. Просил конфеты купить, такая, говорит, у меня гостья будет!
Все эти коробки конфет – три, не меньше – он велел мне забрать с собой. У него всегда были сладости. Ничем другим он не угощал. Когда однажды мы пришли к нему с Виктором Кривулиным, чьи стихи он очень высоко ценил, и Витя достал бутылку красного вина, Михаил Викторович обиженно сказал: «У меня не из чего это пить». Бутылка вернулась в портфель.
И дверь была, как всегда, незаперта. Книг стало еще больше. Жилые пространства были вырыты в этой горе книг, как пещеры: в одной пещере, под книгами и над книгами, он спал. Другая пещера – для стола со сладостями. Впрочем, с краев этого стола уже наступали книги, новейшие. Он был в пиджаке, свежайшей рубашке и галстуке. Как всегда.
Но вежливость его мне показалась какой-то другой: старинной. Как будто он вернулся к своему родному языку – языку старой московской интеллигенции. В университете он говорил ближе к нашим привычкам. Никогда он не был консерватором. И не стал. Он уважал новизну.
– Если б я мог теперь дойти до храма, поставил бы свечку за того, кто изобрел эту чудесную забелку! Как удобно! Не стирать, не зачеркивать.
Мне всегда казалось, что его письма написаны разноцветными чернилами. На самом деле разный цвет был у его фраз, так что раскрашивать их было бы уже тавтологией. Разный цвет у его слов. Вот он рассказывает что-то забавное. Потом вдруг, совсем сникнув: «Да, какая беда, Оля, свет-то уже пошел на убыль!» Я готова была подумать, что он имеет в виду что-то всеобщее, символическое – но стоп: 5 июля! Уже вторую неделю как световой день начал уменьшаться. Да, печальный поворот. В одном своем стихотворении он написал, что осенью нетрудно умирать,
Нужно только сани, сани
Быстрой сталью подковать,
Чтоб несли они с размаха
С этих берегов на те…
Он был совсем отрешен и в то же время совершенно вовлечен в каждый поворот разговора. Как всегда.
Чего не было и, кажется, быть не могло – этих слов о храме и свечке. И иконок на столе. В свое время он говорил мне: «Вот одна моя ученица спросила меня: Вы крещеный? Я говорю: да, родители крестили, а что? Значит, можно за Вас молиться». И взглянув с глубоким, глубоким горем и насмешкой, спросил: «Значит, такая у вас вера? только за своих можно?» Но и без этой истории церковное его как будто совсем не привлекало.
Он рассказал о своем обращении. Оно поразительно. Ничего похожего я не слышала. В какой-то газете он прочел о случае на дороге: лосенок увяз в болоте, и лосиха пошла к трассе, ища помощи и обращаясь, как могла, к людям. И кто-то ее понял, пошел за ней и спас лосенка.
– И я понял, Оля: это Она. Это Богородица. Это все есть. Верьте, верьте! – Он говорил со слезами.
Последние слова, какие я слышала от него в дверях:
– Я рад был бы говорить с Вами так без конца, но не смею Вас задерживать.
Впервые увидев его в университете, когда он первый год читал общий курс русской фонетики (его приходу предшествовали слухи: гений у нас будет читать!), я подумала, что никогда не встречала таких отрешенных глаз. Он видел что-то еще кроме того, что всем нам было видно, – и это что-то было несомненно хорошим, долгим, бесконечно достойным внимания. Нет, не опустошенный взгляд визионера – взгляд ничем не прерываемой мысли. Такой взгляд часто изображал Рембрандт.
И спросить мне хотелось: что видишь?
Скорее всего, ответить было бы нечего. У долгой мысли нет «что», нет фигур, нет предметов. Но человек, погруженный в такое зрение-собеседование, сразу же узнается как праведник.
– Правда, вокруг него сияние? видишь, мандорла? – спрашивала меня однокурсница, которая уже знала, в отличие от меня, кто такой М. В. Панов (она-то и сообщила всем о гении). Не буду придумывать, никаких световых эффектов я не заметила – но что было точно: он входил в своем пространстве, как в каком-то коконе, и другие рядом казались вдруг как бы раздетыми, без своего воздуха. Суеты в нем не было, и это было страннее всего. Все суетились, и это, видно, и разгоняло от них свой воздух, а он нет. Он был в себе.
Он шутил, выдумывал, озорничал на лекциях, даже пел, случалось, частушки, предупреждая, что будет фальшивить: он хотел показать нам фонетическую гениальность народа, которая проявлялась в этом последнем жанре устной поэзии.
У нас реЧка клюЧевая
Да и люди ниЧево
Коромысло ноЧевало
Не уЧалили ево
Какое переживание звука Ч! И в паре с В! А из К, которого после «речки» не хватает в «людях», складывается «коромысло». Его анализы стихотворной формы всегда были блестящи, но это я узнала позже, на его семинаре по лингвопоэтике. И потом – на лекциях по русскому стиху.
Начиналось все с общей фонетики, с московской школы, с трудной для интеллектуально не тренированного слушателя идеи фонемы. Конечно, мы все были за московскую против ленинградской, у которой только эмпирика. А тут – скачок от физического звука к умопостигаемому.
Фонетика увлекала не только тем, что касалась самого незаметного для бытового или утилитарного отношения в языке, самого пренебрегаемого: его плоти – и обнаруживала сказочное богатство и тонкость различений в этой акустической и артикуляционной материи. Но – недаром из фонетики росли новейшие, «строгие» теории языкознания – она касалась плоти, которая состояла сплошь из сложно упорядоченных отношений. Из пучков оппозиций. В этом был восторг. Своего рода реабилитация вещества, которое насквозь умно, насквозь формально, лучше сказать, формно, а вовсе не та глухонемая аморфная «материя», про первичность которой нам талдычили на философской принудиловке. В этом случае, как потом во многих других, я поняла, что то, что называется «марксистским мировоззрением», есть по существу переведенный в «научные» термины образ мира, каким его воспринимает тяжелый и ленивый обыватель. Главное свойство этого персонажа – хорошего он не видит, ему нечего делать с хорошим. «На духе с самого начала лежит проклятие: быть облеченным в плоть языка», Маркс. Если и так, то почему это, собственно, проклятие? Но Михаил Викторович вовсе не полемизировал с марксизмом. Он говорил о фонеме. И это была поэзия, как у Данте: поэзия умственного восторга. Мы видели эти «атомы звуков» (Хлебников: «восходит звука атом»), с лучами разных признаков, с пересечениями и оппозициями, с удивительной красоты законами – и свободой.
Михаил Викторович любил формалистов, а структурную школу, тогда восходящую, считал их плохим продолжением. Структуры и уровни казались ему слишком жесткими и тусклыми, ему недоставало в них парадокса, игры. Ю. М. Лотман в поздних работах думал о внеструктурном начале, называя его «взрыв»: по Панову, живое строение, форма (языка ли, стиха, традиции) и состояла из взрывов. Не «норма» и «сдвиги» – а живой порядок скачков, взрывов, близость далековатостей. В нашу последнюю встречу он приглашал меня в «Энциклопедию юного филолога» – написать о Маяковском! Именно потому, что знал, как это мне далеко. В таких случаях и высекается искра, говорил он. А о Мандельштаме – ну, понятно, что вы будете писать о Мандельштаме. Нет, Маяковский, обещайте мне… Я уклончиво обещала подумать. Пожалуй, далековато для искры.
Не довольный ни «ритмом», ни «метром», он придумал «гнотр»: ритмоорганизующий принцип, который действует и в собственно ритмике, и в кругу образов поэта, и в его композиции. Он искал эти «гнотры» в русской поэзии от восемнадцатого века до своих современников – в том числе непубликуемых тогда поэтов. Кто осмелился бы в те годы читать лекции об авторах, которых велено считать несуществующими, – о Кривулине, Елене Шварц? Вопрос риторический.
Михаил Викторович был первым «взрослым» человеком, которому я решилась показать свои стихи. Второй курс, 1969 год. Я отдала машинописную тетрадку – и только потом испугалась и, завидя его издалека, старалась не попасться на глаза. Однако однажды жизнь столкнула нас у лифта. И он, предупредив мой побег, подошел, протянул руку и сказал: «Поздравляю. Эта книжка – событие в русской поэзии». Это была для меня охранная грамота на многие годы.
Советские критики и поэты, да и филологи могли теперь говорить мне что угодно – и говорили, и теперь не перестали, – но я уже могла про себя вспомнить: а Панов…
Он попытался мне помочь таким образом: устроить мое чтение на факультете под прикрытием его доклада обо мне, так что то, что я потом прочла бы, было иллюстрацией к его тезисам. Просто чтение в то время было абсолютно немыслимым: даже в стенной газете печатать стихи мои было нельзя. Предпринято это было для моих родителей: пусть увидят, что университетский профессор что-то находит в этой «зауми». Аудитория была полна, и, когда вошел мой отец в военной форме, народ перепугался: «они»! Теперь трудно объяснить, какой это был шаг со стороны Михаила Викторовича – и как таких шагов умели не прощать. Но тот раз удалось без последствий. Без позитивных, впрочем, тоже: мой отец продолжал считать, что я должна быть ученым и работать, как все. Когда меня поместили в психбольницу, Михаил Викторович пригласил моего отца, чтобы убедить его, что с людьми искусства нужно обращаться бережно и не удивляться странному в них. Как потом он рассказал, он был удивлен, предполагая увидеть жестокого военного тирана – и встретив убитого горем человека, который не понимал, что происходит. В это же время Михаил Викторович напечатал мою курсовую работу (второго курса!) «Образ фонемы в „Слове о Эль“» в академическом сборнике Института русского языка – вещь тоже немыслимая в те годы. Вскоре сам он попал в тяжелую опалу и ничем уже помочь не мог…
Я не знаю, как Михаил Викторович описывал мой «гнотр» в позднейших лекциях, но в письме он написал так: «Ваше зрение устроено так – Вы берете ближний предмет и пересылаете его вдаль». Так это или нет, не знаю, но образ пересыльного зрения прекрасный – и я несомненно любила бы поэта, который так делает. Может быть, Рильке такой. Он хочет показать вещи Ангелу, как об этом сказано в Дуинской элегии. Это и значит: переслать их в упоительную даль.
Если бы у моего зрения (иначе – ума) в самом деле была такая сила – пересылать близкое вдаль или догонять тех, кто сам в эту даль ушел, я, вместо того чтобы писать эти заметки, посылала бы Михаилу Викторовичу вещь за вещью: этот осенний холм в окне – помните, как это красиво? вот кот у печи лежит, поет – помните, Бодлер назвал это урчанье виолончелью? вот мелкие сиреневые астры у изгороди – я сама их сажала: Вам, мой учитель, мой читатель, мой защитник. Пусть они отправятся туда,
Где ни боли нет, ни страха —
как у Вас сказано. Где, надеюсь, все смеют друг друга задерживать, как Ваша чудесная лосиха.
IV. Научные статьи друзей, коллег и учеников М. В. Панова
В. М. Алпатов (Москва). Михаил Викторович Панов глазами востоковеда
Как известно, Михаил Викторович Панов всю жизнь занимался только одним, но столь важным для нас языком – русским. Он никогда не считался «специалистом по общему языкознанию» и как будто не претендовал на такую роль. Даже параллели с наиболее известными западными языками в его работах нечасты, не говоря уже об «экзотических» языках. И тем не менее, как мне представляется, очень многие его идеи и находки далеко выходят за пределы русистики и могут представлять интерес для тех, кто занимается совсем другими языками. А с другой стороны, материал иных языков может иногда заставить по-иному взглянуть на то, чем занимался выдающийся ученый.
Моя лингвистическая судьба сложилась так, что после окончания ОСИПЛ (Отделения структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ) я попал в аспирантуру академического Института востоковедения по специальности «японский язык» и работаю с тех пор в этом институте уже 36 лет. С самого начала я оказался в стане японистов и русским языком никогда специально не занимался (хотя, разумеется, ни один лингвист не может, хотя бы косвенно, не пользоваться материалом своего родного языка).
И все же еще со студенческих лет я знал и с большим удовольствием читал работы Панова. Началось это с книги «А все-таки она хорошая», которую я запоем прочитал сразу по ее выходе на первом курсе. Меня всегда поражало редкое для наших языковедов умение автора этой книги совмещать высокую научность и яркий, доходчивый стиль. Вспоминались, конечно, книги Льва Успенского, но тот все-таки был популяризатором в чистом виде, пересказчиком идей Щербы и других ученых, а здесь очевидно было, что автор излагает свою концепцию. Знал я и про ведущую роль Панова в комиссии по реформе русской орфографии. В студенческие годы я активно «болел» за проект реформы, возмущался научно неграмотными статьями его оппонентов-писателей и огорчился, когда проект не реализовался. Теперь я, однако, понимаю закономерность этой неудачи, о чем еще скажу ниже.
Первый раз мне непосредственно помогли идеи Панова, когда я занялся проблемой частей речи в японском языке; см.: [Алпатов 1979: 76–93; 1990]. В традиционных классификациях, принятых в Японии, наряду с привычными для нас классами выделяется особенная часть речи, которую японцы называют рэнтайси, что наши японисты передают калькой приименное. Эти слова не изменяются и не присоединяют послелогов или частиц, а выступать могут лишь в роли определений. При втискивании японского языка в европейские схемы их относили к прилагательным, но «обычные» японские прилагательные, во-первых, изменяются, во-вторых, ближе к глаголам, чем к именам: изменяются они по временам и наклонениям, а предикативная функция для них не менее характерна, чем атрибутивная. Неизменяемостью и единством синтаксической функции приименные скорее напоминают наречия, но функция у них другая. Обычные схемы частей речи не предусматривают такой класс.
И тут мне пригодилась статья Панова в сборнике в честь А. А. Реформатского [Панов 1971]. В ней для русского языка выделяется особая часть речи – «аналитическое прилагательное». Сюда относятся, например, чудо, беж, гамма в составе чудо-печь, цвет беж, гамма-излучение (орфография, как подчеркивает Панов, здесь непоследовательна). Эти слова неизменяемы и могут быть только определениями. Совсем как рэнтайси! Уже русский и японский материал заставляет учитывать возможность существования данного класса в общей теории частей речи. А есть и другие языки. На территории той же Японии до недавнего времени существовал загадочный по происхождению айнский язык, не родственный японскому и типологически от него далекий. И в этом языке японские исследователи среди частей речи выделяют рэнтайси. Любопытно, что в айнском языке вовсе нет прилагательных (соответствующие значения выражаются непереходными глаголами), но неизменяемые (в отличие от глаголов) слова с атрибутивным употреблением есть. Европейские авторы называют их детерминативами.
Впрочем, русские и японские аналитические прилагательные, имея формальные сходства, резко отличаются и по семантике, и по происхождению, и по месту в системе языка. В русском языке это открытый, постоянно пополняемый класс, включающий в основном периферийную лексику; обычно слова этого класса происходят от существительных; среди них много заимствований. Японские же рэнтайси – небольшой закрытый класс (около 30 слов), целиком состоящий из исконных единиц (даже столь многочисленных в японском языке китайских заимствований там нет) в основном отглагольного происхождения. Если значения русских аналитических прилагательных достаточно конкретны, то рэнтайси имеют более общее значение ('некий', 'так называемый', 'всевозможные' и др.). Часто это значение близко к местоименному, а японская традиция включает в данный класс и те из указательных и вопросительных местоимений, которые употребляются атрибутивно. Айнские детерминативы сходны во всем этом с японскими.
В русистике точка зрения М. В. Панова не стала канонической, тогда как в японистике соответствующий класс выделяют постоянно. Может быть, стоит признать существование этого класса и в русском языке, в том числе и потому, что аналогичный класс может быть выделен и в языках иной типологии и иных семей.
С самим Михаилом Викторовичем я имел счастье познакомиться значительно позже, в 1993 году. Тогда же он подарил мне вышедшую тремя годами раньше свою книгу «История русского литературного произношения», которую я проглотил столь же стремительно, как когда-то книгу «И все-таки она хорошая», несмотря на значительно больший ее объем и менее популярный характер. И, читая книгу, я сразу начал мысленно сопоставлять описываемые там русские процессы с аналогичными японскими. Сначала я это делал совершенно бессознательно, а потом задумался, почему же это так. Результатом стала статья о литературном языке в России и Японии [Алпатов 1995].
Мне представляется, что книга [Панов 1990] по своей проблематике шире заглавия: речь там идет не только о произношении, но и об истории русского литературного языка в целом. По этому вопросу в нашей стране в XX в. было написано немало, но каждому, кто интересуется этой историей, я бы посоветовал прежде всего прочитать книгу Михаила Викторовича. Очень четко и понятно выделены основные этапы развития литературного языка в России в течение трех последних веков; все изложение, что очень важно, ведется по единой системе параметров, изменение которых прослеживается на протяжении всего изучаемого периода. Может быть, по простоте и ясности с книгой могут сравниться лишь пионерские труды Г. О. Винокура, но данная книга написана позже, с учетом достижений науки последних десятилетий и к тому же охватывает XX в., итоги которого мы сейчас подводим.
Желание сопоставить Россию с Японией в данном случае представляется интересным не просто потому, что у многих специалистов по «чужой» культуре возникает естественное желание сопоставить ее со своей собственной. Какими бы ни были разными и истоки японской и русской культуры (в том числе языковой), и современные их состояния, но было и нечто общее. И Россия, и Япония в течение длительного времени находились под значительным влиянием более развитых соседей – соответственно Византии и Китая, восприняв от них в том числе письменность (значительно преобразовавшуюся) и литературную традицию. Однако там и там речь шла не о копировании, а о создании собственной весьма оригинальной культуры. Затем обе страны вступили на путь того, что сейчас принято называть догоняющим развитием, ориентируясь на западные образцы и приспосабливая их к своим потребностям. И, что важно, там и там это делалось не по принуждению извне, как в колониях и полуколониях, а исходя из собственных нужд и интересов. Всё это также проявилось в развитии литературного языка.
Если взять, например, исходную для проблематики книги М. В. Панова российскую ситуацию конца XVII – начала XVIII в. и типологически сходную ситуацию в Японии середины XIX в., то можем видеть немало общего. Там и там разговаривали в быту на одном языке, не имевшем строгих норм, а писали на совсем другом языке. Точнее, в Японии писали (с распределением по жанрам) на двух языках: японизированном китайском (камбун) и на старописьменном японском (бунго), тогда как в России – лишь на церковнославянском, типологически сходном с бунго, а традиция писать по-гречески не сложилась. В период форсированной европеизации (петровское и последующее за ним время в России, эпоха Мэйдзи (1868–1912) в Японии) такая ситуация уже не могла быть приемлемой: на Западе давно были развиты стандартные (литературные) языки на разговорной основе.
В это время началось ускоренное формирование современного литературного языка, завершившееся в первой половине XIX в. в России и в начале XX в. в Японии. В этом процессе также было немало общего: быстрое размежевание нового языка со старым в области морфологии и длительное, сложное сосуществование двух слоев лексики, закончившееся их слиянием, тесная связь становления нового языка с развитием художественной прозы и др.
Далее мы видим период относительной стабильности и эволюционного развития уже сложившегося литературного языка (вторая половина XIX в. и начало XX в. в России, 10 – 30-е гг. XX в. в Японии). За ним последовал период новой нестабильности, временного расшатывания и частичного изменения норм, связанный с социальными потрясениями (русская революция, поражение Японии в мировой войне). Здесь также можно найти немало сходного вплоть до орфографических реформ, приблизивших написание к произношению. Потом опять период стабильных норм, в обеих странах активно поддерживаемых государством. В Японии он продолжается до сих пор, а в России в последние полтора десятилетия мы столкнулись с новым периодом нестабильности, который Панов уже не успел описать. Впрочем, и в Японии уже с 70-х гг. отмечают те же процессы сближения литературного языка с разговорным, что и у нас [Neustupny 1978], но, конечно, не столь быстрые и бурные.
Михаил Викторович читал мою статью в рукописи и написал мне о ней письмо. Из него видно, что именно проблема чередования периодов стабильности и нестабильности более всего заинтересовала его в статье. Письмо, как мне представляется, важно, поскольку включает в себя изложение теоретических идей ученого. Письмо датировано лишь годом, но, насколько я помню, оно написано в сентябре или октябре 1993 г.
Дорогой Владимир Михайлович!
Ваша работа «Литературный язык в России и Японии (опыт сопоставительного анализа)» захватывающе интересна. И дело не только в новизне материала (для русиста): сами методы сопоставления, сама «мыслительная суть», теоретические выводы вызывают массу отзывов у читателя.
Смел замысел: найти общность в развитии таких системно различных языков, как русский и японский. Тем более языков, не вступавших в систематические контакты, в культурную перекличку.
Очень большое значение имеют Ваши наблюдения, как в двух языках планомерно сменяются периоды стабилизации, торжества нормативности и периоды «вольности», отказа от нормативной скованности. Не характерно ли это вообще для истории литературных языков? М. б., язык чередует эпохи укрепления обязательных норм и эпохи их ослабленности, поисков новых путей – и это типично для разных языков?
И написано все очень хорошим, прозрачным, вразумительным языком
Ваш Панов М. В.
1993
Были, конечно, и существенные различия между двумя странами. Япония вступила на путь вестернизации позже, чем Россия, и ей необходимо было проходить этот путь намного быстрее. И в языковой области мы видим, что японцы двигались быстрее, как бы «перепрыгивая» через некоторые этапы. Применяя русские аналоги, там от петровской эпохи и опытов раннего Тредиаковского сразу двинулись к эпохе Карамзина, минуя занявший примерно полвека этап «трех штилей», связанный с именем Ломоносова. И еще важнее то, что в Японии по времени совпали два процесса: формирования нового литературного языка и его всеобщего распространения. В ту же эпоху Мэйдзи были достигнуты в младшем и среднем поколении японцев всеобщая грамотность и всеобщее хотя бы пассивное владение стандартным языком. В России этого удалось достичь лишь через столетие после Карамзина и Пушкина. С другой стороны, бунго сопротивлялся новому языку гораздо более стойко, чем церковнославянский язык. Последний, в отличие от бунго, имел ярко выраженную религиозную окраску и после установления господства светской культуры ушел на периферию. А бунго в ряде функций устойчиво сохранялся вплоть до американской оккупации 1945–1952 гг., когда был окончательно отменен.
Книга [Панов 1990] и другие отечественные работы многое помогают понять в истории японского литературного языка. В то же время японская ситуация где-то уточняет выводы, полученные на русском материале, а где-то ставит вопросы, обычно не рассматриваемые русистами.
Вот один только вопрос, не рассмотренный у М. В. Панова и, кажется (хотя я, может быть, и ошибаюсь), в истории русского литературного языка вообще. Почему в самодержавной России тексты, созданные царями и императорами, не считались образцами «хорошего» языка? Личная роль монархов в развитии русского литературного языка не была значительной (в отличие от более заметной роли Людовика XIV и других королей в развитии французского литературного языка). Можно вспомнить лишь неудачные попытки вмешательства Павла I в лексику русского языка. Но и в этом случае речь шла об указах о языке, а не о языке указов. Первый сборник избранных речей Николая II вышел лишь в 1905 г., на одиннадцатый год царствования. А в это же время в Японии во всех школах выучивали наизусть указ императора Мэйдзи об образовании, установивший всеобщую систему начального школьного обучения.
Создается впечатление, что русская ситуация кажется отечественным исследователям естественной и не нуждающейся в объяснении. Но в Японии было иначе. Причин, как мне кажется, было по крайней мере две. Во-первых, в России монарх (реально обладавший гораздо большей властью, чем японский император) не был сакральной фигурой. Это был «сильный и славный», но человек, и от него нельзя было требовать, например, обязательного литературного таланта. В Японии же до 1945 г. официально господствовала концепция божественного происхождения императора, и всё исходившее от него по определению считалось высшим. Другая причина была в разной иерархии жанров. В России самыми престижными текстами сначала считались религиозные, потом художественные, а язык официальных документов всегда рассматривался как не очень «высокий», даже если исходил из высших сфер. В Японии же всегда в иерархии жанров выше всего стоял язык официальных текстов, прежде всего, исходивших от императора. Показательно, что их писали на самом престижном из использовавшихся языков. Веками их писали на камбуне, который ценился выше, чем бунго, а после отмены камбуна в начале эпохи Мэйдзи – на бунго (на нем был написан и указ об образовании). Лишь со времен американской оккупации не только реформировали орфографию, но и перешли к написанию официальных текстов на современном языке, давно уже господствовавшем в иных жанрах (кроме традиционных жанров поэзии).
Где-то японские реалии уточняют формулировки М. В. Панова. Он, например, пишет: «Есть две системы словесного общения, и ими владеет один и тот же народ, более того: одна и та же территориальная и социальная группа людей. Когда такие системы надо считать двумя языками (а не стилями, не разновидностями одного языка)? Самый простой и, может быть, самый убедительный ответ: когда каждой системе нужно отдельно учиться. По-другому (но то же): когда знание одной системы нельзя по каким-то правилам превратить в знание другой» [Панов 1990: 319]. По этому критерию, безусловно, отдельными языками окажутся и церковнославянский язык, и бунго. Но как быть с камбуном? Этот язык был чисто письменным: образованные японцы средних веков знали иероглифы и правила их сочетания в китайском языке, но не владели устным вариантом китайского языка и могли их прочесть только по-японски, как правило, на бунго. В помощь такому чтению имелась система специальных значков, позволявшая произносить иероглифы в японском, а не в китайском порядке, и добавлять нужные грамматические показатели, отсутствовавшие в китайском. То есть «правила, превращавшие знание одной системы в знание другой», безусловно, были; без них текст на камбуне нельзя было произнести вслух. Но, разумеется, камбуну и бунго надо было учиться отдельно друг от друга (тем более что и на письме они различались: камбун – чисто иероглифическое письмо, тексты на бунго в более ранние эпохи писались японской азбукой – каной, позже – смесью каны и иероглифов).
А вот вопрос, относящийся к другой эпохе. Обращаясь к современности, то есть к позднесоветскому времени, М. В. Панов противопоставляет кодифицированный литературный язык (КЛЯ) и разговорный язык (РЯ). Он пишет: «РЯ – не кодифицированный… Он усваивается только путем непосредственного общения между культурными людьми. Ведь РЯ – одна из двух систем, составляющих литературный (культурный) язык, поэтому его носители – те же лица, которые владеют КЛЯ» [Панов 1990: 19]. Здесь же он связывает появление РЯ с реакцией на «оказенивание» литературного языка в советский период [Панов 1990: 19], считая, что до революции РЯ не было.
Вопрос о времени появления РЯ в составе русского языка мне представляется спорным. Но независимо от этого утверждение о формировании и существовании РЯ как реакции на «советскую культуру», естественное для оппозиционной к власти интеллигенции 70 – 80-х гг., не подтверждается тем, что и в Японии выделяется аналог РЯ. Многие японские исследователи отмечают большое языковое варьирование в японском обществе, далеко не сводящееся к разграничению литературного языка, диалектов и просторечия. Скажем, один из японских исследователей отмечает, что японские студенты пишут сочинения на правильном литературном языке, а говорят между собой совершенно иначе [Gengo-seikatsu 1984, 11: 8 – 12]. Постоянно приводятся примеры слов и форм, которые не соответствуют стандартным нормам, но допускаются в разговорной речи образованных людей, например потенциальная форма от глагола 'видеть' mireru вместо строго нормативной формы mirareru. В японской науке, в отличие от русской, принято различать два понятия: строго нормативный язык – hyoojungo, буквально – стандартный язык, и более вариативный язык, допускающий не слишком большие отклонения от стандарта, но понятный для всех, – kyootsuugo, буквально – общий язык. Образованные японцы говорят на каком-то из вариантов «общего языка», а «стандартный язык» – скорее идеал, реально не достигаемый. Подробнее об этом различии см.: [Неверов 1982: 14–15]. В терминах М. В. Панова, первое понятие соответствует КЛЯ, а второе – КЛЯ и РЯ вместе. Кстати, распространено в Японии и недовольство «казенным» нормативным языком [Mizutani 1981: 146–149]. А сейчас уже очевидно, что смена у нас общественного строя в начале 90-х гг. не привела к исчезновению РЯ, стали лишь менее явными границы между ним и КЛЯ.
Японский опыт представляется показательным и в связи с орфографическими и другими языковыми реформами, в которых участвовал Панов. Долгое время ситуации в двух странах были (с опережением по времени в России) достаточно сходными. При формировании современных литературных языков первоначально орфография там и там оставалась традиционной, во многом не отражавшей современное произношение (в Японии просто заимствовали орфографию бунго), а орфоэпические нормы были, особенно в Японии, гораздо менее строги, чем орфографические. В эпоху первой стабилизации литературной нормы что-либо изменить оказалось невозможным. В 1917–1918 гг. в России, а в 1946–1952 гг. в Японии провели реформу, у нас коснувшуюся лишь орфографии, а в Японии – и грамматических норм, особенно в формах вежливости (а орфографическая реформа, помимо упрощения орфографии каны, упростила и иероглифику). Коренные изменения жизни способствовали тому, что и в данной области к нововведениям привыкли, хотя в Японии некоторые реформы оказались максималистскими: стремились сильно сократить количество иероглифов, но довольно многие из упраздненных иероглифов на деле продолжали и продолжают употребляться.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































