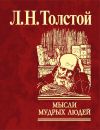Текст книги "Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Том 1"

Автор книги: Сборник
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Не забуду одного вечера, когда Лев Николаевич приехал однажды к нам в Шаховское, в начале 70-х годов, верхом, взбешенный и взволнованный, и начал говорить, что бросает Россию навсегда, что при существующих порядках жить в России нельзя. Насилу мы его успокоили, особенно обязаны были этим более всего П. Ф. Самарину. Оказалось, что бык в стаде Ясной Поляны забодал пастуха, и судебный следователь обязал Льва Николаевича невыездом и возбудил оригинальное уголовное дело[341]341
Случай с пастухом произошел в июле 1872 г., в бытность Толстого в Самаре. По возвращении в Ясную Поляну Толстой был привлечен к судебной ответственности. Он писал А. А. Толстой 15 сентября 1872 г.: «Молодой бык в Ясной Поляне убил пастуха, и я под следствием, под арестом – не могу выходить из дома (все это по произволу мальчика, называемого судебным следователем) и на днях должен обвиняться и защищаться в суде… Если я не умру от злости и тоски в остроге, куда они, вероятно, посадят меня (я убедился, что они ненавидят меня), я решился переехать в Англию навсегда или до того времени, пока свобода и достоинство каждого человека не будет у нас обеспечено» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 61. С. 314).
[Закрыть].
– Это тот же арест! – горячился Лев Николаевич. – Этот же самый судебный следователь засадил одного яснополянского крестьянина в острог и продержал его около года. А оказалось, что мужик совсем не виновен. На днях к соседней помещице этот же судебный следователь привез мертвое тело и стал его потрошить у нее на балконе… Это возмутительно! Как можно жить при таких условиях!
П. Ф. Самарин успокаивал Льва Николаевича, доказывая, что смерть человека, а в данном случае пастуха его, настолько серьезный факт, что судебное ведомство не может оставить его без расследования. К ночи Лев Николаевич успокоился и спокойно заснул. Но к утру опять тревога: прискакал нарочный из Крапивны с требованием Толстого в окружный суд – как присяжного заседателя. Лев Николаевич опять заволновался, но не поехал, отписавшись, что он обязан невыездом.
Под влиянием всех этих судебных инцидентов Лев Николаевич написал письмо в Петербург, но вскоре совершенно успокоился и перестал думать о выезде в Англию[342]342
В письме Н. Н. Страхову от 23 сентября 1872 г. Толстой сообщил последующий ход дела: «Можете себе представить, что меня промучили месяц, и до сих пор подписка о невыезде не снята, и нашли, что кто-то (следователь) ошибся, что точно это дело до меня не касается… В Англию тоже не еду; потому что дело не дошло до суда. А я решил, что в случае суда уеду и уехал бы» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 61. С. 320).
[Закрыть].
Он описал все в письме к своей тетке графине А. А. Толстой – воспитательнице великой княжны Марии Александровны. А. А. Толстая прочла письмо Льва Николаевича государю Александру II[343]343
В письмо А. А. Толстой от 20–21 сентября 1872 г. содержится следующее признание Толстого: «Когда я вспомню, что я написал вам с задней мыслью (теперь для меня ясной) о том, что вы разгласите то, что со мной случилось в той среде, в которой вы живете, – я краснею от стыда, особенно когда вспомню ваш ответ» (там же. C. 319).
[Закрыть], который принял к сердцу историю с Толстым и, кажется, обратил особенное внимание на несуразности, творившиеся тогда в судебном ведомстве.
Новые думы завладели Львом Николаевичем. Появились «В чем моя вера» и другие философские и религиозные работы, которые, впрочем, занимали Льва Николаевича еще и во время писания «Анны Карениной». Он вел продолжительные споры с редстокистами[344]344
Приверженцы религиозно-пацифистского проповедника лорда Г. Редстока, бросившего военную службу. В 1874 г. он приезжал в Петербург. Его проповеднические речи имели некоторый успех в светском обществе. Под его влиянием в России возникла секта пашковцев – по фамилии бывшего полковника В. А. Пашкова.
[Закрыть], которые помышляли сделать из него своего адепта. Однако полет Льва Николаевича был куда выше их усилий. Но гг. Редсток, Пашков, гр. А. П. Бобринский и др. еще не знали тогда Льва Николаевича и надеялись сделать его своим.
– Мне нужен редстокист, но настоящий, – как-то сказал мне Лев Николаевич.
И мне удалось завезти в Ясную Поляну бывшего министра путей сообщения, графа А. П. Бобринского. Спор его с Львом Николаевичем был очень интересен и отразился на нескольких страницах в «Анне Карениной», где Алексей Александрович Каренин делается редстокистом, оставляя свой высокий служебный пост…
Но гр. Бобринский остался не особенно доволен результатами своей миссии.
Евгений Скайлер
Граф Л. Н. Толстой двадцать лет назад
‹Отрывок›
‹…› Так как мы вечера и часть утра проводили в кабинете графа, наполненном книгами, разговор, естественно, касался литературы. В промежутках я помогал ему приводить в порядок его библиотеку, большую часть которой занимали старые французские книги, доставшиеся ему после отца или деда; но в ней находились также лучшие произведения литературы Англии, Франции, Германии и Италии, не говоря о русских книгах и завидном собрании сочинений о Наполеоне и его времени, которыми он пользовался для «Войны и мира». Из сих последних мне удалось впоследствии получить некоторые… К несчастию, я не сохранил большей части моих заметок о наших литературных разговорах. Некоторые суждения, однако, произвели на меня сильное впечатление.
Толстой был весьма высокого мнения об английских повестях, не только в художественном отношении, но в особенности за их натурализм – слово, бывшее тогда в большом ходу.
– Во французской литературе, – говорил он, – я ценю выше всего романы Александра Дюма и Поль де Кока.
На это я смотрел с изумлением, так как я в то время был строго проникнут господствующею тогда школою.
– Нет, – отвечал он, – не говорите мне ничего о той бессмыслице, что Поль де Кок безнравствен. Он, по английским понятиям, несколько неприличен. Он более или менее то, что французы называют leste u gaulois[345]345
Легкомысленным и вольным (франц.).
[Закрыть], но никогда не безнравствен. Что бы он ни говорил в своих сочинениях и вопреки его маленьким вольным шуткам, – направление его совершенно нравственное. Он – французский Диккенс. Характеры его все заимствованы из жизни и также совершенны. Когда я был в Париже, я обыкновенно проводил половину времени в омнибусах, забавляясь просто наблюдением народа; и могу вас уверить, что каждого из пассажиров я находил в одном из романов Поль де Кока. А что касается до Дюма, каждый из романистов должен знать его сердцем. Интриги у него чудесные, не говоря об отделке: я могу его читать и перечитывать, но завязки и интриги составляют его главную цель.
О Бальзаке Толстой не столько заботился. Из других писателей я ныне могу вспомнить только Шопенгауэра, которым он в то время очень восхищался и коего немецкий стиль особенно ценил.
Мы говорили о современных русских писателях, и, естественным образом, разговор перешел и на его собственные сочинения, о которых он отзывался с большою откровенностью. «Война и мир», которая тогда печаталась, сделалась предметом долгой беседы. ‹…›
‹…› О французской оккупации и о пожаре Москвы Толстой всегда высказывался в одинаковых, более строгих выражениях, чем те, которые впоследствии употребил в своем романе, приписывая пожар единственно случайности. Он показал мне большую, библиотеку, состоящую из избранных им для его исследований книг, и указал на некоторые интересные записки и памфлеты, весьма редкие и мало известные. О Ростопчине он говорил с большим презрением. Ростопчин всегда отрицал, чтобы он был причастен к пожару Москвы, до тех пор, когда нашел нужным оправдать себя. Французы приписывали пожар ему, и впоследствии, во время пребывания его во Франции, после Реставрации, это считалось славным актом патриотизма. Сперва он принял это с скромностью, а после бесстыдно хвастался этим. Легенда образовалась живо, частью благодаря шовинизму французских историков, частью благодаря влиянию Сегюров (один из них был женат на его дочери) и их многочисленных родственников и последователей.
Граф Л. Толстой настаивал на точности и особенно на добросовестности в деле истории и говорил: «Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами».
От этого разговор перешел на деятельность исторических личностей и происшествия; все это впоследствии так подробно сказано им в эпилоге «Войны и мира», что нет надобности повторять это здесь. ‹…›
«Казаки», как уверял меня Толстой, была истинная история и была рассказана ему однажды неким офицером, ночью, когда они вместе путешествовали, и даже не на Кавказе, а на севере России. То, что он написал, было, впрочем, только первой частью, и он все надеялся когда-нибудь дописать повесть. Вообще, может быть, это и лучше; как часть, она в этом виде превосходна; это идиллия, а не полная история.
Я говорил Толстому о первом моем знакомстве с Тургеневым в Баден-Бадене, за год перед тем, который советовал мне, если я желаю сделать нечто более, перевести «Казаков», которых он считал прелестнейшим и совершеннейшим произведением русской литературы. Я просил Толстого дать мне позволение на перевод, которое и было охотно дано, но я сперва попробовал перевести один из севастопольских рассказов, так что я начал «Казаков», когда переменил свой служебный пост, и разные обязанности отложили окончание моего перевода на целые десять лет[346]346
Перевод Е. Скайлера «Казаков» был издан в 1872 г. Толстой о нем писал И. С. Тургеневу 27 октября 1878 г.: «… кажется очень хорошо переведено» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 62. С. 446).
[Закрыть].
Толстой с видимым удовольствием принял похвалы Тургенева, высоко ценил его последние сочинения, – «Дым» только что был издан незадолго перед тем[347]347
На самом деле Толстой к «Дыму» относился отрицательно, о чем он писал А. А. Фету 28 июня 1867 г. (см. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 61. C. 172). О ссоре Тургенева с Толстым см. воспоминания Фета в наст. томе.
[Закрыть], – и говорил о писателе в дружеских и симпатичных выражениях. Из того, что он говорил, как и из того, как всегда отзывался о Толстом Тургенев, который и дал мне к Толстому рекомендательное письмо, я никогда не мог бы вообразить, что между друзьями был разрыв и что ссора продолжалась в течение многих лет. ‹…›
Помогая Толстому приводить в порядок его библиотеку, я помню, что собранию сочинений Ауэрбаха было дано первое место на первой полке, и, вынув два тома «Ein neues Leben»[348]348
«Новая жизнь» (нем.).
[Закрыть], Толстой сказал мне, чтобы я прочел их, когда лягу спать, как весьма замечательную книгу, и прибавил:
– Этому писателю я был обязан, что открыл школу для моих крестьян и заинтересовался народным образованием. Когда я во второй раз вернулся в Европу, я посетил Ауэрбаха, не называя себя. Когда он вошел в комнату, я сказал только: «Я Евгений Бауман»[349]349
Бертольда Ауэрбаха Толстой посетил 9 апреля 1861 г. (ст. ст.). Евгений Бауман, народный учитель – герой романа Ауэрбаха «Новая жизнь». Его имя присваивает себе другой титулованный герой, который хочет начать новую жизнь.
[Закрыть], и когда он выразил недоумение, я поспешил прибавить: «Не действительно по имени, но по характеру»; и тогда я сказал ему, кто я, как сочинения его заставили меня думать и как хорошо они на меня подействовали.
Случай привел меня следующею зимою провести несколько дней в Берлине, где в гостеприимном доме американского посланника Банкрофта я имел удовольствие встретить Ауэрбаха, с которым тогда я близко познакомился. В разговоре о России мы говорили и о Толстом и я напомнил ему об этом случае.
– Да, – сказал он, – я всегда вспоминаю, как я испугался, когда этот странно глядевший господин сказал мне, что он Евгений Бауман, потому что я боялся, что он будет грозить мне за пасквиль или диффамацию.
«Ein neues Leben» естественным образом подало нам повод говорить о крестьянских школах и вообще о крестьянском сословии, о результатах эмансипации. ‹…›
Школа Толстого была свободна во многих отношениях, потому что не было никакого покушения вводить порядок или дисциплину, а преподавались только такие предметы, которые интересовали учеников, и только до тех пор, пока этот интерес продолжался. Важным вопросом, по его мнению, было: чему можно учить и как учить?
– В разрешении этих вопросов мне помогал род педагогического такта, какой я имел особенно вследствие моей ревности к делу. Установив самые тесные личные отношения с сорока маленькими людьми, составлявшими мою школу (я называю их маленькими людьми, потому что нашел в них те же самые черты: проницательность и знание практической жизни, веселость, простоту, непосредственность, присущие вообще русским крестьянам); наблюдая их впечатлительность и потребность приобрести необходимые знания, я скоро почувствовал, что старое церковное учение отжило свой век, и не последовал ему. После этого я пробовал методы, предлагаемые педагогическими писателями, особенно немецкими, и нашел, что и они не годятся, особенно те, где старались учить наглядно или по слуху, тем более потому, что были не по вкусу ученикам, которые часто над этим смеялись. Принуждение было противно моему взгляду, и поэтому, когда я находил, что предмет не нравится, я искал нечто такое, чему ученики были рады учиться. В то же время я испытывал, каким бы путем лучше обучить даже этим предметам. Те, которые лично узнали мою школу, одобряли и применяли некоторые из моих соображений, которые я иногда подробно излагал в основанном мною с этою целью журнале. Но я должен сознаться, что мне надоело– я был тогда моложе – не столько то, что мои идеи не принимались, как то, что те, которые были официально призваны к интересам образования, не считали достойным возражать мне, а относились к моим идеям с полным равнодушием.
При обсуждении метод преподавания Толстой указал на три начала, как основные: «Учитель всегда невольным образом при преподавании употребляет ту методу, которая ему самому более удобна. Более удобная для учителя всегда менее удобная для учеников. Единственно хорошая метода та, которая удовлетворяет учеников».
Что всегда особенно озабочивало его и занимало его внимание – было найти лучшую методу для обучения детей чтению. Он много расспрашивал меня о новых методах, употребляемых в Америке, и по его просьбе я мог доставить ему – я думаю, благодаря любезности г. Гаррисона, из «Nation» – хороший выбор американских начальных и элементарных способов обучения чтению. В одном из них я помню, что произношение различных гласных и некоторых согласных было представлено наглядно буквами, в общем виде похожими на обыкновенные буквы, но с особенными отличиями, которые тотчас бросались в глаза. Эти книги Толстой пробовал применить при изготовлении своей азбуки, на что он потратил много времени, но издание или употребление которой в школах было запрещено министром народного просвещения. ‹…›
С. Л. Толстой
Мой отец в семидесятых годах, – высказывания его о литературе и писателях
I
В детстве у нас, троих старших, то есть у меня, сестры Тани и брата Ильи, было совсем особенное отношение к отцу, иное, мне кажется, чем в других семьях. Для нас его суждения были беспрекословны, его советы – обязательны. Мы думали, что он знает все наши мысли и чувства и только не всегда говорит, что знает. Я плохо выдерживал взгляд его пытливых небольших стальных глаз, а когда он меня спрашивал о чем-нибудь, – а он любил спрашивать о том, на что не хотелось отвечать, – я не мог солгать, даже увильнуть от ответа, хотя часто мне этого хотелось.
Мы не только любили его; он занимал очень большое место в нашей жизни; и мы чувствовали, что он подавляет наши личности, так что иной раз хотелось вырваться из-под этого давления. В детстве это было бессознательное чувство, позднее оно стало сознательным, и тогда у меня и у моих братьев явился некоторый дух противоречия по отношению к отцу.
В детстве наше первое удовольствие состояло в том, чтобы отец так или иначе занимался с нами, чтобы он взял нас с собой на прогулку, по хозяйству, на охоту или в какую-нибудь поездку, чтобы он нам что-нибудь рассказывал, делал с нами гимнастику и т. д. Он не был ласков с нами обычными проявлениями нежности: поцелуями, подарками, ласковыми словами, редко дарил игрушки; но мы всегда чувствовали его любовь к нам и доволен ли он нашим поведением. Если он назовет меня «Сергулевич» вместо обычного «Сережа», это была уже ласка. А то он, бывало, тихонько подойдет сзади и молча закроет мне глаза обеими руками. Угадать, кто это сделал, было нетрудно. Или он возьмет меня за обе руки и скажет: «Лезь на меня». Я карабкаюсь по его телу до самых плеч, он меня подтягивает за руки, и я сажусь или становлюсь на его плечо. Тогда он, поддерживая меня, пройдется по комнате, потом как-то сразу перекувыркнет вниз головой, и я опять становлюсь на ноги. Мы очень любили эти телодвижения, и если отец проделает их с одним из нас, например со мной, то сейчас же сестра Таня или брат Илья закричат: «И меня, и меня!»
Мы находили особую прелесть даже в запахе отца, в запахе его фланелевой блузы, здорового пота и табака; в то время он курил.
Одно из наших любимых занятий с отцом была гимнастика. Начиналось это так: мы становились в ряд, отец перед нами, и мы должны были в точности подражать его движениям: ритмически поворачивать голову направо, налево, вверх и вниз, сгибать и разгибать руки, подымать и опускать поочередно правую и левую ногу, приседать, кланяться, не сгибая колен и доставая землю руками, и т. д. Был также козел, через который мы прыгали.
Вообще отец придавал большое значение физическому развитию тела. Он поощрял гимнастику, плавание, бегание, всякие игры, лапту, городки, бары и особенно верховую езду. Иногда на прогулке он скажет: бежим наперегонки. И все мы бежим за ним.
Известно, как мы изображали «нумидийскую конницу»: отец вдруг вскакивал из-за стола и, помахивая поднятой рукой, бежал вокруг стола, и все мы, также подняв руку, бежали за ним. Почему это называлось нумидийской конницей, никому, в том числе и моему отцу, было совершенно неизвестно. Нумидийская конница действовала освежающе на настроение, особенно после скучных гостей. Ее привез из училища правоведения дядя Степа Берс[350]350
О нем см. в коммент. к его воспоминаниям в наст. томе. О «нумидийской коннице» упоминается также в воспоминаниях Е. В. Оболенской.
[Закрыть]; не знаю, какое было ее символическое значение в этом училище.
Отец очень редко наказывал нас, не ставил в угол, редко бранил, даже редко упрекал, никогда не бил, не драл за уши и т. п., но, по разным признакам, мы чувствовали, как он к нам относится. Наказание его было – немилость: не обращает внимания, не возьмет с собою, скажет что-нибудь ироническое. В нашем детстве или даже позднее, в зависимости от нашего поведения, а иногда и без видимой причины, у него были временные любимцы, то один из нас, то другой. Постоянных любимцев у него не было. Только позднее, когда уже мы были взрослыми, он больше всего ценил сочувствие его взглядам. По-видимому, у него не было особой системы воспитания. Он делал замечания, намекал на наши недостатки, иронизировал, шуточкой давал понять, что мы ведем себя не так, как следует, или рассказывал какой-нибудь анекдот или случай, в котором легко было усмотреть намек.
Иногда он раздражался и возвышал голос, особенно во время уроков, но я не помню, чтобы он при этом употреблял грубые слова; случалось только, что он прогонял с урока.
Больше всего он был недоволен нами за ложь и грубость с кем бы то ни было – с матерью, воспитателями или прислугой. Но иногда он делал замечания по менее серьезным поводам. Например, он замечал, когда мы ели с ножа или резали рыбу ножом; в обществе это считалось дурными манерами; в прежнее время этому приписывалось значение. Так, в «Анне Карениной» Анна говорит про кого-то: «Он не то что нигилист, а ест с ножа»[351]351
Анна Каренина говорит Долли: «Потом, доктор, молодой человек, не то что совсем нигилист, но, знаешь, ест ножом…» («Анна Каренина», ч. VI, гл. 19).
[Закрыть].
Когда я сутуловато держался, он скажет: «Сядь прямо» или подтолкнет меня в спину. Или, заметив, что я стремился участвовать во всяких играх и увеселениях, слушать разговоры, которые меня не касались, вообще совать свой нос куда не следует, говаривал: «Ты все боишься пропустить», то есть пропустить случай получить удовольствие или узнать что-нибудь интересное. Он действительно подметил черту моего характера, которая впоследствии приводила меня к тому, что я нередко интересовался и занимался не тем, чем следовало.
Когда кто-нибудь из нас рассказывал что-нибудь такое, что должно было казаться смешным или остроумным, и сам при этом смеялся, отец говорил: есть три сорта рассказчиков смешного: низший сорт – это те, которые во время своего рассказа сами смеются, а слушатели не смеются; средний сорт – это те, которые сами смеются и слушатели тоже смеются, а высший сорт – это те, которые сами не смеются, а смеются только слушатели. Вообще он советовал, когда рассказываешь что-нибудь смешное, самому не смеяться, а то вдруг у слушателей сделаются скучные лица, и станет неловко.
Когда я тщился острить и каламбурить, он говорил: твои остроты вроде лотереи. Редко выпадает выигрыш, а все больше пустой билетик с надписью «аллегри». И на какую-нибудь мою глупость, претендующую на остроумие, он, бывало, скажет: «Аллегри!»[352]352
Аллегри (итал.) – лотерея, в которой розыгрыш производится сразу же после покупки билета.
[Закрыть], или: «Не вышло!».
Когда я делал что-нибудь нечаянно – разобью посуду, разорву или запачкаю свое или чужое платье, забуду данное мне поручение – и оправдываюсь тем, что я это сделал нечаянно, то он, бывало, скажет:
– Вот за это я тебя и упрекаю, что ты сделал это нечаянно. Надо стараться ничего нечаянно не делать.
Еще он говорил:
– Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай.
В 60-х и 70-х годах, до «кризиса», отец был во многом не тем, каким он был впоследствии. Тогда он был жизнерадостен и властен.
В моем детстве во взглядах отца даже чувствовался аристократизм, хотя прямо он его и не высказывал. Более определенно аристократизм высказывался матерью. Отец приписывал некоторое значение наследственности, но под аристократизмом он понимал прежде всего благовоспитанность в лучшем смысле этого слова, чувство собственного достоинства, образованность, сдержанность, великодушие и т. п. Вместе с аристократизмом в этом смысле в нем всегда совмещалось особое уважение и любовь к крестьянству – к нашим кормильцам, как он всегда выражался, и это уважение он внушал и нам. Впоследствии он решительно отрекся от аристократизма.
Отец не любил фамильярности в отношениях между друзьями и даже между родными. Он говорил: «Есть приятели, которые хлопают друг друга по ляжке и приговаривают: «Подлец ты, мой любезный!», или: «Ах ты, милая моя каналья!». Это – «амикошонство»[353]353
От франц. ami – друг и cochon – свинья.
[Закрыть] (свиная дружба).
Примером к тому, что настоящая благовоспитанность состоит в том, чтобы облегчать, а не усложнять отношения с людьми, служил известный анекдот, как Людовик XIV, испытывая одного gentilhomm’а, прославленного за свою учтивость, предложил ему войти в карету раньше него – короля. Тот немедленно повиновался и сел в карету. «Вот истинно благовоспитанный человек», – сказал король. А когда Чичиков и Манилов толкутся в дверях, уступая друг другу дорогу, говорил отец, – это нельзя назвать благовоспитанностью.
II
Привычки отца в 60-х и 70-х годах были иные, чем впоследствии. Он курил насыпные папиросы, набитые для него моей матерью, перед обедом иногда пил домашний травник из маленькой серебряной чарочки и небольшую рюмку белого воронцовского вина, ел мясо и охотился. Несмотря на почти полное отсутствие зубов, он скоро ел и мало жевал; сознавая, что это вредно, он говаривал: «Pour se bien porter il faut bien marcher et bien mâcher»[354]354
«Чтобы быть здоровым, надо хорошо ходить и хорошо жевать» (франц.).
[Закрыть].
На моей памяти он не брился и носил бороду. Волосы на голове и бороду ему подстригали – он сам или моя мать – раз в месяц, в новолунье[355]355
В этой фазе луну не видно: она находится между землей и солнцем.
[Закрыть]. Этому, он говорил, он научился у магометан.
Дома он не носил крахмальную рубашку и одевался в свою традиционную блузу, зимой – в серую фланелевую, летом – в парусинную; эти блузы кроила и шила ему одна старая дворовая, Варвара, дочь его дядьки Николая, жившая на деревне, или моя мать. Но когда он ездил в Москву, он надевал крахмальную рубашку и хорошо сшитый сюртук, заказанный у московского портного.
Распределение дня в продолжение нашей жизни в Ясной Поляне до 1881 года было довольно правильно и мало изменялось с сентября по май, то есть в те месяцы, когда отец писал и когда мы, его дети, учились. Летом время распределялось иначе – более разнообразно.
В учебные месяцы мы – дети и педагоги – вставали между восемью и девятью часами и шли пить кофе наверх в залу. После девяти отец в халате, еще неодетый и неумытый, с скомканной бородой, приходил из спальни вниз, в комнату под залой. Внизу он умывался и одевался. Если мы встречали его по пути, он нехотя и торопливо здоровался; мы говорили: «Папа не в духе, пока не умоется». Затем он приходил в залу пить кофе. При этом он обыкновенно съедал два яйца всмятку, выпустив их в стакан.
После этого он до обеда, то есть до пяти часов, ничего не ел. Позднее, начиная с конца 80-х годов, он стал вторично завтракать в два или три часа.
Утром за кофе отец был малоразговорчив и скоро уходил в свой кабинет, взяв с собой стакан чаю. С этого момента мы его почти не видели до обеда.
Моя мать вставала позднее, приходила в залу пить кофе часов в одиннадцать. Между двенадцатью и половиной первого подавался для нас – детей и педагогов – второй завтрак. Родители в этом втором завтраке обыкновенно не участвовали. Таким образом, самовар, кофе и завтрак не сходили со стола от девяти до половины первого.
Когда отец писал, то ни он, ни его семейные не говорили, что он работает, а всегда занимается. До так называемого кризиса он летом мало занимался, давая себе отдых на три летних месяца. В остальное время года, кроме некоторых осенних дней, когда он иногда целый день охотился, он работал почти ежедневно. Когда он занимался, к нему никто не смел входить, даже моя мать: ему нужна была полная тишина и уверенность, что никто не прервет его занятий. Когда его кабинет находился в комнате с большим итальянским окном[356]356
Описывается яснополянский дом.
[Закрыть], обе двери – из залы и из гостиной – запирались. Даже в соседнюю комнату можно было входить только тихо и осторожно. В зале тогда играть на фортепиано нельзя было, так как отец говорил, что он не может не слушать музыку, хотя бы еле слышную.
Не помню, в какие годы кабинет был переведен вниз – в комнату под залой, и позднее – в комнату под сводами. В 1878 году отец поставил себе избушку в Чепыже[357]357
Дубовая посадка в усадьбе.
[Закрыть], куда летом уходил заниматься.
После занятий отец куда-нибудь уходил или уезжал верхом. Эти прогулки или поездки он делал или с известной целью – по хозяйству, на охоту, посетить кого-нибудь, на станцию и т. п., или же без определенной цели, большею частью в Засеку или на шоссе.
Эти прогулки без определенной цели были, может быть, самыми производительными, потому что на них он сосредоточивался и собирал материал для своих писаний.
Засека и шоссе были его любимыми прогулками.
Огромный казенный лес Засека[358]358
Тульские Засеки, в существующих границах (около 35 000 десятин), представляют часть тех лесов, которые служили Московскому государству защитою от набегов крымских и ногайских татар. В XVI столетии, когда крымские татары неожиданно вторгались, грабили, жгли и уводили в рабство жителей, московское царское правительство предприняло ряд мер для ограждения южных границ государства. Для этого оно посылало туда ратных людей, поселяло там служилых людей (помещиков) вместе с крестьянами и, пользуясь естественными условиями местности, возводило там укрепления. Пограничные леса-засеки не рубились; только в середине лесной полосы прокапывался ров, по сторонам которого лес засекался, то есть деревья подрезались так, чтобы образовать непроходимое заграждение для татарской конницы. Лишь в некоторых местах для проезда оставлялись укрепленные ворота, ограждаемые вооруженными людьми.
Когда надобность в защите от татар миновала, Засеки были обращены в казенные леса ‹…› (Прим. С. Л. Толстого.).
[Закрыть], с его просеками, малоезжими дорогами, чащами и оврагами, привлекал его своей дикостью, безлюдием, первобытностью и роскошью растительности. Туда Л. Толстой удалялся от повседневной суеты, там он созерцал природу, почти не тронутую человеком, там он мыслил. Он особенно любил выбирать малозаметные тропинки, не зная, куда они приведут, и бывать в таких частях Засеки, где он раньше не бывал. В лесу, так же как и в области мысли, он любил отыскивать новые пути. В этом он находил особую прелесть. Тропинки иногда прямо выводили его на торные пути, а иногда вели в чащу и глубокие овраги.
Другая любимая прогулка отца была по Киевскому шоссе.
Ясная Поляна стоит на большом пути, ведущем с севера России на Украину, в Крым, к берегам Черного моря. Отец помнил время, когда шоссе еще не было, а была только «большая дорога» или «большак»[359]359
Это была одна из больших скотопрогонных дорог, тридцатисаженной ширины, которые были проведены при Екатерине между многими городами Центральной России; эти дороги были когда-то обсажены ветлами и березами, в настоящее время не сохранившимися. «Старая дорога» проходила мимо яснополянского парка и через деревню Ясную Поляну. До постройки шоссе это был очень оживленный путь: здесь проезжали в дормезах и колясках, в бричках и тарантасах, санях и возках, и телегах и дровнях, на почтовых и на долгих; проезжали Пушкин, декабристы и многие другие. М. Н. Толстая, мать моего отца, из беседки парка видела, как по этой дороге провозили тело Александра I из Таганрога. (Прим. С. Л. Толстого.)
[Закрыть].
В его детстве в полуверсте от «старой дороги» было проведено так называемое Киевское шоссе, сократившее и улучшившее путь. Позднее, уже во время моего детства, в полуверсте от шоссе – еще дальше от Ясной Поляны – была построена Московско-Курская железная дорога.
Отец полушутя называл свою прогулку по шоссе выездом в «grand monde»[360]360
«Великосветское общество» (франц.).
[Закрыть] или прогулкой по Невскому проспекту.
В 60-х и 70-х годах по шоссе шло особенно много богомольцев и богомолок – в Киев, Соловки[361]361
Соловецкий монастырь на берегу Соловецкого острова в Белом море.
[Закрыть], Троицкую лавру[362]362
Троице-Сергиева лавра в Загорске.
[Закрыть], к Тихону Задонскому[363]363
Тихоновский монастырь близ г. Задонска Воронежской губ.
[Закрыть], в Оптину пустынь[364]364
Мужской монастырь в Козельском уезде Калужской губ.
[Закрыть], в Старый Иерусалим[365]365
Мужской монастырь близ Таганрога.
[Закрыть]и т. д. и обратно. Отец говорил, что немногими из этих странников руководило благочестие. Люди ходили на богомолье по разным причинам: кому плохо жилось дома, кому хотелось повидать божий мир, кто шел потому, что паломничество уважалось, и т. д. Богомольцы и богомолки шли ровным и медленным шагом верст по 30 в день, с котомками и узлами за спиной, в мягких чунях и обмотках; они шли обыкновенно по нескольку человек вместе, питались большею частью подаянием, ночевали где придется, редко мылись и редко меняли белье.
Проходя большие расстояния и встречаясь с многими людьми, богомольцы распространяли народную поэзию, пословицы, сказки, легенды, влияли на народное воззрение и разносили разные слухи.
Отец говорил, что рассказы странников заменяют народу литературу и даже газету. Он любил разговаривать с прохожими, идя по пути с ними или присев на краю дороги. Некоторые их легенды и рассказы превратились под его пером в художественные произведения. Знание быта рабочего народа, народного языка, местных наречий, северного, поволжского, украинского, многих поговорок и пословиц – все это отец приобретал на шоссе.
Тут же проезжали местные крестьяне, знакомые и незнакомые, трезвые и подгулявшие, с возами и порожняком; отец иногда просил их подвезти его, что обыкновенно охотно делалось. На шоссе же крестьяне били камень; он и с ними заводил разговор, а иногда и сам пробовал бить камень. Он говорил, что это очень тяжелая работа; после нее руки болят.
В 5 часов дня мы обедали. К этому времени отец приходил домой, нередко опаздывая. За обедом он бывал оживлен и рассказывал свои дневные впечатления.
Вечером, после обеда, он большею частью читал или, если бывали гости, разговаривал с ними; а иногда он занимался с нами, читал нам вслух или давал уроки. В это время дня доступ к нему был свободен; он даже не всегда закрывал двери в свой кабинет.
Около 10 часов вечера опять все жители Ясной Поляны были в сборе, приходили пить чай в залу. В это время, как и за обедом, отец, когда был в хорошем настроении и здоров, оживленно рассказывал, особенно когда бывали гости. Перед сном он обыкновенно опять читал; одно время он вечером каждый день играл на фортепиано.
Спать он ложился около часа ночи.
III
Отец умел читать, что далеко не всякий умеет. Он хорошо помнил прочитанное и различал книги, которые надо читать, не пропуская ничего, и книги, из которых надо выбрать только существенное или нужное. Таким образом он экономил свое время.
В те годы, когда мы оседло жили в Ясной Поляне, он много читал. Он научился греческому языку, собирал материал для своей «Азбуки» и «Книг для чтения», для задуманных им романов из времен Петра и из жизни декабристов, читал Четьи-Минеи[366]366
«Великие Четьи-Минеи» – собрание книг Священного писания, сочинений церковных писателей в двенадцати томах, каждый из которых соответствует определенному месяцу. Название – греческого происхождения – «ежемесячные чтения». Составлены под руководством митрополита Макария в 30-40-е годы XVI в.
[Закрыть], изучал русские былины и пословицы, а в конце 70-х годов – Евангелие и критику Священного писания.
Кроме того, он постоянно читал иностранную беллетристику, особенно английские и французские романы. Из английской литературы он читал Диккенса, Теккерея и семейные романы: Троллопа, Гумфри, Уорда, Джорджа Эллиота, Брайтона, Брэддона и др.
Известно, что он ставил Диккенса выше всех других английских романистов. Теккерея он находил несколько холодным, а из остальных романов хвалил «Адама Бида»[367]367
«Адам Бид» (1859) – роман Джордж Элиот (Мэри Анн Эванс).
[Закрыть] и «Векфильдского священника»[368]368
«Векфильдский священник» (1766) – роман О. Голдсмита.
[Закрыть].
Из французской литературы он читал Виктора Гюго, Флобера, Дроза, Фелье, Золя, Мопассана, Доде, Гонкуров и других.
Он особенно ценил «Les misérables»[369]369
«Отверженные».
[Закрыть] и «Le dernier jour d’un condamné»[370]370
«Последний день осужденного».
[Закрыть] Виктора Гюго, а из реалистов – Мопассана. Он был холоден к Флоберу, Бальзаку и Доде; Золя он читал с интересом, но считал его реализм преднамеренным, а его описания слишком подробными и мелочными.
– У Золя едят гуся на 20 страницах, это слишком долго, – говорил он про одно место в «La terre»[371]371
«Земля».
[Закрыть][372]372
Вероятно, имеется в виду описание именинного обеда в романе «Западня» (гл. VII).
[Закрыть].
Он мало читал немецкую беллетристику. Не помню, чтобы он читал что-нибудь, кроме Шиллера, Гете и Ауэрбаха. Нам он рекомендовал читать «Разбойников» Шиллера, «Вертера» и «Германа и Доротею» Гете.
Нельзя сказать, чтобы в 70-х годах он много читал текущую русскую литературу. Публицистику он почти не читал, а художественную литературу только проглядывал, когда она попадалась ему под руку. Он больше всего интересовался появлявшимися произведениями Тургенева, а из произведений Достоевского некоторые, например «Подросток», насколько я помню, остались ему неизвестными. «В лесах» и «На горах» Андрея Печерского (Мельникова) он не любил, говорил, что у Печерского «фальшивый тон», что он щеголяет местными народными словечками, а крестьянскую жизнь знает плохо. Он говорил про Мельникова-Печерского: «Фальшивая литература. Например, Печерский где-то пишет: «Русский человек не жалеет дерева. Он ронит вековой дуб, чтобы вырезать из него оглоблю». Слово «ронит» Печерский употребил, думая, что знает народный язык. Он не знает, что мужик никогда не станет вырезывать оглоблю из векового дуба, а срежет для этого молодую березку». В исторических романах, вроде «Юрия Милославского» и «Князя Серебряного», – подражаниях Вальтеру Скотту, которого отец не любил, – он указывал на неверное понимание быта эпохи; к историческим романам Данилевского, Мордовцева, Салиаса, Вс. Соловьева и других относился пренебрежительно.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?